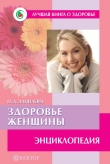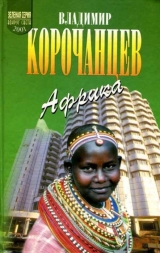
Текст книги "Африка — земля парадоксов"
Автор книги: Владимир Корочанцев
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Обычно ряженые бандиты набрасывались из чащи на путника, ранили и утаскивали его в лес, давали снадобье, вводившее его в летаргический сон, а затем на пироге увозили в Бельгийское Конго (ныне Демократическая Республика Конго). Целью злодейства было и порой остается обладание чужим сердцем, легкими, мозгом для укрепления собственного сердца и духа.
Непостижимо странным, невообразимым кажется тот феномен абсолютной потери совести, когда человек надевает маску. Как чувствует себя потом наглотавшийся крови «леопард» среди людей? Не гложет ли днем совесть того, кто ночью ощущал себя кровожадным львом? Наверное, слишком велик в человеке скрытый потенциал зла, если он извлекает удовольствие от высвобождения звериных инстинктов, если он чувствует себя счастливым при виде страдающих, умирающих соотечественников. Только ли в Африке случается такое? Разумеется, такие вопросы можно задать и обыкновенному матерому убийце.
Но маска маске рознь. Маски, в которых танцуют публично на ритуалах, возвышают. И при всех обстоятельствах одним из труднейших действ считается выход замаскированного человека из возникшего во время ритуала транса. «Духовный заряд» маски, экстатическое пребывание в роли божества опасны для здоровья, чреваты тяжелыми последствиями, и возврат к повседневной жизни требует предосторожностей, ибо носитель маски опять становится крестьянином, отцом семейства, а маска пылится в хранилище до того момента, когда в нее вновь вселится божество. Как же человеку забыть то, что произошло, – пусть даже он был отрешенным, беспамятным и безвольным сосудом для иного мощного, подавившего его существа?
…Маска – колдовской лик, хранитель моей деревни,
я приветствую тебя, как петух встречает песней зарю,
и как блудный сын исповедуюсь в моей измене…
– Мыслим ли африканец без маски? – спросил я автора этих строк камерунского поэта и государственного деятеля Франсуа Сенга-Куо.
– Конечно, нет, ибо маска оберегает нашу жизнь, устои морали, добра, борется со злом. Конечно, злые люди могут втайне использовать ее, но злу не избежать кары. Маска – это начало и конец моего народа, – ответил он и открыл отпечатанный на ротаторе сборник своих стихов на странице с миниатюрой «К маске»:
Ты прекрасна, ты пронзаешь мне сердце своей
человеческой правдой.
В глубине твоих глаз горят солнца изначальных времен,
и губы твои возвещают шепотом позабытые тайны.
Я знаю, ты не конец! Ты начало и обновление!..
– Вот тебе мой ответ, – промолвил он, когда я оторвался от чтения, и добавил: – От добра добра не ищут! Любой народ жив, пока его не заставят отказаться от себя самого, от родных обычаев.
ВРЕМЯ ПО-АФРИКАНСКИ
«Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю», – с некоторой горечью признался Августин в своей «Исповеди». Сам я тоже еще не встречал на свете человека, который взялся бы растолковать мне, что такое время, хотя в Африке и Европе мои друзья и знакомые иногда пытались посвятить меня в представления о времени, сложившиеся в их краях, но в конечном итоге все сводилось к объяснению времени в нашем субъективном разумении – и только.
В времени как явлении затаено нечто ускользающее, божественное, недоступное чувствам и разуму человека, зависящее только от неведомых ему внеземных сил. Оно капризно, очень переменчиво, обладает свойством то ускоряться, то замедляться. Когда мы чего-то ждем в будущем, то время тянется томительно долго, минуты превращаются в часы, а часам нет конца; когда же наши ожидания остались позади, то нам кажется, что все промчалось столь стремительно, будто ничего не было и вовсе, а наши прежние терзания выглядят смешными. Ну а настоящее вряд ли кому-то удается ощутить или почувствовать осязаемо, пощупать и понять, что это такое. Секунды и минуты стремглав пролетают мимо нас, часы и дни еще как-то можно увидеть, да и то лишь на мгновение.
«Реально – прошлого нет, – рассуждает архимандрит Рафаил (Карелин) в книге «Христианство и модернизм». – По отношению к человеку прошлое существует как воспоминание. Реально – будущего нет. По отношению к человеку будущее – предвидение. Будущее – это возможность, прошлое – то, что имеет в настоящем свои следствия. Будущее – небытие, прошлое – небытие, настоящее – грань между двумя безднами небытия, луч, тонкий, как геометрическая линия, непрестанно скользящий от будущего к прошлому». Настоящее – это, по сути, наша короткая, как миг, жизнь, которую человек либо проживет бессмысленно, грешно, растратит попусту, либо превратит в вечность любовью и добрыми делами. Это у Бога «день един яко тысяча лет и тысяча лет яко день един» (2 Петр. 3, 8), а у людей каждый день на счету – жаль лишь, что они этого чаще всего не успевают вовремя понять, а задумываются над смыслом своей жизни, своим предназначением слишком поздно.
А уж время во сне – особая статья, подлинное чудо нашей жизни. Сон для человека – переход в иную жизнь, близкую к вечности; он словно бы наполнен смыслом иного, непонятного нам мира, который напоминает что-то смутное, до боли знакомое, но непостижимое памятью, умом. В какой-то степени он дает иную меру времени – «трансцендентальную», с которой мы до сих пор не знаем, что делать. Время во сне не течет, а бежит, несется очень быстро, зачастую с нелогичной стремительностью для наших земных понятий, летит навстречу настоящему, против движения времени бодрствования.
Но останемся на грешной земле, в Африке. Наверное, яснее всего в относительности и равномерности времени отдают себе отчет африканцы. Однажды на берегу реки Конго я попытался выведать у вождя крошечной деревушки Нгессу, сколько ему лет. На мой вопрос в один голос громко рассмеялись и Нгессу, и его две супруги. Таковой была и примерная реакция многих других черных жителей Западной Африки, особенно женщин, на мои вопросы о возрасте. Они недоуменно пожимали плечами и прыскали, словно вы застигли их врасплох необыкновенно остроумной шуткой.
В глубинке по крайней мере девять черных африканцев из каждых десяти не ведают своих лет и ощущают течение времени по-своему. У них свое понимание ритма времени. Для них человек сначала очень молод, потом молод, затем вступает в средний возраст и, наконец, он стар, а потом, в один прекрасный день, навеки переезжает к предкам, и родичи хоронят новопреставленного, шумно радуясь и завидуя ему. Радуясь – потому что у них появился новый защитник в ином мире, завидуя тому, что он встретится с дорогими, любящими предками.
Представление о времени здесь совсем иное, чем в Европе. В Камеруне или Мали я сталкивался с тем, что люди в глубинке не только не знали, сколько им лет, но не могли точно объяснить, скажем, как давно болеют. Женщины звали на подмогу всю родню, чтобы растолковать мне, когда они в последний раз разрешились от бремени.
– Мои соплеменники живут одним текущим днем, одним мгновением, – пожал плечами камерунский писатель Франсуа Эвембе.
Судя по всему (по крайней мере, такое у меня сложилось впечатление), им неведомы наши сантименты – ни горечь по ушедшей молодости, ни страх перед старостью, ни беспокойство о завтрашнем дне. Как будет – так и будет. В этом есть свое счастье – измерять жизнь бесконечностью, верить в вечность, а не крохоборничать, пытаться урвать у судьбы минуты и мгновения. Африканец живет, пока он жив, теми событиями, которые реально происходят, а потом, покинув сей мир, тоже будет жить, но уже в другом измерении, среди любимых предков. По его понятиям, живые владеют землей вместе с мертвыми. Как? В это стоило бы вникнуть ученым. Не потому ли у луба начало лунного месяца сопровождалось бурной активностью? День же после появления молодой луны отдавался мертвым. Никто не работал, ибо на поле хозяйничали духи предков и могли забить ослушника дубинками.
– Нелегко добыть точное представление о времени, – раскрывает аббат Мвиена некоторые секреты соплеменников бети. – Ответы у них обычно уклончивые. Время «абок» включает в себя много черт. То оно предстает как череда циклов, которая вписывается в существование существ и развертывание земных событий, то оно производит впечатление тайны, основанной на регулярном и постоянном ритме некоторых феноменов. Смысл этой тайны должен был заботить предков и вести к употреблению слова «абок», характерного для наиболее глубокого аспекта времени. Человек может жить одновременно в нескольких измерениях и ритмах.
Первыми феноменами бети считают день (амос) и ночь (алу), чередование которых само по себе поразительно, но бесспорно. Один приносит творению блеск и сияние, которое, с точки зрения их отцов, эффектно, является ярким подтверждением мощи, другая, с ее тяжелой и страшной теменью, не только разливается чернильным эфиром и господствует над всей страной, но еще и готова предоставить случай злоумышленникам творить свои злые дела в кромешной тьме под покровительством недобрых сил.
И там, и тут человек видит себя поставленным в волны этих двух противоположных движений, которые поочередно и размеренно вторгаются в его жизнь на всех этапах, диктуя свои правила.
Каковы формы времени в Черной Африке? Нет, день не является неразделимым. В чем-то он подобен человеку. Когда он родится, его называют «меленде ме киди» – восход. У бети есть названия для рождения дня – для восхода, утра, полудня, заката и сумерек. Восход признается всеми, и совершенно не важно, взойдет ли солнце в четыре или в семь часов утра – главное в том, что рассвет настанет. Когда африканец говорит вам о восходе солнца, он никогда не имеет в виду точное его время. Так же он понимает наступление ночи. Время полностью сливается у него с самим событием, а не с математической точностью его исчисления. У ночи только две части, отгороженные друг от друга полуночью. От дня и ночи у бети идет отсчет в прошлое и будущее по типу вчера, позавчера, завтра, послезавтра, через три дня, через четыре дня…
Для европейца или американца время – удобство, которое можно использовать, продать и купить, а в жизни черных африканцев оно творится, создается. Мне по вкусу именно их полный поэтичности подход к жизни.
Человек в Африке думает о том, как жить, о будущем, предугадывая по звездам наступление сезона дождей или сухого периода. Для кенийцев число дней в году менялось в зависимости от погоды, могло быть 350, могло и 390. Год растягивался. Учитывались лишь дни, когда была видна луна. Действительно, какие это дни, если на небе нет луны?
Другая оценка времени делается по его распределению на фазы луны: новолуние, первая четверть луны, последняя четверть, месяц, предшествующий новой луне. В свете этих измерений у бети складываются понятия о неделях и месяцах. Понятие месяца в народе существует лишь в связи с луной, ее фазами, или солнцем, а сколько в месяце дней, не так уж и существенно. У народа латука месяц октябрь называется «солнцем», поскольку в эту пору дневное светило греет более всего, декабрь – «дай своему дяде испить водицы», потому что вода становится редкой, февраль – «пусть копают», так как приходит время приготовления полей для посева, ибо на носу сезон дождей. А вот сентябрь они именуют «колбасным деревом», поскольку в этот месяц плодоносит колбасное дерево (kigalia africana), плод которого внешне похож на колбасу.
В качестве эталонов африканцы берут различные явления природы, которые периодически повторяются, но наиболее важные части времени определяются по отношению к временам года. Их тоже четыре с определенными нюансами, и все они привязываются к лунным явлениям, регулирующим процессы выпадения осадков и засухи. Таким образом, бети выделят эсеб – время, когда размножаются крылатые термиты, которые ценятся за их съедобность, ойон – время плача, то есть дождей, которые льют в эту пору, и, наконец, акаб – другой вид съедобных термитов. Сезон ойон разделяется на две части (бонда и энгон). Вся эта цепь существенно важных периодов диктует как жизнь растительности, так и все изменения и превращения жизни в мире насекомых, явления, из которых предки черпают и подтверждают свои представления.
Для скотоводов народа анкоре в Уганде понятие времени диктуют буренки. Шесть утра они называют акашеше (доение молока), 12 – временем отдыха скота и соответственно пастухов на пастбище, час дня – пора набора воды для водопоя скота в колодцах или у реки, два часа – сам водопой, когда живность подгоняют к приготовленной воде, три часа – пастухи заканчивают поить скот и вновь ведут его пасти, в пять часов наступает пора возвращения накормленных коров домой, в шесть – скот занимает место в загонах. В семь часов, перед самым сном, скот доят, и на этом день заканчивается как для коров, так и для людей. С этого момента время практически никому не нужно: его уже никто не замечает.
Однако различное понимание времени не означает, что в реальности его вообще не существует в помине. «Если петух утром не запел, значит, кошка его съела», – назидают жители Мадагаскара тех несмышленых соотечественников, которые забывают о времени. Да, оно, несомненно, есть, но выглядит очень многоликим – только у черных африканцев свое летосчисление, свой календарь, свой отсчет времени. В Африке – и повсюду в мире – ритм природы влияет на осмысление времени, хотя это и не единственный фактор. В середине XIX столетия одного русского помещика, имя которого, к сожалению, осталось неизвестно, осенила идея создать «животные часы». На нее его натолкнула статья корреспондента крупнейшей в те времена немецкой «Аугсбургской газеты». «Животные там очень постоянно производят некоторое свое действие в известное время, – писал тот. – Обезьяна-ревун кричит вечером в девять часов и утром в три часа. Большой жук-точильщик начинает усердно заниматься своим делом, как скоро займется заря. Через час после этого с громкими криками летят в лес стаи попугаев. Если присоединить к этому петуха, то мы имеем довольно большое число надежных указчиков времени».
«Животное время» использовалось человеком с незапамятных времен. Склянки на корабле – период времени, равный получасу. Свое название она получила от далеких времен, когда на судах были песочные часы («склянки»), рассчитанные ровно на полчаса. Проходит половина часа, песок из верхней части пересыпается в нижнюю, вахтенный переворачивает часы и бьет в колокол (рында). Сейчас у всех вахтенных есть наручные часы, но обычай «бить рынду» еще соблюдается. В джунглях Центральной Америки моряк мог бы легко определить время без часов, без склянок, без рынды, поскольку ему верно – получше иной «кукушки» в старинных часах – подсказывала живущая там птица тинаму. Вне зависимости от погоды, времени года и настроения эта странная птица кричит каждые полчаса…
Так вот, прочитав статью в «Аугсбургской газете», чудаковатый барин занялся наблюдением за поведением животных в зависимости от времени суток, точно записывая по часам каждое их движение. И вот что он выяснил. Воробьи будят нас по утрам своим чириканьем в строго определенный час, а вечером делают то же самое перед сном. Вороны в определенное время покидают свою лесную «спальню», а вечером аккуратно в положенное время возвращаются в лес, но на полчаса позже, чем некоторые другие птицы, например цапли. Зайцы выходят ежедневно в один и тот же момент из леса в поле, а барсук выползает из норы в час ночи. Ежедневно ровно в девять вечера еж бежит от сарая через двор в сад, а спустя полчаса в отверстие крыши сарая высовывалась куница. В пору созревания вишни она постоянно приходила к одному и тому же дереву ровно в 11 вечера…
На следующий год натуралист-любитель решил создать «живые часы» из домашних животных. Для этого он установил строгий порядок кормления. Целый месяц лошади получали пищу в шесть утра, коровы – в семь, свиньи – в восемь, куры – в девять, голуби – в десять, собаки – в одиннадцать, а несчастные кролики – в двенадцать часов пополудни. Тот же самый порядок в кормлении соблюдался в обед с часу дня и в ужин с восьми вечера. Охвачены были почти полные сутки. Через месяц каждое животное приучилось приходить за кормом из загона на скотный двор в строго определенное для себя время. Впрочем, хозяин «живых часов» мог и не выходить из дому, хотя для «чистоты эксперимента» все часы из дома удалил. Достаточно было услышать ему требовательное «му-у-у», чтобы сказать себе, что семь утра, два часа дня или девять вечера. Настойчивое «хрю-хрю» говорило ему о восьми, трех или десяти часах. А в одиннадцать утра, за завтраком, он регулярно прослушивал «концерт проголодавшихся собак».
Судя по его записям, «животные часы» были очень надежны, ибо инстинкт никогда не обманывает животных. А главным регулятором экзотических «часов» был биологический стимул – голод.
Летом 2000 года польские лесники выпустили любопытное руководство по определению времени в лесу для туристов, желающих отдохнуть на лоне природы. Первыми, как оказалось, просыпаются певчие дрозды. С середины мая они подают голос ровно в три часа ночи. Через десять минут им начинают подпевать малиновки, которых в Польше еще называют зорянками. Пройдет еще пять минут, и с верхушек деревьев долетают голоса черных дроздов, к которым через очередные пять минут присоединится лесной или луговой конек. В половине четвертого вас разбудит кукушка, а ровно в четыре – зяблик. Затем просыпаются синицы. Иволги подают свой сигнал в 4 часа 20 минут. Самыми последними, когда на часах будет уже без 10 минут 5 часов утра, «зазвенят» ленивые скворцы. Туристам остается лишь запомнить все эти голоса и научиться различать их.
Африканец любит привычный, строго установленный в жизни порядок, и новшества не просто настораживают его поначалу, но даже пугают, особенно те, о которых не имели никакого представления и не поведали ему предки, ибо время он ощущает конкретно, в знакомом, предельно изученном веками круговороте событий и дел, отталкиваясь главным образом от прошлого. Столкнувшись с чем-то новым, неизведанным в прошлом, он подчас не знает, как отнестись к этому. Время, проверяющее и оценивающее любые жизненные события, вносит в его мир и быт порядок, уверенность и творческое начало, дает возможность оценить будущее на основе надежного опыта поколений и предвидеть его течение. Потеря понимания и чувства времени – трагедия для черного африканца, так как с ней он теряет самого себя как разумное существо, чувствует себя растерянным и бессильным в вышедшем из-под контроля стихийном вихре событий.
Начало времени бети или эвондо – аграрный год – совпадает с циклом природы. Время спокойно, молчаливо и до скуки предсказуемо. Их время – это синхронные потоки мифического и повседневного времени. В бережно хранимых и соблюдаемых народом ритуалах бок о бок воплощались и воплощаются на земле мифы и труд. Вот в таком лишенном бурь эфире плывет человек. Начало дождей… начало сева той или иной культуры… цветение деревьев… ловля и жаренье кузнечиков или саранчи… Даже пол будущего ребенка, по здешним понятиям, зависит оттого, в какую фазу луны он зачат. Сколько причудливых форм и видов времени у африканцев! Всякий раз в зависимости от состояния природы или работы у африканцев другой эталон времени. Связь времени и события раскрывается в названиях, которыми обозначаются отрезки суточного цикла: «Буйволы идут на водопой», «первое и второе пение петуха»…
Каждый сезон у бети (или другого народа – банту) символизирует мощь природы и неразрывно связанного с ней человеческого духа, которая опирается на требования текущего периода. Исходя из этого устанавливается календарь, фиксирующий время для различных культур, праздников, развлечений, ритуалов. Сколько меток, отметин, зарубок призвано засечь и запомнить время, расставить в должный порядок определенные воспоминания, хотя национальные ритуальные организации в особой степени позволяют более конкретно датировать время или эпоху того или иного исторического факта. Прошлое живо в этике и этикете, опирающихся на традицию, в структуре общества.
Время и пространство шли и идут рука об руку, и временные единицы измеряли пространства (дни луны в пути). Соотношение временного и пространственного у каждого народа свое и довольно устойчиво. Не потому ли правы те, кто говорит, что нет ни пространства, ни времени в их раздельности. Народ поколениями досконально учитывал все особенности среды, вплоть до свойств почвы, пределов урожайности для данной местности, кропотливо приспосабливаясь к ней.
Это соотношение, конечно, меняется, но и то и другое остается в определенной, должной пропорции. Это бывает именно тогда, когда наша жизнь от видимого переходит в невидимое. От действительного – в мнимое.
Время и пространство настолько близки друг другу и неразрывны в понимании, что на некоторых африканских языках для их обозначения используется одно и то же слово. Для черного африканца очень многое значит земля, на которой он живет: оно сливается по смыслу с понятием «настоящее». Земля – это все сущее для них, поскольку в ней умещается все прошлое от начала и до настоящего. В ней корни их жизни. Она привязывает их к себе памятью об усопших предках. Люди ходят на могилы праотцов. Они боятся, что любое событие, отделяющее их от этих сокровенных уз, грозит бедой семье, деревне, всему народу.
Выгнать африканцев силой с этой земли – значит совершить великую несправедливость в отношении их, которую чужеземец даже не может вообразить себе. В тех случаях, когда в наши дни люди добровольно оставляют свои родные очаги в деревне и переезжают в города, они получают неизлечимую психологическую травму, которую никакие последующие радости и успехи не могут излечить полностью. Не отсюда ли происходят тяжкие конфликты, связанные с владением белыми фермерами африканскими землями в Зимбабве, ЮАР, Намибии или Кении? Кстати, сколько на свете есть народов, которые многие сотни, а быть может, тысячи лет назад покинули родные земли, но по-прежнему ощущают связь с ними.
Любые исчисления времени человеческими мерками неточны, условны, потому что субъективны. Если пространство таило в себе место общества, место жизни народа, привязку к природе, то время подчеркивало лишь естественность пространственных критериев.
Время в Черной Африке всегда конкретно, вещественно. «Время не бывает просто временем: это всегда время чего-то, – подчеркивает руандийский историк А. Кагаме. – В присутствии такого дополнения время неопределенно, то есть бесцветно, и даже немыслимо. Когда представителя нашей культуры упрекнут в том, что он теряет время, то он возразит: «Как? Я теряю время? Но ведь я только что закончил свою работу!» Так вот, для него существует лишь то время, которое было им осознано благодаря своей работе… А поэтому в уме первенствует не само время, но событие, которое, будучи индивидуализировано временем, в свою очередь, лишает время его неопределенности».
Труд для африканца – главное в понятии «время». У народа исоко в долине Нигера год меняется в момент разлива реки и определяется ритмом сельскохозяйственных работ – от расчистки новых земельных участков до разлива, от посадки до сбора ямса.
У конго на Новый год на горизонте вблизи созвездия Орион выглядывает пять звезд – «мокуре», и все соглашаются: пора вырубать лес под новые поля. А накануне еще появляется созвездие Плеяд. Ганские ашанти отличают Новый год по появлению в феврале группы звезд «кваквар».
Африканцы не мелочатся, секундами, минутами, часами пренебрегают, ибо, основываясь на наблюдениях предков, время делят на отрезки разной длительности с расплывчатыми границами. Приглашая друзей и знакомых в гости на семь вечера, я обычно ждал их к девяти, зная, что у них свое время. А в том же тесном Лихтенштейне я торопился, опасаясь опоздать даже на минуту.
У африканцев для самооценки существует история, прошлое. В Африке укоренилась идея циклической повторяемости во времени. В Бурунди известны мятежи, вызванные тем, что царствование какого-либо монарха затягивалось. Повстанцы добивались того, чтобы новое имя-символ появилось на троне, у власти, дабы время двинулось дальше по своему историческому кругу.
А вот у кенийца Джона Мбити свое мнение. «Согласно традиционным понятиям, время – это двухразмерное явление, с долгим прошлым, настоящим и практически без будущего, – указывает ученый. – Линейное представление о времени с неопределенным прошлым, настоящим и бесконечным будущим, присущее европейской мысли, чуждо африканскому мышлению. Для африканца «нынешнее» время – это то, что существует, и то, что уже миновало. Оно движется «назад» скорее, чем «вперед», и люди задумываются не над будущим, а над тем, что происходило».
Подсказываемое извне изменение традиционных мер времени на практике для африканцев – да и для других народов мира – означает коренную ломку психологии, сложившегося народного мышления.
– В конечном счете время есть реальность, которая не ускользнет от внимания предков, – сказал мне Франсуа Эвембе. – Для нас прошлое – неясно, это не время.
Для его соплеменников человек рождается во времени и живет в нем с правом использовать его без злоупотреблений. По этой причине они отказываются рассекать его на часы, получасы или четверти часа и использовать его так, чтобы вечно не торопиться куда-то с бешеным неистовством. В их глазах время не кончается: оно – символическое отражение вечности, косвенное напоминание о ней.
У некоторых людей, вполне очевидно, такое отношение выливается в определенную беспечность, равнодушие, измеряемые к тому же нуждами и простыми условиями их материальной жизни. Среда и жизнь четко диктуют человеку свой ритм, свое время.
Но есть, наверное, неосязаемое подобие времени, которое, отвлекаясь от всех наших представлений о нем, наполняется вокруг нас, как эфир, и регулирует нашу жизнь. У нашей жизни есть свой календарь. У каждого человека есть свое время жизни даже в количественном плане, измеренном привычными человеческими мерками. Он пребывает в своем времени, как аквариумная рыбка в ей предназначенном сосуде.
Деннис Дуэрден подарил мне свою книгу «Африканское искусство и литература: невидимое настоящее»: мол, в ней выстрадано все, и лучше мне уже, возможно, не сказать. «Африканские общества и африканское искусство не пытаются выйти за пределы линейного времени и не преклоняются перед вечностью какого-то мифа, – считает он. – Их время, как можно предположить, не линейно, потому что это время каждой группы по отношению к каждой группе. Каждая и всякая группа имеет свое собственное время и собственное пространство, а следовательно, универсальных времени и пространства нет, нет и никаких имеющих измерение координат, общих для каждого общества». «Каждая земля имела свое собственное небо; оно было таким, каким ему следует быть», – вторит ему Эзеулу, персонаж из романа нигерийского писателя Чинуа Ачебе «Стрела бога», глядя на новую луну. Более того, у каждого человека в Африке заложен с рождения родителями свой временной механизм. Всякий опытный знахарь-целитель настраивается на ход времени пациента. Он тщательно расспрашивает больного, стараясь вникнуть в его время и найти ключ к его недугу. Если человек вдруг запнулся, о чем-то задумался, целитель не спешит сбивать его с присущего ему ритма излишними, несвоевременными вопросами, ибо для пациента, погрузившегося в личные переживания и раздумья, течение личностного времени отличается от общепринятого. Каждому принадлежит свое время. Аритмия противоречит внутренней сущности любого черного африканца и всей Африки.
Время в Африке мыслится иначе, более конкретно, чем на Западе или у нас, но и не понимается в соответствии с каким-либо архаическим неолитическим или первобытным представлением. Камерунец, нигериец или малиец не воспринимает его как простое повторение качания маятника времен года. В принципе, по африканским понятиям, на поверхности явлений оно, подобно маятнику, движется назад и вперед от деда к отцу и от отца к внуку, или от семьи мужа к семье жены и обратно к семье мужа. В действительности, если вглядеться пристальнее, время – это движение из стороны в сторону, и если оно кажется текущим зигзагообразно, то все же оно линейно. Ясно видно, что каждая группа рассматривает его сквозь призму действий определенных предков в прошлом.
Иначе говоря, течение времени не означает просто ежегодное возобновление одинаковых физических событий, оплодотворение урожаев дождями с небес весной и уборкой зерна осенью, так, чтобы события продолжали совершаться по поворачивающемуся кругу. В Черной Африке время – не непрерывный круг от одного года к другому, охватывающий всю полноту бытия – посадку и уборку урожая, плодородие и плодовитость, землю и небо, дождь и солнце, королеву и короля, мир и Бога. Оно отнюдь не является постоянным чередованием между этими полюсами, которым помогает посланник богов. Не означает оно и простое чередование солидарности поколения, или рода, или брачных союзов.
Напротив, время зачастую совмещает в себе всю взаимозависимую и взаимовлияющую серию событий в прошлом и настоящем, которая помогает создавать единую монолитную группу с ее уникальной сутью, неповторимым характером и единым мировоззрением; в то же время оно вписывается в различные серии интервалов для другой группы, хотя характер каждой был сотворен ее собственными сериями и в свои промежутки времени. Константы для одной группы не являются теми же самыми для другой группы. Соответственно время видится как нечто сюрреалистически расплывающееся, расходящееся как веер и не является чисто линейным, циркулярным или чередующимся. Для одной группы одни события забываются, если они были разрушительными, для другой запоминаются и долго-долго не забываются. Каждая группа осознанно или неотчетливо охватывает события в своей памяти, добавляя их к своей индивидуальности как творение этого народа.
– Даже относительно малые общества в Африке также не только помнят положительные события и забывают несчастливые, неудачные, но и умышленно отказываются принимать отрицательные, которые, перейдя в символы, будут довольно долго потом жить, оказывая деморализующее влияние на существование этих обществ, – говорил мне в яундском квартале Мвог-Мби оригинальный мыслитель Жан-Батист Обама, представлявшийся африканским философом.
Наше время, состоящее из прошлого, настоящего и будущего, чуждо практичной психологии черного африканца. Будущее фактически отсутствует в его понимании, поскольку не наполнено реальными событиями. Есть лишь долгое-долгое прошлое, непрестанно напоминающее о себе радостными и щемящими болью событиями, и быстро текущее, наваливающееся своими заботами настоящее. Прошлое накапливается за счет конкретно случившихся событий, которые не следует додумывать, домысливать или переосмысливать, но из которых надлежит извлекать уроки, пользу.