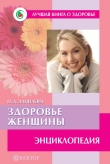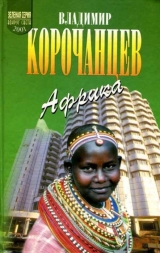
Текст книги "Африка — земля парадоксов"
Автор книги: Владимир Корочанцев
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Однако во многих – и, пожалуй, осмелюсь утверждать, во всех – случаях бог бывает один, – он вездесущ и всемогущ. Но большую часть жизни африканцы ставят верховного бога где-то далеко, считая, что он отдален от их мелких повседневных забот. У луо, жителей Кении, имя бога Ньясайе Ньякалага в переводе означает «находящийся во многих местах», то есть единый истинный бог. Каждый народ зовет бога по-своему. Акан отзываются о нем: «Он, который знает и видит все», йоруба – «только бог мудр», «бог – знаток сердец, который видит как внутри, так и вне человека». В Юго-Догору вождь доло, рассказывая мне о своих богах, обронил: «Никто не учит ребенка верить в бога». И он действительно прав: на свете есть вещи и понятия столь очевидные, что их понимают даже малые дети, а бога инстинктивно знают все. К слову сказать, похожая пословица есть и у народа ашанти в Гане: «Никто не показывает Высшее существо ребенку». Знание бога входят в плоть и кровь африканцев, запечатлено в их пословицах, поговорках, песнях, молитвах, именах, мифах, легендах и обрядах.
Как подметил английский путешественник Макс Мюллер, наблюдая за африканцами, «пусть представление о боге несовершенно, пусть оно носит ребячливый характер, но оно всегда являет собой высший идеал совершенства, которого может достигнуть душа человека». Меня часто изумляла нестандартность и своеобычность мышления африканцев. В Транскее (ЮАР) мне показали английский перевод гимна, сочиненного одним из первых обращенных в христианство представителей народа коса Унсиканы. В нем он, по сути, отождествляет божество коса уТхиксо с Иисусом Христом: «Ты, уТхиксо, восседающий в вышине, ты творец всего живого, ты сотворил и небо, так поведали нам падающие звезды. Руки твои покрыты ранами, ноги твои покрыты ранами, ты пролил кровь твою за нас». Прочитав это песнопение, я оцепенел перед градом вопросов: неужели уТхиксо был тоже когда-то распят на кресте, отчего у него на руках и ногах остались раны? Неужели солдаты (римские) кололи его копьями в грудь?
Странно все-таки: сколь много у нас общего, и сколь непостижимо многое, хотя и, по существу, общее, разводит нас врозь.
– Основой поверий моих чернокожих собратьев является приверженность единому Богу, Великому Духу (или Разуму), вождю всех духов, сотворившему окружающий нас мир, давшему растениям раз и навсегда силу исцелять и убивать. У нас, моей, его называют Венде, у лоби – Тангба, у герзе – Яла, у бамбара – Фаро, – посвящал меня в святая святых африканских представлений о мире мудрый ларалле-наба (хранитель королевских могил у верховного правителя народа моей – моро-набы) Ямба Тиендребеого. Он тогда, кроме того, занимал пост мэра столицы Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) Уагадугу.
Венде счел себя свободным от всяких обязанностей перед людьми после их сотворения и витает в эмпиреях. Он равнодушен к злым поступкам и жестокостям злых духов, которые, однако, пребывают под его всемогущим контролем. К нему не обращаются с молитвами за исключением нескольких обращений с мольбой. «О Боже, Отец наших отцов, ты вождь наших 333 богов. Ты правишь на земле и на небе, и мы просим у тебя здоровья нашему телу, мы посвящаем тебе наш урожай», – взывал при мне к Венде Ямба Тиендребеого.
Имя Бога иногда произносится по случаю крупного события или беды. Моей, в дом которого ворвалась смерть или еще какое-нибудь несчастье, сокрушается так: «Бог обиделся на меня» – или: «Бог сделал меня несчастным». Старый целитель моей Бакари, с которым меня познакомил ларалле-наба, признался: «Я никогда не обращаюсь к духам. Когда я применяю лекарство, я говорю: «Боже великий и единственный, Вождь и Повелитель всех духов, дай моему снадобью целительную силу».
– Все африканцы верят в единого Бога, поверьте мне, – настаивал Ямба Тиендребеого в нашем разговоре. – Даже если эта вера сопровождается лишь редкими обрядами. Изображать дело так, что черный человек не молится, что вся его «религия» сводится к материальному представлению о силах природы и манах предков без обращения к творцу вселенной, – глубокая ошибка и ложь. Над всеми этими невидимыми и персонифицированными силами, дурное влияние которых надлежит устранять жертвоприношениями, над душами предков властвует Высший Дух, Бог, благожелательный Человечеству. К несчастью, этот Бог отвлекся от нашего мира, передоверил его множеству второстепенных богов, ордам джиннов, демонов, всяких нечистых духов, оставив за собой небо. И наше дело заключить со всеми этими духами полюбовный договор, сделать их благосклонными к себе способами, которые нравятся им.
Бога же африканцы любят и не боятся. В романе нигерийского писателя Чинуа Ачебе «Стрела бога» рассказывается, как к старому жрецу прибежал сын, которого взволновала встреча в лесу с незнакомым человеком. Отец объяснил ему, что он столкнулся с самим богом Идемили, торопившимся на свидание к другому богу. Такая встреча могла быть опасна лишь для человека нечестного, пояснил мальчику старик. И впрямь, если дерево не болеет, на нем не растут грибы и ничто не грозит ему. «Каждый судит о других по себе», – гласит африканская пословица. Всю жизнь, как нам кажется, мы ищем истину, невинно путая ее с правдой. А ведь разница между ними громадная: правда – это то, как окружающий мир видится в наших чувствах и сознании, а истина – то, что есть на самом деле. Истину же мы поймем, ощутив свою связь со всеми предшествующими поколениями, не отказываясь от их опыта. Да, правы африканцы: есть на свете и Бог, живы и наши предки, если в нашей груди бьется доброе совестливое сердце. Они – в нем до последнего нашего вздоха. И в этом – истина.
СКАЖИ МНЕ, В КАКОМ ДОМЕ ТЫ ЖИВЕШЬ…
– Дом – основа основ в нашей жизни, самое безопасное и надежное место в этом мире. Обитель живых должна нравиться не только нам, но и предкам – иначе в ней будет трудно жить, в нее то и дело будут проникать недобрые силы. Ведь предки, перебираясь в мир теней, продолжают делить с нами все наши радости и невзгоды, – без них нам не защитить родного очага, – скупо и даже с некоторой неохотой отвечал на мои расспросы Секу Конате, житель глухой деревеньки близ малийского города Сегу.
На этой мысли все его ответы кончились. В Африке не любят вдаваться в морально-этические подробности, касающиеся отношения к жилищу. Причин тому я не знаю, но, по наблюдениям, люди предпочитают не распространяться и не откровенничать по этому поводу. Здесь есть свои тайны.
Одно я замечал, по крайней мере по разговорам и поведению моих камерунских, малийских и буркинийских друзей: в наших взглядах на жилище было кое-что общее. «Каждый из нас может свидетельствовать своим внутренним опытом, что не только люди, но даже местности, дома и вещи имеют свое духовное лицо, свой темный или светлый фон, – попытался вникнуть в психологию святых и добрых мест России архимандрит Рафаил (Карелин). – В некоторых домах нам легко и хорошо, мир водворяется в сердце, забываются все наши заботы и противоречия, мы перестаем думать о греховном и суетном. Уже древние заметили, что дух человека как бы «отпечатывается» на его вещах. Так и наоборот, есть дома, где какая-то тяжесть давит грудь, где человек чувствует тоску и тревогу, ему хочется поскорее покинуть это место, бежать оттуда. Есть места, где человек дышит полной грудью, вдыхает чистый воздух, как в горах или в саду. А есть дома с роскошной обстановкой, тщательно убранные, как будто каждая вещь вылизана языком, и в то же время чувствуется, что атмосфера этого дома пропитана миазмами; человек ощущает липкую, зловонную грязь, как будто разлитую вокруг него. Есть места, где внезапно содрогается душа, ей кажется, что здесь совершилось преступление и пролилась человеческая кровь. Особенно поражены этой «черной радиацией» греха те дома, где занимаются колдовством, гаданием, спиритизмом и так далее».
Для многих африканцев само ощущение отечества начинается с дома, с семьи, а потому дом должен быть всегда чистым, выметенным, наполнен доброжелательством. И еще одна существенная деталь: вещи в африканском жилище, как рассказывал мне малийский поэт Гауссу Диаварра, живут в тесной связи с его обитателями, «разговаривают» с ними, служат им, радуются им и обижаются на них.
Фелидж спасает от песчаной бури
Возводя традиционное жилище, африканец больше учитывает сугубо практические и подспудно мистические обстоятельства, чем абстрактные эстетические или геометрические критерии. Поэтому оно гармонирует с окружающей средой, частью которой становится само. Его конструкция, форма столько же зависят от образа жизни и характера хозяев, сколько от имеющихся в их распоряжении материалов, климата, рельефа местности, господствующих ветров.
На севере Камеруна крестьянская семья занимает целый комплекс связанных между собой хижин, а у маса в Чаде, акамба в Уганде, курумба в Буркина-Фасо она теснится вместе с домашними животными в одном помещении.
В лесистых районах строят дома, обычно прямоугольные, из дерева, бамбука, тростника, травы, соломы. Крыша на них двускатная, реже четырехскатная, из листьев пальмы рафии или кусков коры. Члены семьи расселены по крошечным комнаткам с легкими перегородками. Двери широкие, нараспашку, часто вовсе не закрывающиеся: от врагов, рассуждают там, нас хранит лес, а друг с другом мы ладить умеем.
Жилища саванны – массивные глиняные кубы с низким дверным проемом и овальные глиняные хижины под остроконечной или куполообразной крышей. Внутри все подчинено соображениям удобства: кухни и загоны – попросторнее, спальни маленькие, уютные, чтобы отдыхать в тепле и покое, житницы приподняты над землей для защиты припасов от грызунов и сырости.
У хауса в Нигерии, вокруг Томбукту и Гао в Мали принято сооружать глинобитные дома в два этажа, с террасой и плоской крышей, где в багряные предзакатные часы люди беседуют о жизни, неторопливо попивая чай.

Разноголосья в африканской народной архитектуре хоть отбавляй, но оторопь берет чужеземца новичка лишь из-за незнания им правил, определяющих виды и типы жилья для различных природных зон. Самая неказистая хижина в забытом богом уголке континента несет на себе отпечаток вечности, ибо при всех индивидуальных «причудах» она есть плод коллективного зодчества поколений.
– Покажи мне жилище африканца, и – держу пари – я подробно опишу тебе климат, ландшафт, флору и фауну его родных мест, короче, условия, к которым он приноравливается, его занятия и привычки, даже характер, – не раз говорил, сверля меня иссиня-черными, как переспелые сливы, глазами Аттилио Гаудио, несравненный знаток Сахары.
У этого непоседливого, хотя и склонного к полноте итальянца, храбро бившегося с фашистами, в четырнадцать лет выступавшего от имени партизан на стотысячном митинге по случаю капитуляции гитлеровцев в Милане, острый ум сочетался с лучезарным обаянием и беспредельной доброжелательностью. Только такие сердечные, открытые люди и могут понять, расположить к себе чернокожих жителей Африки, миллионы раз обманутых и растоптанных европейцами колонизаторами.
Встречаясь позднее с Аттилио, корреспондентом агентства АНСА, на вечерах парижской Ассоциации иностранных журналистов, мы неизменно перебирали в памяти былое, перешучивались, вспоминали, как однажды в поисках стоянок туарегов колесили на джипе по Предсахарью.
…В тот день мы долго сидели в шатре – фелидже, по которому гулял освежающий сквознячок, ели фасолевую похлебку, кускус, запивали финики верблюжьим молоком, судачили о том о сем с сановитым хозяином Имажереном Фаделем бен Феззане и приходили в себя после песчаной бури, застигшей нас в пути. Когда по поверхности барханов засновали словно вырвавшиеся из-под земли ручейки песка, обеспокоенный шофер сказал вполголоса: «Беда!» – и прибавил газу. Схватившись за дверные поручни, мы неотрывно следили, как песчаные струи вздымались фонтанами, выше и выше, застилали горизонт. Ветер свистел по-разбойничьи. Сквозь все зазоры в машину просачивался тонкий отфильтрованный песок, во рту хрустело. Видимость терялась, наваливался песчаный туман. На счастье, туареги оказались совсем близко.
Фадель вместе с нами радовался нашему избавлению.
– Бывает, в песке тонут машины, исчезают люди, если буря долго не прекращается, – промолвил он.
Дочь хозяина в черном, как безлунная ночь, покрывале и широкой темно-фиолетовой юбке нежно пиликала на однострунной скрипке, освобождая наши сердца от страха. У ее ног, подобно верным псам, лежали, подперев подбородок руками, двое юношей с кинжалами в расшитых бисером ножнах. Они будто не замечали нас, поедая томными взорами музыкантшу. Вообще туареги умеют сосредоточиваться на одном объекте и не видеть никого вокруг себя.

– Кто это? – кивнул я на парней.
– Поклонники моей дочери, – бесстрастно обронил Фадель.
У туарегов периодически устраиваются посиделки, во время которых девушки играют на скрипке и сочиняют со своими почитателями возвышенные стихи, сияющие чистотой чувств. Их метафоры душисты и нежны, как цветы, распустившиеся после первых дождей, они напоены любовью к пустыне, где протекает вся жизнь кочевников. Браки здесь заключаются по любви, на небесах.
Туареги бесконечно перемещаются между городами Гадамес, Томбукту и Агадес, в зоне сухих степей с суточными колебаниями температуры от —10 до +50 градусов по Цельсию. Дожди в Сахеле редки, осадков выпадает 150–350 миллиметров в год, так что без искусственного орошения о земледелии и думать нечего. Главное занятие этого народа – скотоводство. Живут «бродяги Сахеля» налегке, всегда готовые навьючить на верблюда переносную палатку и тронуться в путь. Дорога не пугает людей – их смущает топтание на месте. Родина туарегов, источник их вдохновения – могилы предков. Отбивая по привычке поклоны Аллаху, в трудные моменты они забывают о нем и опускаются на колени перед дорогими могилами, беззвучно молят предков о помощи, ищут облегчения в немом диалоге с ними, в собственных раздумьях.
– Наш постоянный дом – небо, наше временное пристанище – фелидж, – изрек Фадель. – Мать наших шатров – пустыня, а отец – климат.
Конкретное место для стойбища они выбирают не случайно, руководствуясь особыми соображениями, о которых не любят сообщать. На сборку шатра тратят не более двух часов. Иначе и нельзя, люди с ног валятся после долгого перехода. От фелиджа требуется немногое: он должен спасать от палящего солнца, давая тень днем, и от ледяной стужи ночью. Строят его женщины. Они перегибают три-четыре длинные упругие жердины и втыкают их обоими концами в песок, затем прилаживают продольную и верхнюю оснастку, которую плотно обтягивают сшитыми вместе верблюжьими, овечьими или козьими шкурами. Крыша, плоская либо полусферическая, смотря по району, окрашена коричневой или ярко-красной растительной краской. Квадрат земли, на котором возведен фелидж, застилают циновкой, сплетенной женскими же руками.
Там, где есть редколесье, шатер подпирают изнутри шестами. Перегородки изготавливают из узорчатой ткани с искусной вышивкой или плетут из разрезанных продольно на узкие полосы длинных листьев пальмы дум, что растет близ вади – русл сезонных водных потоков. Ширина обычного шатра составляет четыре метра, длина – шесть. Жилище вождя или богатого кочевника имеет более внушительные размеры – до двенадцати метров в длину (о богатстве туарега судят по числу верблюдов в его стаде и количеству шестов в шатре). У некоторых кланов фелиджи похожи на палатки – низкие, приплюснутые. Им не страшны ни самум, ни сирокко, ни харматтан, хрупкие на вид крепыши не сдуть, не раздавить песчаной буре.
В жаркие дни все стороны фелиджа открыты и по нему свободно циркулирует воздух. Если дует слишком сильный ветер, «стенку» с подветренной стороны опускают. Ночью «окна» и «двери» наглухо задраены, сквозь кошмы не проникает ни одна песчинка.
Шатер поделен на две половины – мужскую, западную, и женскую, восточную. Мужчина спит на коврах из верблюжьей шерсти, кутаясь в пестрые покрывала. Тут же при нем седло, оружие, сумка с провиантом. На женской половине разложены бурдюки, ступы, кухонные ножи и прочая утварь, над постелью матери подвешена колыбелька.
Оседлые туареги устраиваются основательно: кладут хижины из самана и камня с плоской крышей и щелевидными окнами.
…Слово за слово – и мы заспорили о том, что такое счастье. Фадель сидел на корточках перед полыхавшим огнем, перемалывал во рту жевательный табак и слушал нас с непроницаемым лицом, потом, улучив паузу, произнес:
– А у нас издревле говорят: «Дайте мне верблюда, седло и шатер – и я буду счастлив». Мы душой и сердцем накрепко приросли к нашим просторам. В песчаном раздолье – наше счастье, в зное Сахары – наша беда. Но и в жару счастье не изменяет нам, над нашей головой пахнет верблюжьей кожей. Под шатром я счастлив.
В гостях у фульбе
Фульбе, фулани, фуланке, феллата, пель – все это названия одного и того же народа, обитающего на территории тринадцати западноафриканских государств. Ученые спорят о происхождении племени рослых, стройных, светлокожих людей с тонкими, правильными чертами лица, часто с римским профилем. Некоторые доказывают, что фульбе родом из Эфиопии или Сомали, другие утверждают, что они пришли из Палестины, а кое-кто даже считает их выходцами с далекого Кавказа. Новой Африке с 60-х годов фульбе дали президентов и общественных деятелей, ученых и инженеров, писателей и поэтов, которых, конечно же, неизмеримо меньше, чем скотоводов, все еще живущих по законам предков.
В странствиях по Африке я всегда стремился успеть к ночи в ближайший населенный пункт. Блуждать в потемках по саванне или полупустыне – то же самое, что сбиться с дороги в тропическом лесу. Помню, как однажды мы с послом СССР в Мали И. А. Мельником, получив охотничью лицензию, до сумерек гонялись за ускользавшей от нас добычей, а утром проснулись в Верхней Вольте (теперь эта страна называется Буркина-Фасо) – ведь государственные границы на континенте редко где обозначены.
На обратном пути мы лишь к закату добрались до маленькой деревушки Докюн, в тридцати пяти километрах от вольтийского города Нуна. Горстка соломенных домиков выглядела как животворный оазис среди холодеющего пыльного редколесья. Вождь деревни Идрисса Сангаре с седой, клинышком, бородой приветствовал нас не вставая с кресла. За ним заботливо ухаживали три его жены – под вечер мужья и в Африке устают. В деревне, кроме него, не было ни одного мужчины. Только женщины и дети. Остальные жители ушли со стадами.
– Как вы перенесли дорогу? – справился вождь.
Мы пожаловались, что чересчур долго ждали приема у мэра города, что тот чересчур долго донимал нас расспросами, прежде чем указать дорогу в Докюн, и поэтому нам пришлось ехать по самой жаре.
– Такое бывает, – пустился в философствования Идрисса. – Вы оказались в незавидном положении зависимых людей. Есть правители, которые относятся не лучше и к соотечественникам; для них легче съесть кролика, чем слона. Мой дед твердил: «Если ты презираешь малых, наступи на скорпиона, и ты сразу поймешь свою ошибку». Без малых не продержится ни одно государство. Впрочем, они сами виноваты, коли ими плохо правят. Поставившему жабу над собой нечего пенять на то, как она прыгает. Обо всем надо думать заранее.
– Идрисса, но вы сами вождь. Вы интересуетесь, что о вас думают в деревне?
– Отвечу снова пословицей: «Вождь никогда не знает, что о нем думают его подданные, ибо слышит от них только хвалу». Разумнее всего и не допытываться, а жить так, как живут все, не выделяться излишествами и нескромностью.
– Неужели так трезво мыслят все традиционные правители в Верхней Вольте?
– Нет, разумеется. Люди везде разные. Я-то правлю практически собственной семьей, у нас все – родичи в том или ином колене. И еще я сражался с колонизаторами, а такой опыт даром не проходит, братство по оружию стирает сословные и этнические различия, делает нас человечнее.
– Вас, наверное, утомили мои выпытывания? – спохватился я.
– Почему же? Вы у нас новый человек. Мы, фульбе, говорим: «Никто не знает так мало, как тот, кто ни о чем не спрашивает». Я хочу, чтобы вы получили правильное представление о нашей жизни и не рассказывали потом о нас побасенок.
К Идриссе подбежал мальчик лет семи-восьми и что-то тихо сказал. Ласково ответив, наш хозяин погладил его по голове и мягко пояснил:
– Мой сын.
– Сколько у вас детей?
– Осталось лишь семь. В саванне выживают только сильные, – вздохнул он.
Из хижины выглянула Фатимату, видимо самая любимая супруга вождя, и позвала нас ужинать.
Я окинул взглядом деревню. Круглые строения были аккуратно свиты из перетянутых снопиков просяной соломы. На одну овальную крышу, напоминающую соломенную каску, края которой свисали почти до дверного проема, была положена другая. Вход был аркообразный, низкий, и пройти внутрь не сгибаясь мог только ребенок. Таким образом люди страхуют себя от песчаных бурь, ураганных ветров, проливных дождей и других приступов стихии, от врагов (пока кто-то заползает в хижину, есть время разглядеть – свой или чужой). Рядом с входом была прислонена дверь – соломенная циновка, касавшаяся нижней крыши. Ее навешивают на ночь или в бурю.
Волей-неволей отдав поклон хижине, я шагнул внутрь. Там было чисто и прохладно, приятно пахло соломой. Земляной пол был утрамбован до плотности бетона. Справа находилась кухня, слева, у стены, покоилась на терракотовых опорах низкая большая кровать на две персоны. На врытые по ее углам столбы был водружен полог из соломы. С трех сторон кровать тоже можно было загородить циновками. Вдоль стены стояли и висели в специально плетеных сетках усеченные сверху круглые белые калебасы. Лишь несколько из них были слегка украшены орнаментами охряного цвета. В подвешенных сосудах хранились личные документы, деньги, драгоценности – при пожаре их вынесли бы первыми, в стоявших на полу были овощи, сахар, просо, арахис, листья баобаба, хлопок, мука, рис, кора от желудочных заболеваний, предметы домашнего обихода.
В кухнях на трех-четырех камнях пылал костер, в котле пыхтела пшенная каша. Открытый очаг в африканском жилище – это не только своего рода печь для готовки и обогрева. Излучаемые им тепло и свет притягивают к себе, объединяют всех членов семьи. Вечерами пятачок перед очагом служит местом общения людей. Ночью, когда пугающие, таинственные силы приближаются к нам вплотную, свет костра становится последней преградой, которая мешает торжествующей мгле поглотить человека. Так думает большинство африканцев. Кроме того, дым от огня посреди жилища, где нет дымохода, отпугивает насекомых – переносчиков болезней и способствует сбережению продуктов, размещаемых тут же, на земле или на настилах под потолком. К очагу издревле питают глубокое почтение, вокруг него всегда чисто подметено.
– Когда наши предки грелись у костра, они чувствовали плечо друг друга, свое единство, свою взаимозависимость, – рассуждал Идрисса. – В полыхавшем пламени таился секрет их силы. Затем каждый постарался урвать себе частицу общего огня, растащить его на множество-огоньков, и круг обогревавшихся вместе сузился. Отсюда пошли себялюбие и черствость.
Огородившие очаг тонкие стены первой хижины вызвали, по мнению старого вождя, первую трещину в человеческом братстве, стали провозвестниками отчуждения и индивидуализма. Сегодня костер – неосознанное, ностальгическое воспоминание о тех, кто канул в Лету, а очаг – робкий, но по-прежнему верный хранитель семейных уз.
Традиционное уважение к очагу африканцы демонстрируют порой даже в мало подходящих для этого условиях. В середине 70-х годов правительство одной из освободившихся португалоязычных стран национализировало в столице современные многоэтажные дома, брошенные владельцами, и вселило туда обитателей трущоб. Вскоре деревянные полы в квартирах обуглились или исчезли: новые жильцы открывали окна, разводили огонь прямо посреди комнаты в мангале или жаровне и коротали вечера, как в деревне, сидя вокруг очага.
Соломенные хижины – спутницы саванны. На севере Камеруна, у холмов Мора, я ночевал в доме арабов-шоа. В строении из беспорядочно набросанной травы, стянутой веревками, было свежо, легко дышалось, почти не докучали комары и москиты (в «стены» добавляют особые ароматические травы, как в русской деревне постель прокладывают полынью – от блох). Дверь была настоящая, сплетенная из прутьев и соломы. Внутри гигантского помещения находилась «хижина в хижине» – отгороженная опочивальня родителей, с просторной кроватью под балдахином. Очаг, более крупный, чем у фульбе, имел с одной стороны высокий глиняный брандмауэр, с других – стенки пониже. Ночью в дом загоняли скотину, и животные, надо отдать им должное, вели себя вполне спокойно.
Посреди горного массива Мандара
На севере Камеруна громадной гранитной глыбой, причудливо изваянной солнцем, ветром и дождями, вздымается на высоту 1200 метров горный массив Мандара. Он неожиданно вырастает перед путником, бредущим из глубины равнинной саванны, и так же резко обрывается в глинисто-песчаную долину типа полупустыни (400 метров над уровнем моря), которая затем плавно понижается к реке Логоне и озеру Чад. Острые, как шипы, скалы, утесы, плато, изрезанное глубокими старческими морщинами ущелий, кажутся заколдованным царством. Его оживляет редкая, но разнообразная флора, в которой явно верховодят баобабы и масличные деревья – карите. Там и сям попадаются сенегальские кайи, «колбасные деревья» с плодами, похожими на ливерную колбасу длиной в полметра, тамаринды, складывающие свои листочки на ночь и в дождливую погоду, вьющиеся зизифусы из семейства крушиновых, всевозможные акации, колючие кустарники. Буквально столбенеешь перед фикусами, невесть как пустившими корни на высоких скальных платформах: оказывается, и камень может служить питательной средой для предприимчивых растений. Изредка встречаются финиковые пальмы.
Климат здесь прохладнее, чем в саванне. С декабря по февраль тянется холодный сухой сезон. Температура опускается до +10–12 градусов, часты пыльные «туманы».
С марта по май солнце распаляется, ртутный столбик подпрыгивает до +45 градусов в тени. Пересыхают реки, ручьи, колодцы, твердеют и коробятся шкуры животных в хижинах, желтеет, делается ломкой бумага. Пять месяцев ни капли дождя!
Май приносит торнадо – с водой возвращается жизнь. После первых же дождей местные жители сеют просо, основную для них продовольственную культуру. Июнь и июль в зазеленевшем, пылающем цветами краю – настоящая весна. Но вторая половина дождливого сезона – безумие гроз и ливней. В октябре, утопая среди болот, вздувшихся водных потоков, люди уже изнывают в ожидании сухого сезона точно так же, как в апреле они молили духов предков ниспослать им дождь.
Горы заселены довольно плотно – в среднем шестьдесят человек на квадратный километр. Хижины народа матакам, близ Моколо, лепятся на камнях, гребнях вершин и горных склонах. Поля выкроены в ложбинах: матакам ценят каждую пядь земли, пригодную для обработки. То и дело видишь лоскутные «нивы» размером с письменный стол. Мизерным количеством земли объясняется разбросанность жилья, отсутствие больших деревень.
За соломенными или тростниковыми стенами здесь не спрячешься. Дома кладут из камней, щедро обмазанных глиной. В верхних рядах между ними оставляют зазоры для вентиляции. На стропила – несколько брусьев, упирающихся в стены и сходящихся под острым углом, – настилают огромные циновки из стеблей проса. Получается золотистый конус. Перед сухим сезоном крышу обновляют, заменяя растрепанную ветром, поблекшую солому свежей.
Когда юноше исполняется двадцать два года, он женится, с помощью родственников и друзей возводит свой дом. Теперь он взрослый человек, и отец выделяет ему часть земли. Самостоятельность начинается с одной хижины, к которой по мере разрастания семьи пристраиваются стена к стене другие. В итоге возникает «саре» – группа жилищ, образующих круг. Снаружи можно проникнуть через очень низкий проем только в хижину главы семейства, а дальше ведет единый ход сообщений. Загулявшей допоздна девице не проскользнуть домой мимо недреманного родительского ока. Не забраться внутрь такого «замка» ни пылкому влюбленному, ни опытному соблазнителю, ни иному лиходею. От злых духов и недругов вход оберегают заостренные кости жертвенных животных или каменные топоры, вставленные в швы кладки.
К жилым помещениям жмутся хижины-амбары. В одной из них хранится амфоровидная ваза домового – настоящего хозяина «саре»; кувшины служат, кроме всего прочего, обиталищем душ усопших предков, которые, даже покинув сей мир, как бы остаются со своей семьей. Две-три хижины предназначены для коз и овец, отдельная – для козла, другая – для быка (мужскому полу африканцы всегда отдают особые почести), которого собираются забить по случаю очередного обрядового праздника.
По форме жилищ легко узнать, к какому из народов, осевших в горах Мандара, они принадлежат. Мунданг сооружают кубические дома с тяжеловесной плоской крышей, рядом – круглые глиняные житницы с куполами.
Тупури ставят круглые саманные хижины с дверью в форме замочной скважины и конусообразной крышей из травы и стеблей проса. Житницы у них похожи на полутораметровые глиняные бутыли. Самые бедные тупури обходятся соломенными домиками.
Целиком из глины строят свои дома маса, живущие к югу от озера Чад. Как и многие другие народы саванн и полупустынь Западной Африки, маса не применяют кирпичную кладку. Когда устанавливается сухая погода, они замешивают глину и из сырой массы лепят стены. В день удается выложить слой толщиной до 30 сантиметров. Дождавшись, пока глина высохнет и затвердеет, намазывают новый слой. Люди не торопятся. Работа должна быть удовольствием, а не пыткой, утверждают они.
Едва стены готовы, справляют новоселье.
– Как же так? Без крыши? – недоумевал я.
– Ну и что же? – в свою очередь, удивлялись мои собеседники. – Над нами не каплет. Мудрость нашего народа гласит: не делай сегодня то, что можно отложить до завтра. Всегда есть какие-то более спешные дела.
Смысл заняться крышей появляется в преддверии дождливого сезона. Благо свежая солома под рукой: только-только снят урожай проса. К стенам для украшения прикрепляют деревянные выпуклости – близкую к оригиналу копию женских грудей, – раскрашенные черной или белой краской. Это залог того, что в доме народится многочисленное потомство. На стенах некоторых хижин нарисованы ступни. «Знак устойчивости в жизни», – пояснил мне один из крестьян.
Шаровидные домики маса, как это ни странно, выдерживают неистовые бури и не тают под водопадами ливней. Кое-где легковерные, послушав европейцев, строили из той же глины четырехугольные жилища – и оставались без крова при первых же порывах ветра.