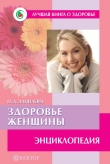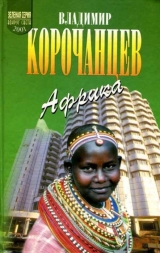
Текст книги "Африка — земля парадоксов"
Автор книги: Владимир Корочанцев
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Правдивость в искусстве отчасти вытекает из правдивости и совестливости, которые прививаются зимбабвийцу сызмала как один из основных нравственных принципов. Конечно, есть вещи, о которых остерегаются упоминать и которые тем более не обсуждают. На подобного рода вопрос, заданный неделикатным чужаком, даже дети отвечают уклончиво: «Хамено» – «Не знаю». В действительности это звучит как «я вам не скажу», однако никто не упрекает их в ослушании, непочтительности к старшему. Не сказать – право любого, но боже упаси лгать, изворачиваться. Услышав короткое «хамено», лучше не упорствовать – и собеседник оценит вашу тактичность. Скульпторы часто произносили это слово в ответ на просьбу открыть их замысел.
– Законченное произведение живет помимо нас, – улыбнулся Джон Такавира. – Только оно само могло бы вам ответить, если бы у него был язык. А мои мысли заняты уже другим. Художнику трудно истолковывать, он создает.
– Возьмите любовь к родине – сквозную тему творчества многих наших ваятелей, – рассуждает Джорам Марига. – Это искреннее, естественное чувство нельзя выразить прямолинейными, пусть даже броскими приемами, навязчивыми и поверхностными, как лозунги. Оно требует особой душевности, без которой выстрел будет холостым.
Зимбабвийский художник выражает свой патриотизм, обращаясь к национальным темам и сюжетам, прибегая к сугубо национальным формам и символам.
– Я знаком с десятками скульпторов, живописцев, графиков, которые по-мужски скупо говорят о привязанности к отечеству, но чутко реагируют на все повороты и трудности в развитии страны, – замечает профессор Роджерс. – Они отправляют свои произведения на заморские выставки не в погоне за личной славой, а для того, чтобы поведать миру о красоте родной земли. Их патриотизм – не в громких шаблонных фразах, а в страстном рассказе о своей деревне, быте и труде односельчан, в озабоченности судьбами родины, в стремлении к совершенству, наконец.

«Коли уж взялся за дело, делай его наилучшим образом», – гласит мудрость шона. Такая форма патриотизма была присуща зимбабвийцам во все времена и сохраняется по сию пору. Она устраивает всех. В устном моральном кодексе шона есть и принцип «куфадза», означающий «порадовать другого». Высшее счастье в нашей короткой жизни – доставлять другим удовольствие, радость, поступать так не ради похвалы или выгоды, а от чистого сердца, учат старики молодежь. В языке этого народа шесть синонимов «милосердия», «прощения». Корыстная лесть осуждается, шона четко различают вежливость и подхалимство. «Если король хромает, то подданные ползают, – говорят они. – Но настоящие мужчины всегда стоят на ногах».
Хотя народная мораль подтачивается влиянием западной цивилизации, традиционные нормы везде, особенно в деревне, имеют пока силу закона. Молодым твердят: идите к совершенству, мы вам поможем.
– Когда вы заканчиваете работу и вроде бы удовлетворены ею, – размышляет вслух ваятель из Булавайо Джозеф Муссондо, – очень важно сознавать: предел возможностей не достигнут, вы еще способны сотворить нечто более глубокое. Это главное в творчестве. Так что предпринимайте новую попытку достичь совершенства. За ней – следующую. Многие художники в моей стране думают именно так. Недаром у нас говорят: «Путь к счастью и совершенству бесконечен».
На крупнейшей за всю историю Зимбабве выставке, открытой в Национальной художественной галерее в дни встречи глав государств и правительств неприсоединившихся стран (Хараре, сентябрь 1986 года), мое внимание привлекла скульптурная композиция – триптих Дж. Муссондо «Ядерная катастрофа». Он щемяще, очень образно показал, какую трагедию принесла бы человечеству атомная война.
– Наши традиции велят всем людям жить вместе, трудиться сообща, беречь жизнь, – пояснил мне Джозеф.
Жить вместе – заповедь предков. В старину она адресовалась прежде всего мужской половине народа. Женщины приходили в новые семьи из других кланов, родов, деревень, как и сейчас. Мужчины же оставались там, где родились. Им было завещано сплачивать семьи, чувствовать локоть друг друга, чтобы не встать на колени перед природой, коварными врагами. Нынешнее индустриализирующееся общество требует, чтобы мужчины покидали деревню, заставляет матерей идти на работу и раньше, чем принято по обычаю, оставлять детей дома одних. Все больше черт индивидуализма и эгоизма появляется у людей, еще недавно клявшихся именем деревни, именем рода. Но ощущение необходимости взаимной поддержки еще сохраняется в сознании, из которого не вытравить разом то, что откладывалось столетиями.
Жить по заветам предков!
…Ваятелю Адаму Мадебе горячо и долго рукоплескали, когда жюри торжественно объявило его победителем конкурса, устроенного художественной галереей и центром искусств и ремесел второго по величине города Зимбабве – Булавайо. Бронзовая статуя «Устремленный в будущее» изображала атлетически сложенного нагого мужчину. Вскинув голову и прикрыв левой рукой, как козырьком, глаза от солнца, он сосредоточенно смотрел вдаль. Знатоки кружили возле впечатляющей фигуры, сравнивая ее ни больше ни меньше, как с Аполлоном Бельведерским, который показался им теперь «обезжиренным» на фоне зимбабвийского атлета.
По решению городского муниципалитета отмеченные премиями скульптуры были вынесены на гладкие бархатные лужайки парка Тауэр-блок, прямо напротив галереи, на суд публики. И вот тут-то разгорелся сыр-бор. Горожане валом повалили в уютный, дотоле редко посещаемый уголок, чтобы поглазеть на шедевры искусства.
Некоторые ревнители нравственности, рассказывала мне репортер местной газеты «Кроникл» Лора Кэмпбелл, потребовали «одеть статую, хотя бы частично». Согласно опросу, проведенному газетой, рвущийся в завтрашнее далеко металлический крепыш больше шокировал своим видом пожилых людей, чем молодежь. Правда, группа молодых людей призналась, что атлет, наделенный незаурядными физическими достоинствами, на первых порах чуть конфузил их, но они быстро к нему привыкли. Одна женщина, сама не нашедшая в «Устремленном» ничего дурного, была несколько обеспокоена лишь тем, какое влияние скульптура может оказать на детей.
– Это – искусство, – с типично военной прямотой убеждал меня (хотя я-то был здесь ни при чем) ветеран Второй мировой войны, отставной пилот Джон Рекс. – В заморских музеях вы, несомненно, найдете кое-что похлеще.
Атмосфера накалялась. Специалисты встали стеной на защиту коллеги. Директор центра искусств и ремесел Стивен Уильямс заявил, что художник должен анатомически точно изображать человеческое тело.
– Обнаженные фигуры известны мировому искусству на протяжении тысячелетий, – доказывал он. – Возьмите, к примеру, Давида, вышедшего из-под резца Микеланджело Буонарроти. Мы нанесем ущерб народной нравственности, если обяжем коллегу Мадебе ханжески упростить его детище или надеть на статую брюки, хотя, признаться, я трудно представляю себе такие брюки, в которые уместилось бы его мужское достоинство.
Умиротворяюще звучали слова другого члена жюри – видного скульптора Джилла Кауфмана:
– Поверьте, люди со временем привыкнут к шедевру моего собрата. Ничего неприличного в одухотворенном богатыре нет. Вы ежедневно смотрите отвратительные, пошлые фильмы, которые без конца крутят в наших кинотеатрах, – уж там-то бесстыдство возведено в систему.
Обращало на себя внимание то, что большинство протестующих составляли африканцы. Ясность наступила, когда Кин-Маршалл Чарумбира – председатель ассоциации жителей пригорода Куинз-парк – от их имени потребовал убрать произведение, «созданное без учета традиционной культуры». «Даже герои нашего далекого прошлого – Лобенгула, Неханза и Кагуви – носили кое-какую одежду», – с чувством сказал он.
В его словах в известной мере кроется разгадка неожиданно враждебной реакции части населения Булавайо на появление «Устремленного». Основной промах художника заключался, видимо, в том, что в порыве вдохновения он творил в классической манере, чаянно или нечаянно презрев древний обычай собственного народа: ндебеле, обитающие в этих краях, в отличие от жителей центра или запада Африки искони чуть прикрывали наготу. Все, что открыто, уязвимо для дурного глаза, считают они. Мужчины почти никогда не расставались с набедренной повязкой. Иначе по воле злого колдуна они могли бы потерять способность иметь потомство, а для африканца нет трагедии печальнее этой. Если стилизованные нагие женские фигурки в искусстве ндебеле не редкость, то мужские подобного рода практически не встречаются.
Власти долго ломали голову, что делать с вызвавшим едва ли не общенациональную дискуссию бронзовым юношей, погруженным в раздумья о проблемах будущего.
– Не он первый такой мыслитель и не он последний, – резюмировал в нашей беседе директор жилищно-коммунальных служб муниципалитета Булавайо Мтшена Сидиле. – Раз народ протестует, значит, надо прислушаться к его голосу.
В конце концов экзотическую для этих мест скульптуру убрали в помещение. А потом изредка на короткое время выставляли на суд всегда валом валивших, чтобы посмотреть на нее, капризных зрителей.
К слову сказать, нечто подобное произошло в июле 1999 года в столице Анголы Луанде. На площади Святой надежды была выставлена последняя работа одного из ведущих скульпторов страны – Закариаша Матеуша Калумбанголы – деревянная статуя обнаженной женщины. Большая группа озабоченных граждан и гражданок, ведомых женщинами-парламентариями, на следующий же день потребовала убрать скульптуру, которая, как они заявили, оскорбляет их эстетические и нравственные чувства, или одеть ее, как и положено, в традиционный африканский наряд.
Власти оставили право нелегкого выбора за автором произведения, и он, конечно, выбрал. Не мог пойти против воли предков. Дело в том, что скульптура посвящена ритуалу родного для Калумбанголы племени кокве, когда племя радостно празднует излечение женщин от бесплодия с помощью средств народной медицины. Никаких одеяний для исцеляемых не предусматривается ни в ходе медицинских процедур, ни после, во время праздничных торжеств.
Но разгадка подобных запретов проста: согласно поверью многих народов банту, вид нагой красавицы может отнять у мужчины половую мощь, иначе говоря, сделать его импотентом. Был такой случай в июле 1999 года. Четверо дюжих полицейских в провинции Ньянза, на западе Кении, арестовали женщину за изготовление местной самогонки чангаа. Находчивая дородная красотка пустилась проворно стаскивать с себя одежду, а блюстители порядка, словно ошпаренные, в ужасе бросились наутек. По обычаям народа лухья, мужчина, узревший нагую замужнюю женщину, обязательно должен подвергнуться дорогостоящей унизительной церемонии очищения от скверны, иначе превратится в презренного евнуха и будет отвергнут обществом. Но в принципе в Черной Африке женщины традиционно прибегают к прилюдному обнажению верхней части тела как к способу выразить крайний гнев и возмущение.
…Любое произведение зимбабвийского мастера, даже посвященное современной теме, так или иначе связано с легендой, тотемом, религиозным верованием. Художники невольно вкладывают в свои творения чуточку народного миропонимания, привычную народам шона и ндебеле образность. Дома у скульптора Николаса Мукомберанвы я был буквально ошеломлен работой «Вождь». На меня в упор глядели огромные глаза крепко сбитого мужчины с волевым подбородком, сложенными крест-накрест и прикрытыми циновкой ногами. Весь его облик выражал достоинство, мудрость и прозрение.
– У вас был конкретный прототип для этой скульптуры? – поинтересовался я.
– Все вожди. Всех времен и, если хотите, народов, – ответил Мукомберанва.
– У него очень сильный характер. Вам это хорошо удалось показать.
– Иначе за ним не пошли бы люди, – подхватил скульптор. – Они могут повиноваться ему, но не следовать за ним. Это подрывает общину. В собственной хижине, говаривал мой дед, и дурак – умный, а за пределами-то хижины все по-другому. Вождь обязан подавать пример в соблюдении извечного кодекса морали, чтобы не угас дух общины, не подгнили ее нравственные устои. Он хранитель обычаев и традиций, и то лучшее, что есть в рядовом человеке, должно быть многократно увеличено в вожде. К примеру, принцип «куэвибата», требующий предельной сдержанности и самоконтроля, рекомендует действовать лишь по зрелом размышлении и ни малейшим движением не реагировать на промах соплеменника. Если кто-то уколет, обидит вас, то, согласно «куэвибата», позорнее всего ответить тем же.
Оскорбление отметают молчанием.
– Ну а если вождь или старейшина ведет себя против правил хорошего тона?
– Тогда он получит должную оценку, и не обязательно ему скажут о ней в лицо – иногда опять же молчание, общее равнодушие сильнее самого сурового публичного порицания. Когда человек на виду, его достоинства и недостатки тоже всем заметны, как бы он их ни скрывал. Ничтожество, временщик, перехитривший свой жребий и волей случая вознесенный на пьедестал, в конечном счете займет надлежащее место в склепе исторических посредственностей, какие бы дифирамбы куртизаны ни пели ему при жизни.
Миф и поэзия наполняют каждую скульптуру Николаса. Символы и аллегории, сопровождающие зимбабвийцев от рождения до последнего вздоха, придают его произведениям совершенно определенный жизненный смысл. Круглые, большие глаза – черта искренних, чистых людей, три глаза у двух почти сросшихся друг с другом человеческих головок говорят о безмерности любви. Николас обтесывает гигантские камни только при ярком солнце, желая передать в них свет и тень.
В ателье Джозефа Ндаидарики я залюбовался работой «Поверяет секрет»: два бабуина, слившиеся в камне, повернулись лицом к лицу, положив руку на руку.
– Такие секреты хранятся вечно, – промолвил Джозеф.
На основе народной философии складываются новые представления, осмысливается современная жизнь – и не только в собственной стране, но и во всем мире. Это особенно хорошо видно в работах того же Джозефа Муссондо – автора «Ядерной катастрофы». Джозеф очень молод, у него еще все впереди. Поборник свободы, он отдает часть гонораров беженцам из Южной Африки, голодающим детям континента. Никто не обязывает к этому скульптора, но у него, по словам С. Роджерса, вошло в инстинкт сознание солидарности с угнетенными и обездоленными.
Моральный кодекс шона советует человеку не слишком бурно выражать свои добрые чувства, не кичиться своими хорошими поступками, которые должны идти из глубины души – только тогда они будут действительно свободными от всяких побочных намерений. Шона изливают любовь не в словах, а в делах, не выказывают ее принародно. У них нет места сентиментальности – чувству обезоруживающему, неискреннему, присущему слабым. Они не выдают свою привязанность поцелуями. Долг каждого мужчины – обеспечить защиту женщине и уважение старикам. Во время трапезы в своем доме мужчина всегда сидит ближе к двери, чтобы быстро выскочить из хижины по первому сигналу тревоги. Любовь отца измеряется тем, что он делает для наследников, как воспитывает их. И в этом есть резон: чем больше внимания к детям, тем крепче усваивают они моральные заповеди общины.
…Среди статуй, теснящихся в кабинете С. Роджерса, выделяется скульптура «Страдание» Джона Киканы. Человек с перекошенным от горя лицом взывает к сочувствию. Кикана живет в отдаленной деревне Русафи, в религиозной миссии. Он инвалид. Его волнуют нравственные, общечеловеческие темы. В своих произведениях раз за разом он пытается передать мучительность боли, борется за то, чтобы ее в нашей жизни было меньше.
– Не все молодые скульпторы тяготеют к работам с ясным социальным подтекстом, – говорит профессор Роджерс. – Некоторые ваяют или рисуют ради выражения чистой красоты, соприкосновение с которой тоже потрясает и очищает.
Несколько лет провел в Великобритании Мозес Гудса. Он вернулся на родину с убеждением, что в мире сейчас стало трудно жить и что молодежь, объединив усилия, может сделать нашу Землю лучше и безопаснее.
– Социальное для меня – в борьбе за прекрасное, – заявляет он. – Когда мы поймем, сколь прекрасна и уникальна наша жизнь, на планете станет спокойнее.
Как-то я наблюдал за работой Николаса Мукомберанвы в деревушке южнее Хараре. Он неистово обтесывал глыбу серпентина. Под учащенными ударами брызгала, рассыпаясь искрами, каменная крошка, из монолита, словно из сгустившейся в материю массы времени, из темной, не воспринимаемой конкретно вечности, проступали живые черты. Будто уловив мое настроение, Николас произнес:
– Человек кровно связан с временем. Он является из неизвестности и уходит туда же. Так почему он должен выделяться в природе, если, родившись на свет, когда-нибудь неминуемо расстанется с жизнью, незаметно и навсегда возвратится в неизвестность, которую мы зовем вечностью?
Он закончил свой труд, с легким вздохом положил резец на землю и откинулся назад.
Я воскликнул:
– Николас, это шедевр!
Он покачал головой:
– Нет, я не удовлетворен. Есть недостатки, которые могу увидеть только я сам.
Благодаря желанию выразить великие идеи свободы, стремлению к прекрасному не иссякают творческие силы скульпторов Зимбабве.
МАСКА, ТЫ НЕ КОНЕЦ!
ТЫ НАЧАЛО И ОБНОВЛЕНИЕ!
У каждой африканской маски своя конкретная задача. Маска может внушать страх, ужас, уважение, почтение или вызывать веселье, насмешку. Многое зависит от характера ее носителя и манеры ношения. Некоторые дозволено надевать только одному определенному человеку. Обычно маска – часть костюма, маскирующего личность танцора. Никто не обижается на его действия, которые могут быть даже оскорбительными, но не воспринимаются как личное оскорбление. Богу дозволено все.
Африканская маска – не примитивное переодевание, не маскарад, не средство сойти за божество – она сам бог, являющийся народу в своем истинном облике. Люди не должны узнавать знакомых, вдруг избранных посредниками невидимых существ, – иначе обряд пойдет насмарку.
Тайна носителя маски укрепляет его дух, усиливает воздействие ритуала. Когда судья на Западе надевает парик и мантию, это деперсонализирует его, отделяет личность от исполняемой роли судьи: приговор обвиняемому выносится уже не гражданином имярек, а обществом, представляемым им. Скрывшись за маской, человек как бы теряет слух: он не слышит приказов вождей, советов старших, которым еще вчера беспрекословно повиновался, просьб знакомых. Он становится выразителем каких-то более высоких объективных жизненных процессов, воли и велений высших сил.
В философском плане маска призвана продемонстрировать участие в одной и той же жизни существ живущих и давно ушедших, невидимых, она – временное пристанище, приют богов и духов, причем обиталищем является не только сама маска и одежды к ней, но и ряженый. В весь этот ансамбль вселяется божество, и, пока оно живет в маске, человек тоже пребывает в священном мире, являясь не самим собой, а богом, который действует за него. Маска дает возможность человеку не только отделять себя от окружающего мира, но и удаляться от мира сего к Богу, и личность его самого уже не имеет значения, ибо он исполняет социально значимый акт, важный для выживания всех.
Маска – спутник африканца на всех этапах жизни: при рождении, переходе от юности к зрелости, включении его в социальную жизнь, на смертном одре и похоронах. Она присутствует при искупительных и благодарственных молитвах, при обращении к умершим предкам, семейным духам и божествам. Ею пользуются при осуждении преступника, уплате вором компенсации, благословении полей, выражении благодарности за урожай, при обращении к предкам с просьбой спасти народ во время войн. Чтобы высмеять мелких преступников и лодырей, тоже пользуются ею. Увеселительные маски, маски-шуты безобидны, на них разрешается смотреть непосвященным, женщинам и детям.
У народов дан и гере в Кот-д’Ивуаре и Либерии маска высшего ранга изображает могущественного лесного духа, который выполняет функции судьи, законодателя, миротворца, принимает наиболее ответственные решения о войне и мире. В ее присутствии никто не отважится лгать. Все признают ее нейтральной, в каком-то смысле высшей нравственной инстанцией. В прежние времена дан и гере приносили ей в жертву пленников. Такого рода маски регулярно задабривают куриной кровью, пальмовым маслом и разжеванными орехами кола.
У маконде в Музде (Мозамбик) в улаживании тяжб и конфликтов участвовали судейские маски. Они скрывали судью как конкретную личность. Ни один человек не вправе судить других или самостоятельно принимать решение. Вся власть вершится от имени предков, и всякий приговор выносится от их имени. Камуфляж необходим и для того, чтобы не вспыхнула вражда между семьями судьи и осужденного.
Маска духа Великой Матери у тайного общества деа в тех же краях – идеализированный образ женщины. Она улаживает споры и особенно опекает новорожденных и детей в лесных школах. Ее миролюбивый характер оттеняется глубоким мягким голосом носительницы и спокойной музыкой, сопровождающей ее выход.
…В темном мохнатом костюме лихо ворвалась в круг маска-шлем бунду в гвинейской деревне народа менде близ границы с Кот-д’Ивуаром. Мне повезло, тайное женское общество санде решило изгнать злых духов из селения, как раз когда я там находился. Без бунду здесь не обойтись. Утонченные черты женского лица, высокий открытый умный лоб, изящная прическа – большая, как корона, коса над головой, поддерживаемая на макушке устремленным ввысь фаллосоподобным штырем (мысли о любви вечны в женской головке) – придавали женственность неподвижной деревянной маске. По преданию, эта птица – хранительница племени охотится на злых духов, покушающихся на спокойствие менде. Иногда бунду, которую почитает также соседний народ темне в Сьерра-Леоне, является на суд, чтобы разоблачить преступников или виновных в непристойном поведении. Для менде и темне эта маска сулит единение, удачу и успех.
Маски уважаемы. Психологически типичное отношение к ним описывает нигерийский писатель Чинуа Ачебе в романе «Стрела бога». «Когда вас посещает дух, носящий маску, вы должны умилостивить следы его ног щедрыми дарами», – поучает один из его персонажей.
У гио (Либерия) маски изображают предка-основателя, недавно умерших знатных людей, носят тотемический характер, воплощая свойства животного, подходящие к данному случаю. Маску ди кела в честь богини победы надевают, чтобы приветствовать победивших воинов. В маске толаге выступает сановник, в сопровождении старейшин разыскивающий преступника. Клуге – маска в образе шимпанзе или существа, соединяющего черты обезьяны и человека. Она появляется на празднике риса.
Африканцы считают, что мощь маски еще более усиливается благодаря животному или дереву, облик которого она приняла. Маски догонов всегда дополнены чертами животных.
В деревне народа сенуфо в Мали я увидел большую зооморфную маску понинуго, главное действующее лицо в обряде гбон, призванном изгнать духов – пожирателей душ. Она появляется на ночных церемониях с бичом, изрыгая огонь и трубя в рог. В масках понинуго синтезированы черты буйвола, антилопы, кабана, обезьяны, крокодила. Глаза с надбровными дугами и нос часто антропоморфны, форма головы ближе к буйволиной, приоткрытая пасть с оскаленными зубами напоминает пасть крокодила, в ее верхней части торчат кабаньи клыки, уши и рога антилопы. Иногда маска имеет навершие в виде фигурки животного – хамелеона, змеи, птицы. Подобные фигурки – эмблемы рода или клана.
Курумба на севере Буркина-Фасо выпроваживают злых духов во время полевых работ и снятия траура с помощью масок-наголовников, основным элементом которых служит стилизованная раскрашенная голова антилопы со слегка выгнутой шеей, прямыми рогами и ограненной вытянутой мордой.
У наму (Гвинея, Кот-д’Ивуар) маска имеет полутораметровое навершие, в котором узнаваемы черты человека, крокодила, змеи, антилопы и птицы. Маска олицетворяет всемогущее мистическое существо, вершащее правосудие в полном несправедливости человеческом мире.
Малийские бамбара делают маски по силуэту дерева, древесина которого используется для их изготовления. В деревушке по дороге из Бамако в Сегу я видел, как умелец Бакари Туре выстругивал маски антилопы из эбенового дерева. Рядом сидели три музыканта, один из которых – тамтамист. Они исполняли народные песни.
– Под музыку лучше спорится дело? – спросил я у отца Бакари.
– Если вы думаете, что они развлекают моего сына, то ошибаетесь. Они задают ритм его работе. Вы, европейцы, не замечаете этого. У нас же маску, которая музыкально не гармонирует с изображаемым объектом, не наденет никто!
Когда думаешь о маске, то мысль непрестанно крутится вокруг феномена ее использования и воздействия. «Давным-давно был я на Кубе, в Сантьяго, и возвращался под утро с карнавала, – пишет социолог Сергей Кара-Мурза. – Подвез меня до дома старый полицейский, лет тридцать служивший в полиции. Рассказывал, как трудно было раньше во время карнавалов. Масса убийств – в толпе, под грохот музыки. Ткнули ножом – и не понятно кто. И вот новое правительство догадалось – запретило маски. Это потому, что, надев маску, человек может спрятать в карман совесть. А с открытым лицом этого не сделаешь, хотя бы тебя никто и не видел».
Африканская маска помогает уразуметь и в известной мере объяснить это явление, вытекающее из противоречивости человеческой натуры, помраченной грехом, но жаждущей добра. Человек столь же способен на добрые поступки, сколь и падок на злые, если не борется с собой.
В Африке издавна создавались мистическо-религиозные союзы, члены которых по ночам изображают духов и сверхъестественных существ, танцуя в камуфляжных нарядах. Маски пугают и воспитывают, отчитывают и утешают, ободряют и убивают. Когда в деревне кто-то ведет себя плохо, по представлению членов мистического общества, то в глухой полуночный час таинственные ряженые окружают его хижину и пляшут вокруг, угрожая ему и его семье. Страх перед привидениями и анонимность масок призваны подавить волю, подчинить себе. Носители масок защищают своих, но безжалостно запугивают чужаков, занимаются вымогательством, проявляя порой крайнюю жестокость.
В Габоне маски странного лесного духа Нда опускаются до умыкания овец и коз, которых поедают члены союза.
У мусульманского народа мандинго чудовищный дух Мумбо-Джумбо (правильнее Мухаммах-Джамбох) временами выскакивает из леса, избивает и терроризирует женщин.
У темне в Сьерра-Леоне известен тайный союз Анкумунко, членами которого являются духи умерших его «активистов». Время от времени Анкумунко устраивает торжественные шествия. Подойдя к дому одного из соратников, маски поют величальные песни: один певец солирует, а толпа, приплясывая, подпевает ему с закрытыми ртами.
Более всего темне боятся плясунов, которым покровительствует божество Калоко. «Калоко беко, идет Калоко!» – кричат люди, когда под гром барабанов из пущи выскакивает пляшущий бог. Ведет он себя почти весело, но у иных сельчан в жилах стынет кровь. По обычаю, в это время «похищают» несколько юношей и девушек, которых Калоко, в выразительной, приводящей в оцепенение маске, собирается «убить и съесть». Боги любят только молодых. Позднее всех милостиво отпускают, приняв одного из пойманных в члены общества. В прошлом наверняка такого милосердия не было.
В декабре 1968 года камерунский артист Жозеф Мвондо привез меня к владельцу маски экой в лесной деревушке у отрогов вулканического горного массива Камерун. Из темного угла хижины, сурово оскалившись ослепительно белыми зубами, на меня взирало кажущееся живым желтоватое человеческое лицо, окрашенное каким-то особенным чувством превосходства и даже презрения к окружающим. Маска вперилась в меня пронизывающим безжалостным взглядом.
Знаменитые маски экой в пограничном районе Камеруна и Нигерии до мельчайших подробностей воспроизводят человеческую голову, вплоть до волос. Их вырезают из дерева и обтягивают кожей антилопы. Такая маска призвана восстановить во время обряда жизненные силы человека и природы, позаимствовав их у убитого. В старину в дело пускали голову умерщвленного недруга или раба как реальное вместилище жизненных сил, а со временем заменили ее копией жертвы.
Тив на юге Нигерии совершали ритуал с целью приобщить индивида к сверхъестественной силе цав, носящей положительный, созидательный характер. Тив были убеждены, что с ее помощью можно увеличить благосостояние общины и привлечь ей на подмогу природные силы. Чтобы заполучить цав, по совету колдуна следовало съесть человеческую плоть. Отсюда начиналась цепь людоедских действий, касавшихся более молодых близких родственников, вплоть до собственного сына или младшего брата. А как такое совершить без маски? Хватит ли духа?
То же было у борфима в Сьерра-Леоне и магена в Габоне – для усиления действия талисмана рекомендовалось сварить в горшке человечье мясо. Поедание его считалось приобщением к природе. Сила и энергия жертвы передавалась тому, кто ел ее мясо и пил ее кровь, которая обладала, по поверьям, огромной силой, а потому служила повышению социального статуса и престижа (впрочем, во всем мире, как и в Африке, уже появилось много деятелей, поднимающих свой авторитет путем фактически людоедских действий, ведущих к большим жертвам среди собственных сограждан). Как говорится в заклинании нигерийских йоруба: «Все мы пытаемся сделать то, что не предназначено нам судьбой. Звезды стараются быть ярче луны. Лягушка пытается на крыльях взлететь».
Когда в Гвинее или Сьерра-Леоне пляшут маски тайных обществ, непосвященные прячутся по домам. Об их приближении оповещают тамтамы, трещотки, трубы, скрипки, флейты… И не всегда они несут с собой радость.
От Сенегала до Анголы убивали и грабили, надев наводящие ужас маски, «люди-леопарды». Но их маски и звериные шкуры уже были лишены священного смысла и служили для запугивания людей и сокрытия личности агрессоров. Кстати, леопард – синоним слепой и глухой силы.
Колдуны народа бакерве в Конго уверяют, что способны превращать умерших в леопардов, змей, крокодилов и прочих зверей. Обычно для вселения души умершего выбирают крокодила, которого уважают и боятся, но в котором не видят ни бога, ни духа. Конголезские и заирские маги славятся искусством баньямвези – «превращения» людей в львов и леопардов. И колдуны и «превращенные» зачастую буйствовали в масках, беспощадно расправляясь с жертвами металлическими лапами, оставляющими характерные раны.
В прошлом в Камеруне на дороге из Дуалы в Яунде орудовали «люди-пантеры», не гнушавшиеся людоедства. Тайные общества «людей-пантер» действовали в Гвинее. В Анголе и Танганьике бесчинствовали «люди-львы». В Сьерра-Леоне, на берегах реки Вольта, и в Кот-д’Ивуаре, как только опускались сумерки, никто не высовывал носа на улицу, избегая нападения «людей-крокодилов». В 1945 году в Форт-Руссе (Берег Слоновой Кости, ныне Кот-д’Ивуар) судили «людей-кайманов» из секты «Эдзо». Ее члены изготовили зелье, с помощью которого они хотели просить духов предков помочь им совершить политические убийства. Четверых приговорили к смертной казни. В Конго «люди-крокодилы» носили раскрашенную накидку, кожу рептилии и маски из ее головы, а также металлические лапы для умерщвления жертв.