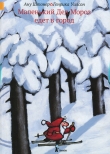Текст книги "Вся жизнь - поход"
Автор книги: Виктор Дихтярев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Ограниченность общения с внешним миром делает понятным увиливание самых дошлых воспитанников от трудовых дел, узость их интересов и следование многих ребят тем негласным нормам, которые насаждаются самыми горластыми, агрессивными и физически сильными детьми. Безусловно, и в этих условиях многое зависит от работы воспитателя, но условия изолированности все-таки дают о себе знать.
Я видел, что ребятам нужны какие-то общие дела, которыми они бы увлеклись и в которых могли проявить свои творческие способности. Эти дела со своими линиями взаимозависимости и взаимоотвтественности должны выплеснуться за пределы интерната, ввести ребят в круг новых напряжений и создать новых лидеров, даже не подозревающих сейчас о своих возможностях.
Я перелопачивал книги по теории воспитания – там все было ясно и очень логично – так и хотелось броситься воплощать умные рекомендации в нашей каждодневной суете. Но в академической солидности ученых книг не было самого важного для меня: что надо сделать конкретно, чтобы девчонки и мальчишки засверкали улыбками, чтобы их энергия сгорала разумно в играх, труде и учебе, и чтобы жизнь их была наполнена предчувствием необычайных открытий.
Вот как у К.Симонова:
Ложась в кровать, нам надо перед сном
Знать, что назавтра просыпаться стоит,
Что счастье, пусть хоть самое пустое,
Пусть мелкое придет к нам завтра днем.
Я уже понимал, что сколько бы не накручивалось ярких интернатских дел, без общей захватывающей цели все дела наши будут только отдельными мероприятиями – с их помощью трудно объединить ребят. Конечно, раскрывать перед пятиклассниками уж слишком далекие перспективы не стоит: к ним может пропасть интерес. Но увлечь чем-то ребят хотя бы на пару месяцев я считал необходимым. А потом поставить еще одну цель, а потом еще. И чтобы общая увлеченность при движении к цели меняла отношение ребят к другим делам, ранее не значимым для них. Например, к учебе и уборке спален. Умозрительно все это было правильным, только не находилось у нас общих длительных дел, ничего у меня не придумывалось. Затеяли мы ставить сцены из спектаклей-сказок, так вышли из этого одни раздоры: девчонки собираются на репетиции, а мальчишки, которые были сначала "за", теперь разбегаются по мастерским – там интересней.
Пятиклассники были готовы выполнять отдельные поручения, но чтобы всем вместе – такое случалось редко. Вот когда к нашим делам подключались старшие воспитанники, воз трогался с места. Семиклассники не только были терпеливей моих малышей, но представляли конечный результат наших репетиций и за уши вытаскивали мальчишек из мастерских.
Да, на репетициях начали появляться едва уловимые дружеские связи между моими ребятами, но ни на что это особенно не влияло – разве что ссор в классе стало чуть меньше.
В который раз я отмечал для себя полезность общих дел младших и старших. Малыши, допушенные в круг семиклассников, принимали их отношение к репетициям, а старшие воспитанники, хоть в малой степени, брали на себя роли взрослых людей, и мне не нужно было следить за порядком или уговаривать главного героя наконец-то выучить текст.
И все-таки наше лицедейство до коллективных целей не дотягивало. В других интернатских делах я тоже ничего нужного для сплочения класса углядеть не мог. Делалось для ребят много:
"Огоньки", всякие пионерские сборы, конкурсы, спортивные соревнования. Но такого дела, о котором мечтают ночами, у нас не было. Временами у меня появлялось ощущение бесполезности своей работы. Все, что я мог, это потребовать выполнения режимных моментов и проконтролировать выполнение уроков. Ну еще развлекать ребят и немного образовывать их. За два года работы в школе я никогда не задумывался, что получится из моих учеников в будущем – вполне хватало сегодняшних забот.
Теперь же, возясь с пятиклассниками, я все чаще беспокоился об их дальнейшей судьбе – чтобы не выросли они склочными людьми, себялюбцами, чтобы помимо бытовых забот появились бы у них духовные интересы, и чтобы жить рядом с ними было надежно другим. Но как это сделать, я не знал.
Туристский лагерь
Я стоял в тихом вестибюле возле наших стендов с фотографиями последних соревнований. Ребята давно улеглись, разошлись по домам воспитатели, и притемненный интернат казался немного другим, торжественно-строгим, без привычных голосов, стука посуды в столовой и гула станков в слесарной мастерской.
Я часто уходил последним и потому удивился, услышав на лестнице медленные шаги. Подошла директор интерната, Валентина Ивановна, строгая и резкая женщина, скупая на похвалу и вгонявшая в страх молодых учителей своими вопросами: " Вы почему сидите без дела? Ах, нет урока. И нечем заняться? Ну-ну ". Учительская молодежь, заметив директора в коридоре, ускоряла шаг, показывая, что безумно торопится, а Валентина Ивановна останавливалась и сверлила свеженьких специалистов подозрительным взглядом.
Мне встреча с директором ничем не грозила – время было позднее, но Валентина Ивановна не изменила своей привычке:
– Вы почему еще здесь?
– Да вот, любуюсь стендами.
Валентина Ивановна взглянула на фотографии, и я уже приготовился к неизбежным замечаниям.
– Мне бы ваши заботы, – вздохнула Валентина Ивановна. – А я не могу распределить ребят по летним лагерям, – Шефы выделяют сорок путевок. Двадцать, ну, пускай, тридцать выбью еще у кого-нибудь, а остальные где взять?
И тут я, не подумавши, ляпнул:
– Давайте построим свой палаточный лагерь, и все проблемы отпадут.
– Это какой еще палаточный лагерь? – насторожилась Валентина Ивановна.
И я рассказал, как прошлым летом прожил с ребятами десять дней в лесу.
– Надо подумать, надо подумать, – сказала Валентина Ивановна.– До свидания.
Я забыл об этом мимолетном разговоре, но через неделю, случайно встретив меня, Валентина Ивановна резко спросила:
– Что уже сделано по лагерю?
Я сначала не сообразил, о чем речь, а вспомнив наш разговор, развел руками:
– Мы ведь ничего не решали, только поговорили...
– У меня нет времени впустую разговаривать, – оборвала Валентина Ивановна. – Зайдите ко мне.
Валентина Ивановна выслушала меня, быстро задала несколько вопросов, и в этот же день в учительской появился приказ о назначении меня начальником несуществующего туристкого лагеря.
Времени было в обрез – всего два месяца. Я быстренько набросал план необходимых работ и список стройматериалов.
Требовалось не так уж и много: доски для настила под палатки, для стола и скамеек, да кирпичи для печки. Но оказалось, что достать все это законным путем невозможно – сметой такие расходы не предусматривались. Тогда я разослал ребят искать места, где разбираются старые деревянные дома. Как они там разговаривали с начальством – не знаю, но две машины, доверху груженных полусгнившими досками, во двор интерната завезли.
Это были не просто доски, а доски с гвоздями – моя головная боль, потому что покупать их тоже не разрешалось. Оставалось достать палатки. Десять штук было в интернате, а нам требовалось двадцать! Я бегал по организациям, не имевшим к нам никакого отношения, что-то доказывал, особо упирая на заботу партии и государства о детях, и три дышащих на ладан палатки все-таки притащил. Две палатки достал Сергей Михайлович Голицын. Об этом удивительном человеке хотелось бы рассказывать долго. Высокий, худой и слегка сутулый, он смотрел на мир добрыми, чуть прищуренными глазами. За десять лет общения с ним я очень редко видел, чтобы Сергей Михайлович сердился на ребят. Но уж если сердился, то получалось это немного смешно и наивно: он начинал говорить путаясь и слегка заикаясь, а провинившиеся стояли перед ним, ничуть не боясь, изо всех сил стараясь изобразить на лицах полнейшее раскаяние. Отпустив – как он говорил – плохиша и поворчав ему вслед, Сергей Михайлович успокаивался и, обращаясь ко мне, довольно улыбался:
– Как я его распушил, а ?
Сергей Михайлович не был ни учителем, ни воспитателем. Он нес собственный крест, потому что был писателем.
Еще до нашего знакомства я учил ребят ориентированию и глазомерной съемке местности по его книге "Хочу быть топографом", а потом с удовольствием читал "Сорок изыскателей" и "За березовыми книгами" о поисковой работе в путешествиях воспитанников нашего интерната. Потом вышел
"Страшный Кракозавр и его дети", где главным героем был Михаил Владимирович Кабатченко, о котором я еще непременно расскажу. Две последних книги Сергей Михайлович написал для взрослых: "Сказания о белых камнях" с фотографиями Александра Сергеевича Потрясова, учителя по профессии и путешественника по духу, прошедшего с ребятами на байдарках многие реки нашей страны, и "Записки уцелевшего" – книга-воспоминание, книга-исповедь, наверное, главная в его жизни.
"Записки уцелевшего" сразу исчезли с прилавков магазинов, мне даже показалось, что книга и не попадала на них. Это един-ственная книга Сергея Михайловича в моей библиотеке без его дарственной надписи – он умер незадолго до выхода ее в свет...
Так вот, две палатки принес Сергей Михайлович из Союза писателей, резонно заметив, что ничего страшного не произойдет, если, уходя из лагеря в походы, ребята будут снимать с деревянных настилов свои палатки, и что моя мечта об излишках – это старорежимные замашки, о которых нужно забыть. На что я не преминул тут же ответить: "А вы сами – бывший князь!" На том и поладили.
Пока ребята стругали и фуговали доски, я колдовал над структурой лагеря и содержанием его работы.
Брать за образец пионерские лагеря не хотелось, и вот почему.
Основная ячейка пионерского лагеря – отряд. В отряде до тридцати человек и один вожатый (воспитателей тогда в штате не было). Руководящий состав отряда – его председатель и трое звеньевых с неопределенными обязанностями. Часто ребята знакомятся между собой и с вожатым только в лагере. И в такой, плохо знающей друг друга общности, вожатый должен проводить "мероприятия" и "воспитательную работу". Что это такое воспитательная работа за двадцать четыре дня лагерной смены, – сколько мне ни втолковывали, я так и не мог понять.
Все отрядные мероприятия вожатый старается организо-вать с помощью председателя и актива, и это правильно. Но в отряде тридцать человек: девчонки, мальчишки, все по своим микрогруппам – дружеским, враждующим, нейтральным. А председатель – их сверстник. Может он руководить таким отрядом, с которым и взрослый справляется не всегда?
Чтобы не устраивать председателю адовой жизни, я решил сделать отряды по восемь человек, считая командира. Уж таким отрядом авторитетный сверстник – а своих воспитанников мы знали как облупленных – сможет руководить. А что будут делать оставшиеся семь человек? Как что? Тоже руководить!
И в каждом отряде появилось семь очень важных должностей:
1. Штурман – ответственный за разработку маршрута и его прохождение. Само название "штурман" мне не понравилось и я написал "первопроходец", но в первые же дни лагеря ребята стали говорить "проходимец", и под этим названием должность вошла в наши анналы.
2. Завпрод – ответственный за продукты в походе и за сухой паек во время сельхозработ.
3. Завхоз – ответственный за походное снаряжение и за получе-ние рабочего инвентаря в лагере (грабли, топоры, молотки и пр.).
4. Санитар – ответственный за гигиену ребят в отряде и за лечение болячек в походе.
5. Краевед – ответственный за походный дневник и за рассказ о походе всему лагерю.
6. Производственный сектор – организатор сельскохозяйствен-ных работ в отряде. Он же ответственный за спортивные мероприятия.
7. Член Штаба лагеря. Здесь требуется пояснение. Штаб планировался из восьми человек – по одному представителю от каждого отряда плюс начальник лагеря. Чтобы не плодить туристскую аристократию, любящую командовать, но не любящую подчиняться, командиры отрядов в Штаб не назначались. Должности в Штабе дублировали должности в отрядах – Начальник Штаба, Главный санитар, Главный краевед и т. д. В результате получилась такая картина: члены Штаба, руководящие всей жизнью лагеря и приносившие ежевечерне в отряды нужную информацию, были в своих отрядах простыми рядовыми, представлявшими резерв, который могли использовать для своих надобностей ответственные за отдельные участки работ. Но на заседаниях Штаба они превращались в больших начальников, и теперь уже перед ними отчитывались и командиры, и другие отрядные сектора.
Кроме того, из дежурившего по кухне отряда назначался дежурный командир, отвечавший за точное выполнение режима дня.
Я рассматривал эту структуру с разных сторон, стараясь определить, где могут оказаться проколы. Все вроде было логично и не очень громоздко. По моим расчетам, структура не только обеспечивала организационную мобильность, но и не позволяла никому занять в отряде пр ивилегированное положе-ние: каждый был то начальником, то подчиненным, и нормальная жизнь отряда зависела от совместной работы всех его секторов.
Теперь следовало заняться кадровым составом. Сколько взрослых должно быть в лагере? Себя как начальника я утвердил без возражений. Не вызывало сомнения и присутствие Сергея Михайловича, бывшего фельдшера, а ныне возведенного в должность медбрата. Трех человек надо отправлять с отрядами в походы. Конечно, можно иметь еще одного туриста-инструктора на подмену, и повар для красивой жизни был бы не лишним, но я уже вывел для себя формулу: взрослых в лагере должно быть столько, сколько необходимо, и на одного меньше.
Только при этом условии можно серьезно расчитывать на ребячье самоуправление, а не на игру в него, и только при этом условии почти у каждого может формироваться понятие ответственности – та нравственная категория, без которой любое начинание может с треском провалиться.
Значит, взрослых у нас будет пятеро на шестьдесят воспитанников из пятых, шестых и седьмых классов. Понятно, что воспитателей в отрядах не предусматривалось. И хотя я на всякий случай, не уведомляя ребят, закрепил за каждым взрослым по два отряда, это оказалось излишним и забылось само собой. Четвертый класс мне не отдали: и палаток для них не было, и, как сказала директор, жизнь – хорошая штука, и вычеркивать из нее малышей она не позволит. Поэтому четвертый класс решили поселить в ближайшей от лагеря сельской школе под присмотром их воспитателя.
Ну, а дальше все было просто или почти просто. 5-е – 7-е классы получили задание найти лесную поляну в районе Звенигорода с удобными подъездами к ней и вблизи от Москва-реки. Этот район был выбран по двум соображениям: во-первых, он богат историческими памятниками и народными промыслами, а во-вторых, туда было удобно выезжать из нашего интерната. Конечно, мы посылали туристов не наобум, а указывали на карте места, где следует проводить поиски. Каждый класс подробно рассказывал о своих находках, до хрипоты доказывая, что лучшего места нет во всем Подмосковье, но мне не нравилось то одно, то другое, пока шестиклассники не поведали о двух больших полянах в двух километрах от Звенигорода, с крутым спуском к реке. Я выехал туда – место оказалось великолепным, и в тот же день без особых хлопот я получил разрешение в звенигородском горисполкоме и лесничестве на строительство временного палаточного городка.
В последних числах мая ударная группа завезла на поляну строительные материалы, и работа началась. В темном провале леса, где недавно водились стаи непуганого воронья, поднялась печь, стрельнула первым угольком – и синий дымок, еще пахнущий сырой глиной, запутался и осел в соседних кустах.
Рядом соорудили непонятного жанра навес для столовой, а из подгнивших досок сколотили настилы под палатки, расположив их по самому краю поляны. Продукты нам обещали завозить еженедельно, поэтому вместо погреба мы воздвигли большой шалаш, обернув его клеенками – полиэтиленовых пленок тогда еще не было.
На пятый день вкопали перед палатками мачту для флага – вот, собственно, и все. Строительная бригада работала дружно по 9-10 часов, у каждой группы было свое задание и свой график, и подгонять никого не требовалось.
В день приезда воспитанников мы убрали территорию от строительного мусора и долго сидели на поляне, любуясь делом рук своих. Преподаватель труда Юрий Александрович и интернатский сапожник Алексей Иванович, под началом которых велись все работы, в ответ на мои восторги только довольно хмыкали: мол, чего уж, на том и стоим. Если бы мне три года назад сказали, что такой лагерь могут построить ребята, которых в обычной школе принято считать малышами и за которыми нужен постоянный догляд, я бы только рукой махнул.
Но вот она сидит рядом, наша строительная бригада – две девочки и трое мальчишек из моего пятого класса и пятеро шестиклассников. С такими же ребятами я начинал свои первые походы и чуть было не уверовал, что кроме буйства и лености, это младое незнакомое племя ни на что не способно. А тут оказалось, что наши строители совсем не похожи на своих крикливых и плохо управляемых сверстников. Почему?
Думаю, не ошибусь, если скажу, что многое определило присутствие Юрия Александровича и Алексея Ивановича, не делавших скидок на возраст своих помощников. Они говорили с ребятами на равных, изредка поругивая тех, у кого что-то не получалось, и так быстро, так ловко исправляли огрехи, что отлынивать от работ никому и в голову не могло прийти.
Я, как начальник лагеря, а пока начальник строительства, таскал ведрами воду из Москва-реки – а это по крутяку вверх, да еще с полкилометра до нашей поляны – или стучал молотком в паре с кем-нибудь из ребят. И то, что все делали общее дело, создавало тот особый настрой, когда ощущение собственной нужности не позволяло отвлекаться, и девчонки ругали нас, потому что обед или ужин стыли на грубо сколоченных и еще не покрытых клеенками столах. Мы не подводили итогов ежедневных трудов, а неторопливо беседовали за кружками чая о всяких разностях, как это бывает у хорошо поработавших людей. Но о чем бы ни говорили, разговор все равно поворачивал на строительство, и, посмеявшись над рассказом Алексея Ивановича о том, как он в первый раз доил корову, кто-нибудь спрашивал:
– А чего это навес над столовой еще толью не покрыт?
– Гвозди ржавые, гнутся все время, – похлебывая чаек, говорит шестиклассник. – Да и работать неудобно: одной рукой стучишь, а другой за крышу держишься.
– Витек, ты бы ему лестницу сколотил, – говорит Алексей Иванович.
– Ладно.
Мне нравились эти вечерние негромкие посиделки, нравились спокойные мужские разговоры отдыхавших после работы ребят – я знал, что и в лагере они будут во всем помогать мне, потому что заботы теперь у нас были общими.
Во второй половине дня на поляну въехало два автобуса и грузовик с матрасами и спальным бельем. Пока шла разгрузка, я подошел к Валентине Ивановне. Как обычно сухо поздоровавшись и быстро спросив, все ли в порядке, она начала осматривать лагерь.
– Это, как я понимаю, столовая, – резко говорила Валентина Ивановна. Крыша не течет? Почему не знаете? Ах, не было дождей. А когда пойдут, на что расчитываете?
Не слушая объяснений, заглянула в продуктовый шалаш:
– Погеб поленились вырыть?
Мы переходили от заготовленных дров к рукомойникам, потом к выгребной яме, и везде что-то не нравилось нашему директору.
Наконец, обстучав печь и приподняв на плите конфорки, Валентина Ивановна сказала:
– Идите, занимайтесь своими делами. Мне провожатых не надо.
Дела у меня были не такими уж сложными: я должен был сидеть у своей палатки и ничего не делать. Всю заботу о приеме ребят взяла на себя строительная бригада. И первое, что она сотворила, – это поставила возле мачты табурет и на веревке подвесила ватманский лист с крупным текстом: "Стол справок и ответов на глупые вопросы. Разговариваем только с командирами".
Отряды были сформированы еще в интернате, а теперь у палаток стояли таблички с их номерами, так что и спрашивать-то было нечего. Но мы все-таки пустили по лагерю трех ребят с планшетками на груди:
" Показываю, где туалеты, рукомойники и выгребная яма "
" Отведу к врачу"
" Принимаю потерянные вещи".
Я сидел у своей палатки и смотрел, как ловко управляются мои девчонки с выдачей постельного белья. Никого, кроме отрядных завхозов, специально выделенный шестиклассник из строительной бригады к ним не подпускал.
– Получай, – быстро говорили девчонки. – Восемь простыней, восемь пододеяльников, восемь наволочек и восемь полотенец. Пересчитай. Теперь распишись. Следующий!
Возле грузовика командиры отрядов получали одеяла, подушки и матрасы. И везде полный порядок, так что я мог, ни о чем не заботясь, беседовать с приехавшими воспитателями, готовыми немедленно рвануться в бой.
Мы не заметили, как из-за палатки вышла Валентина Ивановна. Отдыхаете? – спросила она. – И заняться, конечно, нечем? Позвольте напомнить: вы не на курорт приехали.
Воспитатели встали, но так как работы у них пока не было, затоптались на месте, и неловкая пауза начала затягиваться.
– Валентина Ивановна, – сказал я, – вы доверили мне детей, так может быть, доверите и делать то, что сочту нужным.
– Не кипятитесь, – Валентина Ивановна тяжело опустилась на рюкзак. Она посмотрела на ребят, таскающих в палатки матрасы, и неожиданно улыбнулась:
– А вы молодец. В общем, все здесь хорошо. Садитесь, товарищи, кивнула она воспитателям. – Напутствий никаких не будет. Вы люди взрослые, и я верю вам.
Мы поговорили о каких-то пустяках, и Валентина Ивановна поднялась:
– Соберите ребят, будем прощаться.
Это не очень вписывалось в мои планы. Я думал сначала потолковать с командирами и показать каждому место его отряда на линейке, но спорить не стал. Горнист протрубил сбор, и я прокричал, чтобы все бросили свои занятия и подошли к мачте. Ну конечно же, ребята собирались долго – одни в это время стелились в палатках, другие распаковывали свои рюкзаки, и пришлось обратиться к воспитателям, чтобы они подогнали нерасторопных. На линейке началась толкотня и споры из-за места; я видел, как Валентина Ивановна поджала губы, и, упреждая ее замечания, громко скомандовал:
– Лагерь, равняйсь! К рапорту директору стоять смирно! Равнение на сердину!
Четко повернувшись, отпечатал к Валентине Ивановне несколь-ко шагов:
– Товарищ директор школы-интерната! Туристы лагеря по Вашему приказанию построены!
Я сделал строевой шаг в сторону, чтобы встать чуть за спиной директора, и на ходу сквозь зубы шепнул:
– Скажите " Вольно! "
– Что? – спросила Валентина Ивановна.
– Скажите " Вольно! " – просипел я.
– Вольно, – сказала Валентина Ивановна.
– Вольно! – прокричал я.
– Выдумщики! – сказала Валентина Ивановна и улыбнулась.
Заурчали машины. Строительная бригада толпилась возле Юрия Александровича и Алексея Ивановича, пожимая им руки по нескольку раз. Им не хотелось уезжать, и с какой бы радостью я оставил в лагере этих двух педагогов без дипломов о педагогическом образовании!
Качнулся на повороте проселочной дороги кузов грузовика, разбрелись по поляне ребята, и началась наша лагерная жизнь.
Ребячье самоуправление
Перед ужином я собрал Штаб лагеря, командиров отрядов и воспитателей. С планом работы все были знакомы, поэтому решались только текущие вопросы: порядок умывания в Москве-реке, распределение мест в столовой – словом, все то, что трудно было оговорить в интернате. Потом все вышли к линейке, и командирам указали, где будут стоять их отряды. Мне было жалко портить поляну, окапывая линейку бровкой, и командирам сказали, чтобы они просто запомнили свои места.
Мне еще с пионерских лет претили лагерные линейки. Долгие построения, сдача рапортов, выслушивание объявлений, подъем и спуск флага, когда надо держать руку в салюте – и все это минут двадцать, на радость нудно гудящим комарам. Торжественность ритуала блекла из-за ежедневных повторений, а смысловая нагрузка общего сбора не оправдывала времени, затраченного на него.
На первом заседании Штаба мы решили, что линейка не должна проводиться дольше 5-6 минут, а если потребуется дополнительное время, надо попросить разрешения у ребят. Естественно, встал вопрос, с какого момента вести отсчет времени – от сигнала трубы или когда отряды выстроятся на линейке. И тогда я выдвинул ну просто блестящее предложение.
– Вот что, – сказал я, – будем давать два сигнала: первый предупредительный, а через восемь минут основной. И не только для построения на линейку, но и на любой общий сбор. И после второго сигнала дежурный командир начинает громко считать до двенадцати. На двенадцатой секунде построение должно быть закончено.
Ребята уже привыкли к моим выдумкам и начали обмозговывать, что из этого может получиться.
– А почему именно до двенадцати ? – спросили воспитатели.
– Потому что это не круглое число, – сказал я. – И пусть все думают, почему до двенадцати – скорее запомнят.
– Не побегут, – сказал Сергей Михайлович. – А впрочем, это даже интересно.
Скажите честно, вы бы побежали ? – спросил я членов Штаба и командиров.
– Мы бы побежали, а вот остальные...
– Которые, конечно, несознательнее вас, – закончил я недосказанную мысль. – Поверьте, если ребятам объяснить, что мы экономим их время и никому не позволим его транжирить, нас поймут. Предлагаю мое предложение не голосовать, а опробовать на линейке. Договорились?
Раз уж разговор зашел об экономии времени, я предложил изменить и форму проведения линеек.
Для чего нам нужны утренние и вечерние построения?
Прежде всего, для учета людей. Второе – для краткого объявления плана на день. Подробно говорить не нужно: члены Штаба есть в каждом отряде и сами расскажут там о своих решениях. Третье – для передачи дежурства от одного отряда к другому. И четвертое – для объявления людей, получивших благодарность или наряд от дежкома, если таковые будут.
Как уместить это в 5-6 минут ? А очень просто. Растолковывать ребятам все, что мы придумали на заседании Штаба, долго не пришлось – это было принято, как новая игра, и дня через три стало привычным. И тогда получилось вот что.
На двенадцатой секунде после второго сигнала трубы построение на линейке заканчивается. Отряды стоят один от другого на расстоянии метра, с командирами на шаг впереди. В пионерских галстуках – только командиры. Уже одно это позволяет мне и воспитателям пробежать взглядом по строю и увидеть, в каком отряде не хватает человека.
Вот теперь начинается отсчет времени.
Я говорю:
– Первый отряд!
– Все! – отвечает командир.
– Второй отряд!
– Все!
– Третий отряд!
– Четверо на кухне, остальные здесь!
– Четвертый отряд!
– Один в лазарете, остальные здесь! – И т. д.
На перекличку уходит 15-20 секунд. Дежурный командир в своей тетради делает пометки.
– Слово дежурному командиру, – говорит начальник Штаба.
Отчет дежкома предельно краток. Перед линейкой он уже подробно отчитывался на заседании Штаба и – что существенно – сам выставлял себе оценку за дежурство, а члены Штаба или утверждали оценку, или корректировали ее. По первости дежкомы мялись и возводили глаза к небу, когда их спрашивали:
– Что же ты, проработал весь день – и не можешь оценить, как ?
Я видел – чем ближе к заседанию Штаба, тем больше волновался дежурный командир. Он подходил ко мне или к воспитателям и спрашивал, не много ли будет, если он поставит себе "четыре". Его успокаивали и советовали поставить "пять". Дежком соглашался, но на Штабе все-таки говорил: "четыре".
– Почему "четыре"?
– Так...
– Есть предожение: "пять". – И дежком облегченно вздыхал под одобрительные реплики своих товарищей.
И теперь на линейке дежком говорил:
– День прошел нормально. Благодарности получили за добровольную пилку дров такие-то. Нарядников нет. Оценка – "пять".
Обычно я благодарил отличившихся ребят, но затягивать линейку не имел права, поэтому отчет дежкома и мое выступление занимали не более двух минут. Затем начальник Штаба называл дежурный отряд на следующий день. Из отряда выходил назначенный заранее командиром новый дежком и принимал от старого повязку и тетрадь.
Начальник Штаба объявлял, какие отряды уходят завтра в поход, и вызывал туриста, предложенного дежурным командиром за особые заслуги на спуск флага (утром флаг лагеря поднимал дежурный командир).
Я командовал:
– Лагерь, равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Командиры, салют! Флаг спустить!
Если не вмешивался наш писатель и врач Сергей Михайлович, лимит времени, отводимый на линейку, даже не исчерпывался.
Но у Сергея Михайловича почти всегда находились сверхважные темы для разговора именно на линейке. Он выходил к мачте и, дергая себя за пальцы, начинал объяснять, что любая царапина может привести к нагноению, если ее не смазать зеленкой, и как плохо поступил Юра Овчинников, сбежав из лазарета в поле на прополку капусты. Я знал, что такой разговор может тянуться бесконечно, и, извинившись, спрашивал ребят:
– Время линейки закончилось. Дадим Сергею Михайловичу слово?
– Дадим! – кричали ребята. Они любили Сергея Михайловича, хотя ни в грош не ставили его советы.
План нашей работы был составлен так, что почти ежедневно половина отрядов была в походах, а половина в лагере. На троих воспитателей легла большая нагрузка: две девушки выводили на маршрут по одному отряду, а мужчина – географ – возглавлял сразу два. Вернувшись, воспитатели получали два дня отдыха – только какой это отдых, если надо оформлять материалы похода и готовиться к вечернему отчету, да еще судить различные соревнования! Подозреваю, что воспитателям было даже легче в походах, чем в нашей лагерной суете; во всяком случае, они с радостью уводили на маршруты новые отряды. Мы знакомились с районом в радиусе 25-30 километров от нашего лагеря, составляли карты маршрутов и описания к ним в расчете, что этот материал пригодиться в следующем году.
Каждый отряд прошел три двухдневных похода и один трехдневный. Ребята шли по местам боев Великой Отечественной войны, были на игольном заводе и на фабрике, мастерившей гитары, облазили Саввинско-Сторожевский монастырь, и воспитатели говорили, что они очень довольны своими туристами.
В лагере с четырьмя отрядами оставались я и Сергей Михайлович. Я выводил ребят на колхозное поле полоть капусту, организовывал после работы купание, а после тихого часа – снова купание и спортивные соревнования. Сергей Михайлович оставался с дежурным отрядом в лагере и помогал малышам стаскивать с плиты тяжеленные котлы.
Кстати, о купании. Почему деревенские мальчишки сидят в реке сколько им хочется, а мы должны только по несколько минут?
И я договорился с ребятами, что если, кроме меня, нет взрослых, в реку входит один отряд. Второй отряд следит персонально за каждым купающимся, а третий загорает на песочке. Купаться можно до посинения, но уж если вышел на берег, второй раз в воду не входишь. Когда самые настырные, стуча зубами, выскакивали из реки, в воду бросался второй отряд. А потом все начиналось сызнова. Как и предполагал, больше пяти-шести минут ребята в реке не засиживались, но все были довольны, что купаться можно без всяких ограничений!