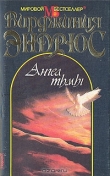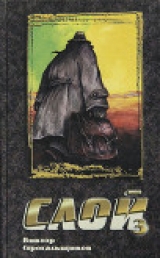
Текст книги "Слой 3"
Автор книги: Виктор Строгальщиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
– Отмотай назад, Коля, – попросил Лузгин, стряхивая сигаретный пепел в банку из-под кофе. – Вот так, хорош. Теперь запускай.
Городская студия телевидения располагалась в левом крыле местного Дворца культуры – большого угластого здания, построенного в начале девяностых годов на первые лихие нефтедоллары. Тогда же был закуплен нефтяниками в Японии и комплект эфирно-студийного оборудования, да такого, что старые телестудии, включая и областную тюменскую, умылись слезами от зависти. В марте девяносто четвертого студия «Альянс» впервые вышла в эфир с коротким блоком новостей, концертами по заявкам и пиратскими копиями новейших американских кинофильмов.
С той поры в местном эфире мало что изменилось.
– Стоп! – рявкнул Лузгин. – Клеим отсюда. И рапидиком, рапидиком, когда он глаза подымает.
– Ну, это кино... – недовольно процедил оператор Коля. – В новостях так не делают.
– Ты мне будешь объяснять, что и как делают в новостях?
Лузгин хмыкнул, легонько щелкнул оператора по затылку и вопросительно глянул на местную примадонну эфира Анну Вячеславовну Лялину, двадцатисемилетнюю незамужнюю дочь директора городского спорткомплекса, длинноногую брюнетку с белой кожей и скуластым лицом, чуть тронутым легкой россыпью веснушек. «Ты почему не загораешь?» – спросил ее как-то Лузгин, когда лежали на матрасе в углу комнаты. «Зачем?» – сказала Анна, глядя в потолок, и вздрогнула белыми плечами. Сейчас она сидела рядом с Лузгиным, откинувшись в кресле и положив джинсовые ноги в белых кроссовках на край монтажного стола – переоделась, как только вернулись на студию: ненавидела платья и туфли на каблуках, но в кадре старалась «соответствовать».
– Что дальше? – спросил оператор.
Анна уронила сигарету в торопливо подставленную Лузгиным банку-пепельницу.
Найди на пленке молчащие задумчивые лица и намонтируй подряд их сколько найдешь.
– На интершуме?
– Да. А в конце... – Анна задумалась на мгновение. В конце дай стоп-кадром общий план людей на рельсах и... Есть у нас в фонотеке тепловозный гудок?
– Поищем, – ответил вяло оператор.
– Гениально, – сказал Лузгин.
– Да что вы! – сказала Лялина.
– Я серьезно. Гудок – как предостережение, как напоминание о неизбежности развязки. Это гениально. Вы классная журналистка, Анна Вячеславовна. Одного понять не могу: почему же ты в эфире так глупо выглядишь?
Он знал, что сейчас его станут бить, и заранее прикрыл голову ладонями.
А как не хотел же он ехать в этот заштатный северный городишко! Кротов – тот принял решение сразу, едва Слесаренко прилетел и объяснил, что к чему и зачем. Лузгин же готовился к отпуску, только что отмонтировал последнюю свою передачу и крепко отпраздновал, после чего второй день депрессировал похмельно, и тут эта дурацкая идея: куда-то лететь, к черту на рога, что-то налаживать и выяснять, и главное – отпуск накрывался окончательно и бесповоротно, а так мечталось окунуться в море на Мальорке, сбросить вес и душевно побарствовать.
Пришлось сдавать путевки и ругаться с женой и турфирмой, потом выкупать их снова – для жены и ее подруги, снизошедшей за лузгинские деньги скрасить гамаркино одиночество на Мальорке.
Почему он согласился – Лузгин так до конца и не понял. Конечно же, повлияла кротовская быстрая решительность и давняя его, Лузги на, необидная зависть к умению старого друга и одноклассника вот так вот, наотмашь, поворачивать жизнь. Он сочувствовал Слесаренко, когда узнал про его жену, и совершенно искренне усердствовал на похоронах, но потом тог уехал на Север и тихо пропал, и вдруг появился какой-то весь новый, подобранный, с незнакомым напором во взгляде. Этот новый Слесаренко не слишком понравился Лузгину. Было видно, что этому новому уже не требовались поводыри и наставники только помощники. Он готов был слушать, но не слушаться. Лузгин же любил, когда люди во власти именно слушались его, так было на всех передачах, а здесь понимал: не получится.
И все-таки он согласился. Хотя в ответ на слова Кротова о том, что с некоторых пор мы несем ответственность за этого человека, только скривился презрительно. Никакой ответственности за Слесаренко он не чувствовал и не сознавал, и ему было все равно, станет тот мэром или не станет. Дружище Кротов, как всегда, играл в свои живые шахматы и на доске, и под доской, интерес же Лузгина в данном случае был чисто спортивный и денежный.
– Мотай к началу, – скомандовал Лузгин, когда оператор закончил монтаж эпизода. – Оценим шедевр в совокупности. А ты, Аня, текст прогони под картинку. Пожалуйста.
– Чтоб ты подох, любимый, – сказала Лялина, кладя на колени листочек с закадровым текстом. Они уже ни от кого не прятались.
Первые кадры сюжета шли под крики и шум забастовки. Анна бубнила рядом свой текст скучным голосом, но Лузгин улавливал: текст «ложится», объясняет ситуацию и создает напряжение. Вот приехал Слесаренко, люди смотрят угрюмо и недоверчиво, суетится агрессивный Зырянов лицом в кадр, на переднем плане упрямый слесаренковский затылок, хорошо слышен зыряновский вопрос: «Зачем приехал!», поразительный ответ Слесаренко про жену, мертвая пауза, вот Зырянов поднимает глаза (специально замедлили пленку), и всё, партия закончена, полный мат забастовщикам под тревожный гудок паровоза.
– Кто посоветовал Слесаренко сказать про жену? – спросила Анна. – Ты? Удачный вариант. – В ее голосе не было одобрения.
– Тыщу раз говорил: никто. Само собою получилось.
– Ну-ну, – пропела Анна. – Какие мы удачливые! А ведь он просил тебя...
– Не его собачье дело, – сказал Лузгин. – Здесь мы хозяева. Давай, беги начитываться, меньше часа до эфира. Сюжет Ломакина про отпускников озвучен, Коля? Тогда заряжай. А ты беги, принцесса, только горло смочить не забудь – совсем от курева охрипла.
Хорошо, папочка, – сказала Анна, роняя ноги со стола.
Лузгин посмотрел телесюжет с отпускниками. Все шло, как надо, люди говорили сердито и откровенно, но без прямых угроз и обещанья драки, главное – не пахло провокацией, и Лузгин остался доволен настолько, что сунул в нагрудный карман оператору пачку настоящего американского «Мальборо».
Теперь предстоял рисковый разговор с директором телестудии Хал иловым.
Много лет назад они работали вместе на областном телевидении. Халилов был третьеразрядным ассистентом режиссера, сплошное «принеси-подай», бегал в гастроном за водкой и вид имел забитый и несчастный. Потом пробился в Москву на курсы телеоператоров, закончил их и вернулся уже для того, чтобы таскать водку и кофры для маститых камерменов вроде Крицкого или Завьялова. И тут открыли корпункт в Сургуте. Ехать туда никто не хотел. Репортера нашли среди местных, а с оператором застопорилось: все-таки особая работа, требовался навык, знание азов телесъемки и монтажа. Халилов сам пришел к начальству и попросился и вскоре уехал в Сургут, присылал оттуда весьма средние сюжеты, потом уволился. Долго о нем ничего не слышали, говорили даже, что бичует, спился и так далее. И каково же было изумление Лузгина, когда по прибытии в город он отправился знакомиться с местной журналистской элитой и едва узнал в холеном и властном директоре городской телестудии былого мальчика для побегушек.
Он поначалу искренне обрадовался: как-никак знакомый человек, будет на кого опереться по первости. К тому же в те давние годы Лузгин благоволил к Халилову, пестовал его и ограждал, брал с собой в престижные командировки – если честно, то больше из чувства явного превосходства и необременительного великодушия, – и надеялся нынче, что все это вспомнится и благодарно зачтется.
И как же он промахнулся!
Вялая сытая морда, ни тени стародружеской улыбки наоборот, глаза с ленивой поволокой неприязни и будто склеенные толстые губы, разлеплявшиеся только для того, чтобы выдавить «ну, не знаю» или совершенно идиотское «будем посмотреть». От дружеского предложения крепко выпить и повспоминать доброе старое Халилов отказался с какой-то торопливой и злой радостью, домой к себе ни разу не пригласил и вообще открыто тяготился лузгинским присутствием.
Все объяснила Анна. Как отирался и сновал Халилов возле старого нефтяного «генерала», мудрил с его снабженцами на ниве бартерных поставок телеоборудования, как на смех горожанам пытался сделать из «генеральской» любовницы местную телезвезду, а с приходом к власти команды банкира Вайнберга вытурил ее в шею и самолично провел в эфире серию разоблачительных передач о самодурстве и финансовой нечистоплотности прежнего своего благодетеля. Как запаниковал и удрал в кусты при первых признаках конфликта между Вайнбергом и мэром Воронцовым, прикрыл свое «аналитическое» шоу и все вещание свалил на Анну, сам же принялся шустрить по коридорам и приемным, расточая запах вечной преданности налево и направо. Он бы свернул себе шею – так крутил головой по окружности, если бы ко времени не подстрелили Воронцова. Полдня сидел Халилов с открытым ртом и скорбным видом в приемной Вайнберга, но был-таки допущен внутрь и вышел оттуда мокрый и бледный, но с победительной улыбкой на сызнова и крепко слипшихся губах.
В «предбаннике» халиловского кабинета рядом с секретаршей теперь сидел охранник, выклянченный у Вайнберга под вопли об опасности честного журналистского труда на современном бандитском этапе истории. Лузгин кивнул ему и уже протянул было руку к начальственной двери, но сжалился над секретаршей и вымолвил просительно:
– Доложите, пожалуйста.
Халилов сидел за столом, скрестив руки на груди, и глядел за окно, демонстрируя профилем крайнюю степень задумчивости. Солнечные полосы рассекали комнату по диагонали, и Лузгин из вредности сел на стул у окна, заставляя директора студии щуриться против света.
– Я же просил тебя, Владимир Васильевич, – усталым голосом произнес Халилов, – оформить удостоверение в мэрии. Телестудия – режимный объект, и ты пойми меня правильно: порядок есть порядок. Если ты работаешь советником у Слесаренко, разве трудно сделать соответствующие «корочки»?
– Я не работаю советником, – в тон Халилову ответил Лузгин. – Я просто помогаю, по-дружески.
– Ну, я не знаю! – Халилов выпятил губы, изображая оскорбленное достоинство. – Это несерьезно. Ты ходишь везде, во все вмешиваешься, и у тебя нет никакого официального статуса. Ну ладно, я знаю тебя достаточно давно. – Лузгин отметил про себя это колкое слово «достаточно». – Но другие люди начинают задавать вопросы. Пора бы определиться как-то... Тогда и мы определимся.
– Вот здесь ты прав, – сказал Лузгин. – Вам самим, друг мой Мишаня, пора определиться.
Скрипнула дверь, на пороге кабинета появилась секретарша.
– Митхат Идрисович, к вам Юрий Николаевич прибыли.
Халилов вздрогнул и пробормотал:
– Сейчас, одну минуточку... – и замахал рукой: быстрее исчезай. Когда дверь закрылась, директор телестудии заговорил торопливо и доверительно: – Извини, Васильич, давай чуток попозже. Где-нибудь к вечеру, а? Ну, ты понимаешь...
– Я понимаю, – согласился Лузгин. – Пришел сын Воронцова, а тут я у тебя сижу. Весьма некстати, правда?
– Старик, – совсем уже запанибратствовал Халилов, блестя растерянными глазами, – я тебя как друга прошу: не подставляй меня, ладно? Я все сделаю как надо, только не подставляй меня, я тебя умоляю. Юра – хороший парень, мы с ним друзья, но мы и с тобой друзья... Слушай, давай как-нибудь втроем у меня посидим, хорошо? Ты же у меня ни разу не был, позор какой! А сейчас... Ну, ты понял, Володя?
Конечно, понял, – Лузгин отклонился в сторону, и солнечный свет хлестнул по лицу Халилова. – Я только одного не понял: когда ты из Михаила Борисовича успел стать Митхатом Идрисовичем?
Халилов отвердел лицом и молча полез в верхний ящик стола, долго шарил там на ощупь, глядя перед собой отсутствующим взором, потом достал и бросил на стол перед Лузгиным потертый кожаный прямоугольник со знакомыми, приятными для памяти словами: «Комитет по телевидению и радиовещанию Тюменского облисполкома». Лузгин повертел в руках удостоверение, усмехнулся ностальгически, раскрыл его и прочел: «Халилов Митхат Идрисович, ассистент режиссера, дата выдачи – 14 сентября 1978 года...».
Из последних сил надеясь, что у него получится не покраснеть, Лузгин аккуратно положил удостоверение на стол.
– А почему же тогда...
– Это чтоб вам язык не ломать, – сказал Халилов, и Лузгин почувствовал, как запылало лицо.
– Ты смотри, не разучился! – как бы прощающе произнес Халилов, и кровь у Лузгина в момент отхлынула от щек, и оба поняли: ошибка, не надо было говорить, да поздно – уже не исправишь. И беспощадно понимая, что сейчас поверх халиловской ошибки он взгромоздит ненужную свою, Лузгин сказал, коверкая злостью пережитый стыд:
– Я бы на твоем месте, Митхат, не торопился. Времена смутные, а вдруг опять Мишаней быть захочется?
В приемной он молча раскланялся с Воронцовым-младшим, тонкошеим парнем со строгим лицом и аккуратной фасонной стрижкой, и подумал еще: похож на отца или нет, – и понял про себя, что никогда не видел Воронцова-старшего, даже снимков его, а в больницу не ходил и не пойдет, терпеть не мог больницу, да и не за чем было идти туда: что толку смотреть на мумию. Ему вдруг стало очень жаль несчастного мужика, перемолотого жерновами власти и денег, и его несчастного тонкошеего сына, уже тянущего руку к тем же самым жерновам.
Пробегая коридором, он услышал измененный электроникой голос Анны, вылетавший из открытой двери аппаратной. До двух часов оставалось совсем немного, надо было поспешить в мэрию – обещал Кротову, что новости будут смотреть вместе, но Лузгин даже споткнулся на бегу, представив себе, как отнесется Слесаренко к неисполнению его просьбы насчет фрагмента про жену, а он, Лузгин, уже выхлебал свою дневную норму унижения. И тут пришла спасительная мысль: надо срочно заскочить в газету, сообщить редактору про новости и настроить соответственно, чтобы в завтрашнем номере было все что надо и как надо.
Лузгин приободрился и, спустившись с бетонного крыльца Дворца культуры, быстро зашагал вдоль забитой транспортом центральной улицы, в который раз задав себе вопрос: куда же едут все эти порожние машины в самый разгар рабочего дня? Или кататься туда-сюда с утра до ночи и есть их скрытый производственный смысл?
Как-то раз ночью в Тюмени он стоял нетрезвый на пешеходном мосту у вокзала, курил и смотрел вниз, на встречное движение составов. Под ним катилась с востока на запад бесконечная череда пустых вагонов, а ей навстречу шел такой же порожняк, чтобы там, в конце огромного пути, взять нечто важное и повезти обратно. Тогда Лузгин был поражен этой простой до мистики иллюстрацией неистребимой русской безалаберности.
А с Халиловым вышло неправильно, стыдно и безобразно. Столько лет проработали вместе, летали и ездили в командировки, и сто раз Лузгин держал в руках паспорта и проездные документы всей съемочной группы, и как получилось, что не увидел и даже не пытался увидеть разницу в произносимом и написанном – этого понять не мог. Точнее – не хотел. В противном случае пришлось бы признаться себе, что всю жизнь – Лузгина передернуло на ходу – ему были глубоко безразличны эти всевозможные халиловы, которых он использовал, и так ли уж важно было, на какой набор звуков они откликаются в нужный момент.
Он примчался в редакцию за пятнадцать минут до выхода новостей в телеэфир. Редактор городской газеты «Нефтяная вахта» Шурик Романовский вычитывал внутренние полосы завтрашнего номера. Лузгин заглянул ему через плечо: вся вторая страница была посвящена пикету на рельсах. В нижнем правом углу страницы белело пустое пятно строк на двести.
– Не ставь сюда ничего, – сказал Лузгин. – Пока не ставь.
С Шуриком Романовским работать было приятно. Он был упрям и въедлив, любил скандалить в разговоре по ничтожнейшему поводу, с подозрением встречал любую просьбу, а тем более нажим, но был способен быстро думать и, самое ценное, быстро принимать решение. И, приняв его однажды, уже никуда не сворачивать. К тому же, как и все талантливые журналисты с так называемым собственным взглядом на мир, он пропускал окружающую жизнь через себя и неизбежно искажал ее, судил и вмешивался, был субъективен именно в силу таланта и личности.
Существует мнение, что проще всего убедить или подчинить себе беспринципного человека. Лузгин давно знал, что это не так. Именно люди с принципами наиболее подвержены влиянию: достаточно попасть им в тональность, как они немедля резонируют.
Шурик Романовский резонировал с мрачной восторженностью.
– Давай текст, – протянул руку редактор. – Интервью или статья? Кто готовил – ты? Если много, начнем на первой, потом перебросим на вторую.
– Текста нет, – сказал Лузгин.
– Прямо на дискете? Ну, молодцы, технологично...
– Включи телевизор, местный канал. В два часа все покажут.
– Что покажут? – сурово спросил Романовский. – Пресс-конференцию провели? Без нас? Я вас с дерьмом съем, ребята.
– Да успокойся ты, Шурик, – улыбнулся Лузгин. Мы же себе не враги, мы твою газету уважаем. Даже побаиваемся, честно говорю, не вру. Если вдруг пресс-конференция или брифинг – ты бы первый узнал. Я же прав, так ведь было всегда?
– М-да, – с неким вызовом произнес Романовский, демонстрируя справедливость.
– Покажут сюжет: встреча мэра с пикетчиками на рельсах. Посмотри и послушай. Ничего я тебе не навязываю, но лично мне кажется, что это – перелом, момент истины.
Романовский недоверчиво прищурился и покачал лысой головой.
– Наш парень там был. Говорит: ахинея, сплошной популизм и отсутствие четкой позиции.
– Дурак он, твой парень, – смачно выговорил Лузгин. – Сопля он зеленая, жизни не знает. Видел я там твоего Зубарева, видел и слышал, как он перед пикетчиками распинался. Он у тебя кто: агитатор или репортер? Ты его зачем туда послал? За репортажем? Тогда какого черта он там пропагандой занимается?
– Вот сволочь, – сказал Романовский. – Я же видел, как воронцовская бригада его обхаживает, и запретил же напрочь...
– Он не сволочь, он просто пацан. Захотелось поиграть в политику, все играют, почему не он? Да и деньжат подзаработать... Ты ему сколько платишь, Шурик?.. Да включи ты ящик, пропустим ведь! И диктофон включи, запиши с эфира, пригодится! Ну, блин, профи раздолбанские, всему вас учи...
Когда выпуск новостей закончился, Романовский перемотал пленку в диктофоне и прослушал фонограмму сюжета, потом еще раз отмотал и прослушал снова.
– Ты знаешь, – сказал он угрюмо, – а ведь я ему верю.
– Как ни странно, я тоже, – сказал Лузгин.
Романовский посидел молча, побарабанил ногтями левой кисти по зубам – была у него такая неприятная привычка. Лузгин тоже молчал и курил и думал о Лялиной: дал же бог женщине голос! В быту обычный бабский, немного суховат от курева и вредности характера, но как звучит в эфире, с пленки -на обертонах, с глубиной доверительности, трогает за это самое мужчин и, что при том совсем уж поразительно, не вызывает зависть в женской, весьма ревнивой аудитории: Лузгин проверял по анкетам.
– ...Но ему не дадут развернуться.
– Вот ты и помоги хорошему человеку, – без нажима произнес Лузгин.
– Он на Вайнберге шею сломает. – Романовский смотрел на газетную полосу, прижмурив левый глаз, будто прицеливался. – Так, эти двести строк я папизму сам...
– Погоди-ка, Саша... – Лузгин тоже заглянул на полосу. – Оставь это место своему «агитатору», пусть напишет нормальный репортаж, без отсебятины, и чтоб раньше пяти часов с рельсов ни ногой.
– Почему пять? – подозрительно спросил редактор.
– Потому что в четыре тридцать – уренгойский поезд.
Шурик ахнул понимающе.
– Надо послать фотографа. Думаешь, будет провокация?
– Какая провокация? С чьей стороны? Разве что какая-нибудь истеричная баба под колеса бросится.
– Это будет конец, – простонал Шурик. – Я как представлю, что начнется... Не дай бог труп, или даже руки там, нога... Я представляю! Это бунт, люди сметут все, они разгромят мэрию, они возьмут милицию и захватят оружие... Надо что-то делать, старик, мы не можем этого допустить. Грех ляжет на всех – на всех, кто предполагал, но ничего не предпринял, даже на нас с тобой, Володя, и даже прежде всего на нас: ведь знали же, чувствовали угрозу, осознали ее много раньше других... И я, я, старый пень, как я мог не подумать про поезд!..
Лузгину было и смешно, и стыдно. Он немножечко знал историю восхождения Шурика Романовского в редакторское кресло. Одаренный неудачник времен политпросвета, он был уволен из городской газеты за полную профнепригодность, то бишь неумение «следовать линии», прибился в отдел информации у нефтяников, выпускал там плакаты по технике безопасности, потом ушел в кооперацию, чего-то там печатал и продавал, записался со временем в «Народный фронт», был бит милицией и даже арестован, а после путча и разгона партсистемы единогласно избран редактором «Нефтяной вахты» на общем собрании журналистского коллектива, практически того же самого по составу, что десять с небольшим лет назад проголосовал за его увольнение по обидной статье. Шурик зла не помнил и никого из бывших не уволил, и даже старого «куратора» из горкома партии, главного виновника всех шуриных передряг, взял на работу начальником отдела писем. И не ошибся: с письмами в редакции с тех пор работали отлично.
На памяти Лузгина таких историй и судеб в последние годы сложилось немало. В подавляющем большинстве своем вчерашние диссиденты, изгои и неудачники, придя к власти в газетах, не могли удержаться от праведной мести отвергнувшей их и ныне рухнувшей системе, и пока они метали стрелы в шевелящиеся меж развалинами тени, на руинах быстро выросло новое старое – они глянули ему в лицо и ужаснулись, и принялись плевать налево и направо с брезгливым злорадством обманутых.
Романовский же был ценен Лузгину другим: Шурик пони мат, что и сам он есть честный обманщик. Ибо шустрое дитя, торопливо нареченное демократией, было его (их) любимым созданием, долгожданным и единственным, которому прощалось многое: пусть вырастет, окрепнет... И вот оно выросло и двинуло в морду своим воспитателям.
Что делать дальше: бить его или бежать? Шурик Романовский, обладатель лысины, троих детей и диплома журфака, решил перевоспитывать. Еще не все потеряно, оно еще поймет...
Перестань плакаться, – сказал Лузгин. – Хочешь бесплатный рецепт, как сделать революцию в газете?
– А ты считаешь, нам нужна революция? – ощетинился лысиной Романовский.
– Твоя газета – говно, – ровным голосом проговорил Лузгин, – и ты сам об этом знаешь. Фактов нет – сплошные мнения сотрудников. А ты попробуй их на месяц-два запретить – получишь новую отличную газету.
– То есть как это запретить?
– Показываю, – сказал Лузгин и повернул к себе оттиск газетной страницы. – Читаю навзлет: «Тяжелое положение, сложившееся в компании «Севернефтегаз», неминуемо ведет...». Кто сказал, что положение тяжелое? Журналист? Вычеркиваем! Даешь мнение специалиста-нефтяника, экономиста, рабочего, кого угодно, но только не брата писателя. Ты понял, Шурик? И в принудительном порядке! Если в газете выражается мнение, предположение или оценка, у них должен быть адрес и автор. «Неминуемо ведет...»? Вычеркиваем, если не найдем авторитетную фигуру, готовую взять на себя ответственность за слово «неминуемо»... Понял, дружище? Против каждой строчки – вопрос: кто сказал? И только через месяц разреши одному – одному, лучшему! – из сотрудников говорить в газете «я». Еще через месяц – двум другим. И все! Трех обозревателей тебе хватит: экономика, политика, культура. Остальных – в чернорабочие новостей и репортажа! Уф, даже взмок от жадности: такую идею и – задарма...
Романовский медленно потянул газетный лист к себе и посмотрел на него гак, словно видел впервые.
Интересно, – полушепотом сказал Шурик, – дико интересно... Иди ко мне замом, а? – Он глянул на Лузгина быстро и тепло. Внедришь идею в жизнь. У меня, честно сознаюсь, на такую революцию характера не хватит. Тут нужен... хороший дрессировщик.
– Вот спасибо, – голосом обиженной стервы промолвил Лузгин и подумал: «А разве нет? Разве я не бегаю по городу с кнутом и пряником?..» – Ладно, хорошо, обсудим после, Саша. А сейчас давай, старичок, разворачиваться. И не спеши забивать всю газетную площадь: чует мое сердце, сегодня еще много чего произойдет.
– Чует или знает? – В интонации Шурика снова зазвучал редакторский напор. Я в девять по графику должен подписывать номер в печать. Так что если знаешь точно – лучше скажи, мы подготовимся.
– Не знаю, – сказал Лузгин. – Однако есть подозрения, что сегодня многое решится.
– Учти, если твоя Лялина нас обскачет снова…
– При чем тут Лялина? Газете никогда не угнаться за телеящиком в оперативности, но у тебя есть одно неоспоримое преимущество.
– Это какое? – Шурик заметно насторожился.
– Сам подумай, Александр Николаевич, – Лузгин пожал руку редактору. – Еще увидимся сегодня, тогда и договорим.
«Твоя Лялина...». От этой неправды Лузгин на миг испытал прикосновение стыдливого счастья, странно схожего по остроте и жару пережитому недавно в кабинете у Халилова чувству до юродивости блаженного унижения. «Мазохист несчастный», – сказал себе Лузгин.
Все приключилось много дней назад, после грандиозной «ознакомительной» попойки, устроенной Лузгиным в своем гостиничном номере для городских журналистов. Пришли человек десять-двенадцать, в основном мужики, разговоры вели настороженно-иронические, но выпивку жрали уверенно, кроме не пьющего водку Шурика Романовского и демонстративно скучавшего Мишани Халилова. Женщин было три: две девицы с местного радио, накрашенные до ощущения немытости, и молодая женщина в джинсах, с темными глазами на белом лице – звезда городского экрана. Весь вечер Лузгин хамил и ёрничал, и чем дальше – тем больше, потому что искомого контакта никак не получалось, постепенно напивавшаяся компания разваливалась на островки, кто-то уходил и приходил, исчез Халилов – к злому облегченью Лузги на, и тут нагрянула дурацкая идея затащить на пьянку Слесаренко.
– Вниманье! – заорал Лузгин. – Гвоздь программы! Господ и дам прошу не расходиться и освежить бокалы.
У дверей его попридержал Шурик Романовский и прошептал с трезвым добродушием:
– Успокойся, старик, все в порядке.
Лузгин отдернул руку и бормотнул небрежно:
– А как иначе? Сейчас вот мэра приведу. Только – тсс...
Он долго и громко стучал в слесаренковский номер, никто не открывал, затем по темному коридору прощелкал отпираемый замок, выглянула в сумраке фигура, Лузгин гасяще отмахнулся и тут же узнал Серегу Кротова.
– Где шеф, едрена мать! – свистящим шепотом спросил Лузгин, и Кротов поманил его ладонью.
– Закончили? – спросил Кротов, когда Лузгин приблизился.
– Да ты что! Полный разгар... Дружба-фройндшафт на века. Вот хочу Слесаренко позвать – самое время.
– Не дури, – сказал Кротов. – Это лишнее.
– Пошел ты на хрен, – сказал Лузгин, – не тебе решать.
Кротов взял его за плечо и крепко встряхнул, потом наклонился поближе и тихо произнес:
– Здесь Вайнберг. Уразумел, дурья башка? – Лузгин понимающе замотал головой, а Кротов поднес к губам палец. – Не вздумай проболтаться там! И вообще, заканчивайте. Вижу: набрались...
Когда Лузгин вошел к себе в номер, почти никто не обратил на него внимания, и он понял: Романовский не выдал. Подсевши к Шурику в кружок, он выпил водку из свободного стакана и сказал никому и всем сразу:
– Хотите расскажу, как мой коллега по работе у меня в номере под кроватью прятался от Саши Маслякова?
– Да ты что? – ахнул Шурик, и кто-то спросил:
– Здесь, что ли?
И все засмеялись, и Лузгин стал рассказывать, и травил байки про столичный журналистский бомонд еще часа полтора. Все сгрудились вокруг – сплетни всегда интересны. И вдруг он понял, что давно уже рассказывает именно Анечке Лялиной, появившейся напротив на диване в обнимку с Шуриком, смотрит в ее темные глаза и по отблеску в них и по круглым губам проверяет себя как рассказчика. Знал он сплетен немало, многое блестяще изобретал на ходу – такое случалось, когда был в ударе, да и себя не щадил, если вдруг выплывал персонажем. Пьянка завершилась «на отлично», он нюхом чувствовал, что стал своим; в дверях обнимались и чмокались, он осмелел и чмокнул Лялину в шею, чуть выше плеча, она вздрогнула, а Романовский сказал: «Вот видишь, как здорово все получилось», – и увел Лялину, приобнявши за плечи.
Он включил в гостиной полный свет и ужаснулся развалу. Можно было оставить все как есть – горничные уберут – и отправиться почивать в неразгромленную спальню, но он представил себя, как выйдет утром и увидит эту вчерашнюю грязь... Лузгин вздохнул и принялся таскать в ванную тарелки и стаканы, отряхивать и двигать мебель; в азарте незабытого субботничества даже вымел напольный ковер одежной щеткой – ползал на четвереньках, стараясь не опускать голову слишком низко. Закончив с приборкой, он нашарил пачку сигарет в нагрудном кармане липкой рубашки – душ будет завтра, нет сил – и пошел в спальню, восторгаясь собственным геройством, дабы вознаградить себя за оное последним перед сном лежачим перекуром.
Войдя, он щелкнул выключателем и тупо уставился на мятую постель с полусдернутым до пола покрывалом. Сквозь омерзение и злость вдруг выплыл образ Лялиной, вписался в изгибы и углубления подушек и простыней, и рядом лысый Шурик. Убивать, убивать без пощады, когда же, сволочи, успели?..
Лузгин вернулся в гостиную, рухнул в кресло и закурил. Слева на столике белел сугробик телефона, а где-то в одежде, он сразу вспомнил, терялся кусочек картона с цифрами. Ворочаясь в кресле, он стал рвать и выворачивать карманы, потом вскочил и бросился в прихожую к висевшему любимому жилету и нашел сразу, в «пистончике» – белый, с мелкими черными знаками типографского набора и пятью синими цифрами наискось от руки.
Не совсем понимая, зачем он это делает, Лузгин на цыпочках проскользнул в гостиную, присел у телефона и нашел на кнопочной панели одну задругой пять мягких цифр, отметив краешком сознания, что ни одна не повторялась.
– Ну? – сказал в трубке безразличный женский голос.
Помедлив страшную секунду, он хек пул сдавленным горлом и сумел выговорить:
– Привет. Это Лузгин.
– Привет. Это Лялина, – в голосе явно звучал интерес неожиданности, и Лузгин сел поглубже и немного расслабился.
– Почему не спим? – спросил он сурово.
– Потому что звонят – разбудили.
– О, тогда прошу прощения, – как можно небрежнее произнес Лузгин, мешая облегчение с расстройством, и замолчал, не зная, как продолжить.
– Вы чего-то хотели? – спросил голос Лялиной.
– Да. Хотел.
– Тогда я вас слушаю.
– Я бы хотел к вам приехать.