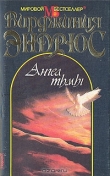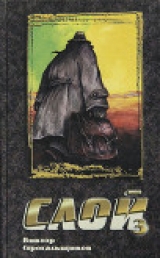
Текст книги "Слой 3"
Автор книги: Виктор Строгальщиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Помоги с горячим, старичок, – сказал он, внедряя в лапы Лузгину большую миску с ароматным мясом. – Ты подержишь, а я обслужу. Да, как, понравилось?
– До зависти, – искренне выдохнул Лузгин. – Профессионально работает парень. Откуда сведения?
– У Славки хорошие информаторы.
– Он им платит?
– Иногда он платит, иногда ему.
– А ему-то за что?
– Как за что? – удивился Максимов. – За обнародование.
– Удобно, – хмыкнул Лузгин.
– Ну, не скажи, старичок. – Максимов подкинул в руке поварешку. – Кому угодно ни платить, ни говорить не станут. Славка два раза под судом ходил, но информаторов не выдал. И машину у него сожгли прямо во дворе под окнами – ну, чтобы видел, как горит, и призадумался.
– А что, у «Коммерсанта» крыши нет?
– Крыша от структуры может уберечь, а дикий элемент – его не вычислишь. Гранату сунут наркоману за «косяк» – он кого хочешь взорвет и себя в том числе.
– Серьезно тут у вас, – сказал Лузгин.
– А как же, старичок, – сказал Максимов. – Да, кстати, ты деньги принес?
– Двести баксов? Конечно.
– Да нет, старичок. Двести баксов ты потом в копилку кинешь – вон, на холодильнике стоит. Я про деньги для прессы: Аркадьич мне сказал, что ты должен привезти.
– Привез, конечно, – в замешательстве молвил Лузгин. – Не все, а часть, авансом.
– Я знаю, Володя. С собой? В представительстве? И правильно, с таки ш деньгами по городу не шляются. Передай завтра утром Евсееву и скажи, что я подъеду, – заберу. И не волнуйся, все будет устроено как надо. И чего мы тут стоим? За мной, старичок!
В большой комнате Максимов наделял всех желающих мясом, отказалась только дама при очах, Лузгин же таскал следом идиотскую миску, тыкался, как салага с бачком в армейской столовке посреди старослужащих. «Все, спасибо, унеси», – сказал Максимов, и он ушел на кухню, бухнул миску на подоконник, взял из сушилки под раковиной простую не сервизную тарелку, навалил туда мяса, выхватил из-под стола табуретку и вернулся в комнату, где локтем распихал на крышке буфета посуду с закусками, устроил там свою плебейскую тарелку, принес стакан от пианино, наполнив его предварительно до краев, взял вилку, ломоть черного хлеба, уселся поудобнее и принялся нормально есть, заглотив для аппетита и уверенности половину того, что было в стакане. Он сидел лицом к стене, перед ним было зеркало, он увидел в нем себя, жующего, и сказал себе, глядя в глаза отражению: «Ну что, доволен?». Люди за его спиной – часть из них помещалась и в зеркале – донимали вопросами Владислава, тот что-то рассказывал в ответ про Кобзона и фирму «Атлас», какого-то Машицкого или Мащицкого, он плохо расслышал, из компании «Росинвестнефть», Горбатовского из группы «Система» – эта фамилия была знакома, Лузгин встречал ее в бумагах по «Системе»; сидевший на полу Леонтьев (в зеркале наличествовала одна лишь его голова) вдруг спросил Лузгина про губернатора и Тюменскую нефтяную компанию, где Рокецкий был председателем совета директоров: мол, зачем это надобно вашему «губеру», его же держат там как ширму люди «Альфы». Лузгин пожал плечами и начал выстраивать в уме пристойную схему ответа, но Леонтьев уже спрашивал его о другом: правда ли, что жена губернатора вознамерилась подмять под себя областной «Сбербанк». Об этом Лузгин и вовсе не знал ничего, забормотал про Север, отсутствие информации, а потом ни с того ни с сего брякнул о том, что во время выборов советовал губернатору развестись с женой-банкиршей.
– Да вы что! – сказала голова Леонтьева. – Расскажите, это страшно интересно. И как он среагировал?..
Лузгин допил стакан и принялся рассказывать; люди в комнате то изумлялись, то смеялись, и громче всех откликался «француз», тряс прической под Пьера Ришара, потом оказалось – работал в пресс-службе посольства; Геннадий же Аркадьевич делал подтверждающие жесты, как свидетель нарисованным картинам, и лишь дама с очами поджимала губы и изредка делала ими звук «фи», оскорбленная мужскими ароматами рассказа. Когда Лузгин закончил и люди отсмеялись, Максимов, явно довольный удачливым лузгинским бенефисом, предложил ему сформулировать тему и как-нибудь, по новому приезду, выступить с докладом на мальчишнике, а Лонгинов сказал из кресельных глубин: «Ты загляни ко мне», – и поднятым пальцем поставил точку в конце предложения.
Пара в вечерних костюмах засобиралась идти, их ожидали на какой-то клубной вечеринке; допил-доел свое Леонтьев и словно выключился, израсходовав отведенную на людей и события дозу приятельского интереса. Встрепенулся и француз, а следом Геннадий Аркадьевич, а когда Лонгинов вдруг вырос из глубин и подправил светящиеся в полумраке манжеты рубашки на положенные приличному человеку три четверти дюйма от края пиджачного рукава, стало ясно, что мероприятие заканчивается. В прихожей шумно потолкались, и Геннадий Аркадьевич, улучив момент, с широкой улыбкой шепнул в ухо Лузгину, чтобы не болтал лишнего, «папе» донесут, и как-то сразу Лузгин догадался, кто имелся в виду – его старый приятель Максимов, больше некому, и посмотрел на хозяина квартиры, и тот сказал: «А ты куда собрался?».
Потом Лузгин с Максимовым сидели у буфета и выпивали за воспоминания; девица и дама с очами уносили на кухню посуду, стучали там ею и плескались. Когда же унесли последнее, оставив на крышке буфета одну лишь тарелку с орешками, Максимов чокнулся стаканом и низким голосом промолвил:
– Оставайся.
– С этой, что ли? – прошептал Лузгин. – Сам же говорил...
– Нормально, старичок. Все под контролем. Обещаю: впечатлений будет масса. Ноги, глядь, на абажур закидывает.
– А у тебя в спальне есть абажур?
– В спальне буду я, а ты, старичок, будешь здесь, на кресле, оно раскладное.
– А вдруг не обломится? – нахмурился Лузгин.
– Ты о чем, старичок! Главное, чтобы здоровья хватило. Дать таблетку?
– Пошел ты, Андрюха...
– В душ мы первые, – предупредил Максимов, и как только он это сказал, Лузгин сразу понял, что ни за что и ни с кем не останется здесь и вообще уедет поскорее.
– Барышни, мужская сила не требуется? – громко крикнул Максимов, многозначительно (а точнее – совершенно однозначно) подмаргивая Лузгину. На кухне засмеялись с готовностью, Максимов вытер губы салфеткой и отправился туда, сделав на прощание Лузгину жест напруженной рукой, каким спортсмены празднуют победу: вот так, в промежность всему свету, получите. Лузгин прикурил чужую сигарету и вытянул ее почти наполовину, когда в комнату из коридорной тьмы проникла дама, окинула очами опустевшее пространство и пропела:
– Все ушли. Какое счастье!
– Вас проводить? – спросил Лузгин, вставая.
О, вам не стоит беспокоиться, – взлетела к локонам рука, – я позвоню, и меня отвезут. – Она прошла к окну и села в кресло, где ранее помещался Лонгинов. – Скажите, Владимир, вам было нескушно сегодня? – И это детски пухленькое «уш», губы дудочкой и светское «Владимир» кольнули бесом Лузгина в ребро. Он стал приглядывать уже, куда бы сесть поближе, поудобней, и услышал от окна: – Вот и прекрасно. Будем рады увидеть вас снова.
«Я же ей ничего не ответил», – мелькнуло в голове у Лузгина. Он поклонился с улыбкой приказчика и попятился задом к дверям. В коридоре он наткнулся на Максимова, летевшего с новой бутылкой в руках, и сразу напрочь сказал, что уходит, и Максимов даже не спросил почему, но потребовал глотнуть на посошок и еще заявил, что обязательно проводит Лузгина до метро, и не принял никаких лузгинских возражений.
В темном гулком дворе, где пахло неостывшей пыльной зеленью, Лузгин спросил Максимова, зачем сюда приходил Витька Лонгинов, он же за вечер двух слов не сказал. Максимов ответил: «Напиться; ты разве не заметил, что он уходил вусмерть пьяный? Два раза в месяц он приходит сюда и тихо напивается». – «А почему сюда?» – «А потому, что здесь никогда не лезут к нему с просьбами и разговорами, не провоцируют и не подставляют, да к тому же рассказывают всякие интересные, вещи, и можно хоть бы на вечер расслабиться, снять себя с постоянного кремлевского взвода и не видеть в каждом человеке врага и конкурента. Кстати, как тебе «самбука?» – «Вкусно, да боюсь, что теперь развезет», – ответил Лузгин, и Максимов его успокоил: «Напротив, вскорости почувствуешь толчок – проверенное средство». И действительно, когда Лузгин уже сидел в почти пустом вагоне поезда метро, мчавшего его к центру города, в голове просветлело, и по телу прошла волна какой-то мягкой бодрости: ему стало уютно в этом колыхающемся вагоне, и он бы так ехал и ехал, слушая голос вагоновожатой, объявлявшей короткие станции, и приехал гораздо быстрее, чем ранее в обратном направлении, и даже огорчился по прибытии, когда пришлось вставать и выходить.
На асфальтовой площадке перед зданием метро он закурил и постоял, видимый со всех сторон, но никто к нему не подошел и не стал ничего проверять, даже сигарету никто не стрельнул. Лузгин швырнул окурок под ноги и энергично зашагал в нужном направлении и плюнул походя в закрытое ребристой железякой окошко сигаретного киоска.
После скандала у двери ему выдали ключ с блямбочкой магнитной открывалки, и он легко проник в подъезд, а вот с замком квартиры справиться не смог, что-то там заедало или он неправильно вставлял, но за дверью вдруг загремело, защелкало и открылось, все тот же долговязый услужающий впустил его и жестом показал: отдай ключи. Лузгин отдал без возражений, ведь утром они улетали.
В гостиной Слесаренко и Евсеев смотрели новости по ОРТ, сидя плечом к плечу на огромном диване. Лузгин прошел и сел на краю, утвердив локти на коленях. Слесаренко оглядел его оценивающе, а Евсеев произнес с тревожным недовольством в голосе:
– Не было нигде. Ни по одному каналу.
– Все возможно, – передернул плечами Лузгин. Слишком много новостей. Не повезло нам со временем.
Слесаренко хотел что-то высказать, судя по выражению лица, не слишком лестное для Лузгина, но тут зазвонил телефон, Евсеев быстро снял трубку, сказал: «Да, прибыл, порядок... Нет, нигде нет... Что, утром? Это достоверно? Узнайте, пожалуйста... Спасибо», – и, повернувшись к Лузгину, сообщил, что это был Максимов, спрашивал, как добрался Лузгин, и передал, что сюжет о пресс-конференции пройдет завтра на канале ОРТ в программе «Доброе утро» – неясно, правда, в каком блоке, и по РТР в восьмичасовом выпуске «Вестей»; насчет газет у него пока только факс из «Сегодня», строчек сорок на второй странице, уже заверстано, не снимут, а по «Коммерсанту» ничего определенного.
– Нас кто-то тормозит, – сказал Евсеев.
– Программа «Утро»? – произнес Слесаренко. – Да кто же ее смотрит.
– Еще как смотрят, – уверенно выдал Лузгин. – Особенно чиновники. Это в провинции телевизор утром смотрят бабушки, а здесь – политики. Я сегодня у Максимова виделся с Лонгиновым...
– Вы знакомы? – спросил Евсеев.
– Да лет уже двадцать. Так вот, Витюша говорил...
Слесаренко повернул лицо к Евсееву, тот закивал уважительно, и тогда Лузгина понесло – и от «самбуки», и от евсеевской поддержки, и от надутой слесаренковской морды: дескать, договорено с Витюшей, что упоминание о пресс-конференции попадет в утренний обзор для президента – скромно так, но в положительной тональности. Слесаренковскую морду тут совсем перекосило, а Евсеев сказал: «Это мощно», – чем заставил Лузгина поперхнуться от стыда и самоотвращения.
– Давайте-ка спать, – домашним голосом вдруг предложил Слесаренко. – В конце концов, какая разница... Гораздо важнее, что там, на месте, натворил ваш друг Кротов.
– А что он натворил? – встрепенулся Лузгин. – Когда я улетал, все шло по плану.
– Вы в этом уверены? – Слесаренко грузно поднялся с дивана. – Хорошо бы знать, чьи это были планы...
– А что случилось?
– Ваш Кротов город по миру пустил, – ответил за начальника Евсеев.
– Да ладно вам, – сказал Лузгин небрежно. – Кто настучал уже, Соляник? Нашли кого слушать...
– Завтра разберемся, – сказал Слесаренко. – Спокойной ночи, Владимир Васильевич. Подъем в шесть, выезд в семь, не проспите. – И уже повернувшись к Евсееву: – В семь утра газеты будут?
– Я лично доставлю в шесть тридцать.
Они обогнули диван и направились в глубь коридора, являя спинами что-то недосказанное покинутому ими Лузгину. На повороте Евсеев обернулся и сказал: «Ваш душ вот здесь», – и пальцем показал налево, а сам же повернул направо, вслед за ушедшим туда Слесаренко. Вчера Лузгин плескался по прилете в огромной ванной комнате на хозяйской половине, а ныне хозяин вернулся, и его, Лузгина, отправляют в удобства для прислуги, да он и есть прислуга, кто еще, чего тут обижаться?
В гостевой комнате он разделся, не зажигая света – зачем, когда с улицы прострельная иллюминация, – открыл створку окна, улегся в трусах на диван, закурил и пустил к высоченному потолку полосатое облако дыма. В душ для прислуги он решил не ходить, но вспомнил о нем и стал думать совсем про другое: сначала про оставленную у Максимова неоприходованную даму, потом про себя и про Лялину, как он тогда решал: в чем появиться из ванной – надеть трусы или просто запахнуться полотенцем, и пришел к выводу, что надевание трусов будет расценено как отступление, почти по Ленину слегка наоборот: два шага вперед, шаг назад. Он выбрался из белого корыта на скользкий кафель, сдернул с вешалки толстое рябое полотенце и попытался обернуть его вокруг себя и закрепить на юбочный манер, но полотенце оказалось коротким, и когда он потянулся к стиральной машине за лишней одеждой, распахнулось и упало. Он снова приладил его, затянув вокруг бедер потуже и фиксируя рукой на всякий случай, а другой рукой сгреб с машины одежду, шагнул к двери и обнаружил, что не хватает рук открыть защелку. Тогда он втянул живот глубоким вдохом, прижал полотенце покрепче, словно приклеивал его к телу, потом резко выбросил руку вперед и дернул защелку влево от косяка; дверь сразу приоткрылась, и полотенце мягко рухнуло к ногам. Он поднял его, не наклони мнись, а присев на корточки, потому что голова плыла, он задыхался во влажном пару и боялся упасть при наклоне, распрямился, закрыв одеждою живот и полотенцем ниже, пнул дверь ногой и в таком вот немыслимом виде вывалился в коридор.
Его спасла глухая нищета совковой планировки. Распахнутая дверь ванной комнаты загородила собой вход на кухню, где все еще горел свет, и Лузгин проскользнул за косяк поворота и втолкнул себя в темную комнату, где у всех панельных жителей располагалась спальня, и действительно увидел в углу под окном белый простынный квадрат и холмик подушки, но как-то низко, далеко, будто он стал Гулливером – ага, конечно, голый Гулливер с тряпьем на брюхе... Он подошел и потрогал ногою. На полу лежал большой матрас, прикрытый постельным бельем, и край матраса был каким-то странно жестким, он даже зашиб большой палец ноги, когда пнул для проверки. Лузгин вернулся, прикрыл дверь, бросил в угол у двери одежду, а полотенце взял с собой и опустился на колени у матраса, которых оказалось два – для широты, притиснутые в угол, пружинные кроватные матрасы, замкнутые по свободным сторонам прибитыми к полу деревянными толстыми рейками с фасон иной, как у плинтуса. «Сама? – подумал он.
– Едва ли...» – и на четвереньках пошел в центр постели, где улегся на спину, а полотенце бросил сверху, как бы разрезав себя пополам на нестыдные части.
У стыка стен налево от лузгинской головы светился желтым деревом дешевый гладкий шкаф, и стул у дверцы, и больше ничего, а надо лбом прицеливался раструб стеклянного бра (мра и сра) на гнутой удочке никелированной подвески. Голова поплыла, но уже по-другому, воздушно и без тошноты. Он разбросал по простыне руки и ноги, как мужик на знаменитом чертеже у Леонардо, и начал думать свою разлюбезную мысль: кто он такой и что здесь делает – и услышал, как в ванной комнате выключили воду, а как лилась – не слышал, метаморфозы избирательного слуха, и сразу икры повело, живот напрягся; он скомандовал пальцам в ногах и увидел, как они там шевелятся.
Дверь комнаты он притворил наполовину; в коридоре засияло и погасло, он догадался – вышла из ванной, потом щелчок и уже лишь рентгеновский отсвет окна, три шлепка в коридоре, а возникла неслышно, на цыпочках, фантастически белая в черной короткой рубашке. Лузгин подвинулся к окну, освобождая территорию подушки, и она стекла к нему спиной, согнув в коленях ноги, как для сна, и так лежала, чуть поводя плечом в молчании дыханья, и он придвинулся поближе, вписывая свое тело в ее отстраненный изгиб, укололся ладонью о жесткое кружево на возвышении бедра, убрал ладонь и снова положил ее к истоку возвышения, потом проследовал долгим подъемом к плечу, поразившись его холодной, неотзывчивой гладкости, уронил руку вниз, от себя, приобнял ее за пояс, на миг содрогнувшись в скольжении по упруго сокрытому выше, ткнулся лбом в излучину ее шеи, носом в кольчужные кольца рубашки и замер, привыкая и ревнуя ко всему, чего недвижимо касался.
Она ожила под рукой, легко провернулась вдруг в его полукольце захвата и посмотрела на него распахнутыми темными глазами – так близко, что взгляд расплывался; он потянулся к ней губами, но она шевельнула лицом, и он попал губами в нос, потом прижался щекою, и она сказала: «Вы сопите мне в ухо», и он сказал: «Сейчас ударю», и она ничего не сказала, и он стал трогать ее и гладить – осторожно, без наглости, словно прорисовывал ладонью контуры ее присутствия, и она лежала, как натурщица, никак не откликаясь на его повторяющиеся штрихи, все точнее и увереннее утверждающие правду очертаний, и однажды, когда он, забывшись, приблизился, он почувствовал слабый ответный извив и услышал тихий теплый выдох. Утром, очень рано, он проснулся в сером свете от накатившей изжоги; она смотрела на него, подперев лицо ладонью. «Странно как, – сказала она и легонько постучала пальцем ему по лбу, – если бы у вас вот здесь, на лбу, росло ухо, это было бы отвратительно. А так, немножко в стороне, вполне терпимо». «При чем тут ухо?» – спросил он с утренней хриплостью в голосе. «А вы никогда не пытались рассмотреть его повнимательнее? – сказала она. – Ужасная конструкция...». Он обхватил ее и притиснул, вдыхая ее запах и восхитительное мягкое тепло, и понял, что ночью он так ничего и не понял, и стал торопиться, и даже вспотел, как будто довершал незавершенную работу, и не мог отдышаться, уткнувшись мокрым лбом в подушку над ее плечом, и вышел, и ушел, сграбастав свои тряпки и не забыв прихватить полотенце.
Вечером он заявился снова с вином и водкой, трезвый, схватил ее и повлек на матрас, целуя в шею, и она сказала: «А поговорить?» – «Потом, потом, – шептал он, избавляясь от одежды. – Хочу сейчас, пока не пьяный...». И снова ничего не понял и далее напился вдрабадан, и опять осмелел, начал спрашивать, как спрашивает врач у пациента про то, где у пего болит, и все разрушил основательно, унизился до обсуждения пихотехники, потребовал реванша и получил его, и вдруг спросил на полпути: «Тебе хоть нравится, что я делаю?». – «Нравится», – ответила она и блеснула зубами в улыбке. Он рухнул вбок, перевалился на спину и зажмурил глаза. «А ты ласковый, услышал он ее голос. – Где бы мне найти такого ласкового старичка?». «Зачем?» – спросил Лузгин. «Чтоб выйти за него», – сказала Анна. «Я на бляди не женюсь», – сказал Лузгин, и она ударила его ладонью по лицу, потом погладила там и ударила снова, и снова погладила, и легла головою на грудь, и тогда Лузгин понял, что пропал, и чуть не заплакал от горечи осознанного счастья. «Не шевелись, – попросила она. – Пожалуйста...».
«Может, выпить?» – подумал Лузгин, ворочаясь без сна на гостевом диване. Он слышал, как ушли Евсеев с долговязым, и представил себе Слесаренко, как он там лежит в таком же одиночестве огромной и чужой квартиры и, наверное, тоже не спит, а был бы Слесаренко нормальным мужиком, позвал бы его, и они бы выпили на пару и поговорили о чем-нибудь простом, им обоим понятном и важном, и если бы начальник снова взял и наехал на Кротова, то он, Лузгин, защитил бы друга от наветов, и ему бы стало хорошо.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Евсеев, конечно же, переусердствовал: купил для Слесаренко место в бизнес-классе, а Лузгину – обычное, в хвосте самолета. Виктор Александрович представил, как он там сидит, надувшись, и захотел исправить ситуацию – он не любил, когда людей унижали заведомо, и попросил стюардессу перевести Лузгина в первый салон, но оказалось, нельзя – «загрузка на обслуживание строго по количеству». Слесаренко сказал: «Я поделюсь», – и улыбнулся, и строгая девочка тоже раздвинула губы и сказала: «Извините, не положено». После «люфтганзовских» радушных топ-моделей наша обслуга смотрелась коряво, прибегала в салон с таким видом, будто главная работа была где-то там, за бортом самолета. Слесаренко отказался от напитков, а когда ему принесли и подали проспектик меню, отклонил его ладонью и сказал, что есть вообще не будет, он не голоден, чем поверг стюардессу в нахмуренный ступор, и добавил: «Впредь попрошу меня не беспокоить, надо будет – я вас вызову», – и просто вымел этой фразой стюардессу из салона; вышло грубо, но ведь сама же напросилась.
Соседнее сиденье было не занято, и там лежал дорожный слесаренковский портфель; Виктор Александрович достал из щели бокового кармана скупленные поутру Евсеевым газеты и принялся их листать, как бы невзначай выискивая на хрустевших страницах упоминание о себе самом.
В «Коммерсанте» не было ничего. Газета «Сегодня» напечатала короткую заметку о пресс-конференции, – правда, на первой странице, тут Максимов не подвел, устроил, – однако в столь иезуитском стиле, что Слесаренко так и не понял: издевается автор над ним или пишет всерьез. В «Независимой» его упомянул какой-то Брегер, рядом с заголовком была неприятная фотография автора, несколько строк в ряду пространных размышлений о судьбе российского истеблишмента; снова он не понял – смеются над ним или нет. Была ей малознакомая газета «Век», там на – третьей странице писалось о пеком «заговоре бояр и удельных князьков» с целью растащить Россию по кусочкам, по вотчинам, и Виктор Александрович именовался глашатаем сих раскольников провинциальных, и здесь же намекалось на его капээсэсовское прошлое. «Какого черта! – подумал Слесаренко. – И мы еще за это платим?».
Он швырнул газеты на сиденье и нажал кнопку вызова стюардессы.
– Как я уже вам говорил, – сквозь зубы процедил он примчавшейся девице, – там, в том салоне, находится мой помощник Лузгин. Найдите его и пригласите сюда, он мне нужен по срочному делу.
– Да-да, конечно, – зачастила стюардесса. – Он в каком ряду?
– Ну... там найдете, – раздраженно произнес Виктор Александрович. – Мне что, самому искать?
Через минуту он услышал, как Лузгина выкликают по трансляции, и еще минуты через две тот появился самолично, встал в проходе и молча посмотрел на Слесаренко.
– Читали? – сказал Виктор Александрович.
– Нет, – ответил Лузгин.
– Так сядьте тут где-нибудь и почитайте! – Он схватил газеты пучком и ткнул их в живот Лузгину. – Мне хотелось бы услышать ваши объяснения.
– Я у себя прочитаю, – сказал Лузгин. – Потом вернусь.
– Хорошо, – снизошел Слесаренко. – Идите, читайте.
Он вспомнил, как когда-то давно летали одной с Лузгиным делегацией в Штаты, и тот его жестокий розыгрыш насчет тысячи долларов – нет, не забыл и не простил, хотя не раз потом смеялись вместе над слесаренковской скаредной промашкой; да и не было скаредности, многократно себе и другим объяснял, что порядок, тяготение к порядку было причиной конфуза; и еще подумалось: сейчас бы Лузгин не рискнул. И не только Лузгин. Кем он был в той штатовской поездке? Руководителем группы, надсмотрщиком за «облико моралес» от горкома, интересным разве что агенту ЦРУ с прицелом возможной вербовки, но никто не намекал, не спаивал его в предательском расчете и баб коварных не подкладывал совсем. Главный турист над туристами!.. А нынче в Германии хоть и не был в делегации никаким руководителем (присутствовали птицы высокого кремлевского полета), но кожей ощущал внимание и собственную ценность в глазах и жестах «принимающей стороны», ибо в нем уже проглядывалось нечто, и вроде бы совсем провинциальный Слесаренко уже стоял за кем-то, могущественным и владетельным, и сам масштаб обсуждаемых тем, проблем и сумм был настолько далек от суеты и понимания несчастных Лузгиных, не говоря о стюардессе, что Виктор Александрович против воли начинал испытывать к ним некую натужливую жалость. Ведь знал бы кто, по скольку раз ночами переписывались пункты соглашения, где многое зависит от того, поставишь «и» или поставишь «или», и запятая или точка с запятой отделяет одно предложение от другого; как приходилось краснеть и бледнеть, натыкаясь на следы скудоумной вороватости наших горе-бизнесменов, выдерживать натиск юристов в костюмах ценой до пяти его мэрских зарплат и понимать, что всем им плевать на Россию с верхотуры Кёльнского собора – видел его, не понравилось, холодом веет, – но у них, подлецов, есть деньги, которые нужны его стране, и он их должен получить, не продав лишнего и дешево, а главное – не продав себя и страну, и вежливо вбить в европейские головы, что мы вам не республика Того, мы не позволим вытирать о нас ваши прусско-нерусские ноги. Тем омерзительнее было видеть по возвращении и грязь, и серость, и нерадивость, и тараканью беготню различных соотечественников, когда-то рвавших грудь на площадях, а нынче грабящих налево и направо кто миллиард, кто гайку с паровоза, смотря куда дотянется рука, – и также порознь наплевавших на Россию, но только не свысока, а присевши на корточки. И не нужна им была никакая свобода – они перепутали слово, им хотелось другого: чтоб всем поровну, а поровну не получилось.
– Ну, я прочел, – сказал Лузгин, нарисовавшись в проходе.
– Тогда садитесь, – Слесаренко поднял портфель и передвинулся к окну Лузгин опустился рядом, сунул газеты за сеточку переднего сиденья.
– Хорошо тут у гас.
– Вы извините, – серьезно произнес Виктор Александрович. – Я был не в курсе.
– Перебьемся, –ответил Лузгин. – Мы не гордые.
– Я же извинился, – сказал Слесаренко. – Итак, ваша версия.
– Их, как всегда, по меньшей мере две. – Лузгин принялся рыться в пиджачных карманах. – Вот черт, сигареты не взял. Тут у вас же курить разрешают. Зажигалка-то есть...
Слесаренко раскрыл портфель и вытащил оттуда нераспечатанный блок «Мальборо» с наклейками «дьюти фри».
– Вот, пожалуйста.
Да неудобно. Придется, так сказать, лишить невинности...
– Давайте, давайте...
После долгой возни с отрыванием и открыванием, щелканьем, вдыханием и шумным выдыханием Лузгин произнес:
– Вот оно, тихое счастье... Две версии: удобная и честная. Чего изволите?
– Изволим обе, – принял игру Виктор Александрович.
– Начнем с удобной. – Лузгин наклонился к проходу и глянул вперед. – Ежели здесь еще и кофе подают... Для мэра какого-то городишка Задрипанска, попрошу без обид, нам уделено внимания более чем достаточно. – Слесаренко отметил про себя это щадяще-дружеское «нам». – Ведущие республиканские газеты, кое-где даже на первой полосе. Но не будем обольщаться: все это сделано за деньги и по связям. Дадим больше – больше и получим. В принципе, задача выполнена: мы там засветились. Как это отразится на ваших выборных делах в упомянутом Задрипанске? Отвечу прямо: никак не отразится, там этих газет не читают. Конечно, я могу устроить перепечатку в местной прессе, но следует еще посмотреть, будет от этого вред или польза. Единственная выгода, помимо чисто презентационной засветки, состоит в том, что ежели теперь кто-то сунет в те газеты компромат на вас, он (компромат) уже не будет напечатан моментально. Вы как бы стали их героем, персонажем, и они задумаются, что им выгоднее: мочить вас или подоить. Но в любом случае они теперь поставят вас в известность, а это даст нам возможность и время для маневра. Эта версия удобная.
– Ничего себе, – пробурчал Слесаренко.
– Теперь версия честная. Вас приняли в Госдуме, включили в состав государственной делегации, предоставили по возвращении трибуну в Думе, подкинули тему из выигрышных, обеспечили, пусть и скромный пока, но всероссийский резонанс... Кстати, почему только всероссийский? Наверняка через «Интерфакс» информация ушла на Запад, и я не исключаю, что уже сегодня в «Нью-Йорк таймс»...
– Ну, вы скажете!
– А что? Вполне возможно. Там очень остро реагируют на любые наши выверты с русопятским душком. Жириновский у них со страниц не сходит.
– Сравнили тоже...
– Я же просил: не обижайтесь. А вообще, хотите на спор, что кто-нибудь там, за бугром, обязательно вас упомянет? Вот на блок «Мальборо» и поспорим, все равно распечатали...
– Да заберите вы его!
– А что! И заберу. Но я ведь не закончил, Виктор Саныч.
– То есть вам еще не надоело тыкать меня мордой об асфальт?
– Терпите, батенька, терпите. Главный вопрос: кто же все это устроил и чего они от вас хотят взамен.
– Что значит – устроил? – спросил Слесаренко.
– Да все это, все... Ваше возвышение и привлечение, и... вся эта поездка в целом.
– Простите, я летал по делу, – сказал Виктор Александрович. – Я не турист, мы решали серьезные вещи.
– Не спорю, но их могли решить без вас.
– Неправда.
– Правда, Виктор Саныч, правда. Вы ведь сами, когда чего-нибудь хотите от депутатов, привлекаете их, создаете видимость совместного решения. Вы же знаете, им это нравится. Вот и вам понравилось.
– Но были ведь конкретные переговоры по конкретной бартерной линии, и я там, простите, был человек не последний, я первый подписывал...
– Все правильно. Просто немцам – тем, кто в бартере завязан, – хотелось лично посмотреть, кто заменил Воронцова, оценить вас и составить мнение.
– Зачем? – глупо выпалил Виктор Александрович.
– Да ладно уж... Чтобы знать, как им работать лично с вами. Прямо вам давать на лапу или соблюдать приличия.
– Вы совершенно не знаете этих людей, – убежденно сказал Слесаренко. – Вы с вашим другом Кротовым считаете их такими же...
– Ну, договаривайте.
– Вы же поняли! Зачем?
А вот вы не поняли ни черта, или прикидываетесь.
– Не так громко, пожалуйста.
– Я не люблю марксизм, тем паче ленинизм, но когда бородатый еврей говорит, что за двести процентов прибыли ихний Ротшильд родную маму удавит, тут я с ним согласен на те же самые двести процентов.
– Вы что, выпили с утра?
– Ну, заказал немного, здесь же носят. Вам задаром, нам за деньги. Да какое это имеет значение? Вы же знаете, что я прав.
– Ну, может быть, по бартеру и правы, – сказал Виктор Александрович просто так, чтобы свернуть этот нелепый разговор, начинавший его беспокоить. – Что же касается всего остального...