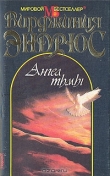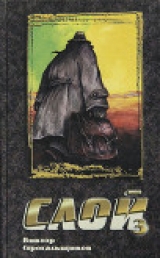
Текст книги "Слой 3"
Автор книги: Виктор Строгальщиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Прошу внимания! – сказал Морозов и постучал пальцем по крышке стола.
Вопрос докладывал Луньков. Говорил он неспешно, но емко, четкими акцентами выделяя позиции сторон. Виктор Александрович и сам полжизни провел на разных совещаниях и умел оценить профессионализм и культуру докладчика. «Ты смотри, как вырос Бонифатьич!» – не без удивления отметил он про себя, прислушиваясь к выверенным модуляциям луньковского голоса. Сидевший слева от него Вайнберг напоминал о себе тонким запахом чего-то заграничного. Никто не курил, и Слесаренко отметил это с приятностью.
– Подведем итоги, – произнес Луньков и нарисовал на лежащем перед ним чистом листе бумаги большую черную «птичку». – Вынесенная на рассмотрение поправка к закону о разделе продукции предполагает изменить заложенную ранее в законе пропорцию распределения совместно добытой нефти: не пятьдесят на пятьдесят, как принято в первом чтении, а десять на девяносто. Десять иностранному партнеру, девяносто – российскому.
– Вот и правильно, – подал голос Райков.
– Минуточку, – остановил его Морозов. – Давайте не будем устраивать прения, пока не выслушаем представителей территории. С кого начнем?
– С нефтяников, – предложил Луньков. – Вот сидит президент нефтяной компании Леонид Аркадьевич Вайнберг. Пусть-ка он изложит нам свою позицию.
– Пожалуйста, сидите, – предупредительно поднял руку Морозов. – Мы вас слушаем.
– Спасибо, – сказал Вайнберг. – Для нас большая честь...
Виктор Александрович заметил по часам: Вайнберг говорил ровно десять минут, как бы следуя обозначенным Луньковым маршрутом обсуждения, но то, что у Лунькова звучало как беспристрастное изложение существующих взглядов и мнений, в устах Вайнберга приобретало все большую полярность, словно к проблеме подключили ток и стала накапливаться разность потенциалов. Слесаренко еще раз подивился умению этих людей выстраивать сценарий по правилам серьезной деловой игры с заведомо просчитанным искомым результатом.
– А теперь мы выслушаем мэра, – с горделивой земляческой интонацией произнес Луньков и поставил на бумаге вторую «птичку». – В конце концов, это на его земле добывается нефть!
– Ну, во-первых, земля не моя, – без улыбки сказал Слесаренко, и люди за столом немножко посмеялись, как бы размывая тем самым официальные рамки дискуссии.
– Земля народная, и недра, насколько я правильно понимаю, тоже принадлежат народу...
– Вы все правильно понимаете, – сказал Гдлян.
– Благодарю вас, – холодновато проговорил Слесаренко; ему не нравилось, когда его перебивали, даже в порядке дежурного комплимента. – Нефть на прилегающей к городу территории добывают наши горожане, работающие в компании «Севернефтегаз». И я, как глава городской администрации, самым кровным образом заинтересован в том, чтобы они работали лучше и зарабатывали больше. С этой точки зрения я обязан поддержать внесение поправки об изменении пропорций распределения добываемой нефти.
Краем глаза он приметил, как шевельнулся на стуле Вайнберг.
– Между тем я с достаточной ясностью понимаю, что предлагаемая схема отпугнет иностранных партнеров-инвесторов, и «Севернефтегаз» окажется в глубоком финансовом кризисе. У государства нет средств, чтобы поддержать своих нефтяников...
– А нечего было п’одавать нефтегазовые п’едп’иятия за г’оши! – картавя больше, чем обычно, выкрикнул с места Райков. – П’ихватизи’овали, понимаешь, на свою голову!..
– Геннадь Иваныч! – постучал пальцем Морозов.
– Кстати, я с Райковым полностью согласен, – сказал Слесаренко. – Но мы сегодня обсуждаем не вопрос о пересмотре итогов приватизации нефтегазового комплекса, не так ли?
– Их и без нас пересматривают, – усмехнулся Гдлян.
– Вон сколько народу уже постреляли. Вашего предшественника... тоже, да? Я не ошибся?
– Вы не ошиблись, но я не хотел бы это... происшествие увязывать с обсуждаемой проблемой.
– Поддерживаю, – произнес Морозов.
– Таким образом, если действовать в рамках существующего положения вещей и сложившегося правового поля...
– Ваши предложения? – не слишком вежливо оборвал его Луньков. – Десять? Двадцать? Поровну? Хватит теоретизировать, давайте говорить конкретно. Вот ваше мнение как мэра города? Гордо и независимо идем ко дну или ищем разумный компромисс?
За столом зашумели, и сидевший напротив Слесаренко незнакомый депутат в темно-сером костюме с бордовым галстуком произнес, перекрывая голоса:
– Вы знаете, как этот самый «раздел продукции» именуется на английском?.. «Продакшен ширинг». Так вот, в народе его следующим образом перелопатили: «продакшен» Родины, и как можно «ширинг»! Здорово, а! В самую точку!
Морозову удал ось-таки погасить волну смеха и возгласов, все смолкли и уставились на Виктора Александровича. Он помолчал немного и сказал:
– Сорок–шестьдесят. Шестьдесят нашим и сорок не нашим.
– Поддерживаю, – быстро сказал Вайнберг. – Это разумно.
– Есть еще мнения? – спросил Морозов.
Когда потом курили на лестнице, возле лифтов, в компании Вайнберга и Лунькова, подошедший Райков сказал сквозь дым зажатой в зубах сигареты:
– Ну, братцы, здорово сработали! Оттяпали у западников десять процентов, а они за это вам еще ноги целовать будут...
И только тут до Виктора Александровича дошло, какую хитрую пьесу в мировом масштабе разыграли нефтяники в тихом сговоре с депутатами: сначала напугать заморских бизнесменов, уже вложивших деньги в добычу российской нефти, грабительской поправкой «десять–девяносто», довести их до полуинфаркта, а потом милостиво согласиться на «сорок» под давлением местных властей.
– А ты, Виктор Саныч, – продолжил дымящий Райков, – теперь в Германию поедешь как герой. Станешь немцем номер два после Михал Сергеича.
– Что за Германия? – не понял Слесаренко.
– Завтра государственная делегация летит в Дюссельдорф на встречу с немецкими промышленниками, министрами и депутатами бундестага, – пояснил Луньков.
Вы включены, Виктор Александрович. Будете представлять на встрече, так сказать, российскую глубинку.
– И кто же так решил? – недобро выговорил Слесаренко.
– Да вы не ёжьтесь, уважаемый! – В голосе Лунькова прозвучала примирительная укоризна. – Высокие люди решили, я вас поздравляю.
– Я тоже лечу, сказал Вайнберг.
– Еще бы! – хмыкнул Виктор Александрович. – Но, позвольте, а паспорт, а виза? У меня с собой даже российского паспорта нет...
– Все в порядке, Виктор Александрович, – выдвинулся из-за спин Евсеев. – Все уже оформлено надлежащим образом.
– Нет, а паспорт заграничный! Я даже не помню, где он у меня лежит. По-моему, дома, в Тюмени, остался... Вы что, выкрали его?
– Почему выкрали? – испугался Евсеев. – Новый сделали, и не один. Так... положено. Ведь мало ли что? В представительстве всегда... И при Воронцове так...
– Эго будет полезно, – заполнил неловкую паузу Вайнберг. – Лично встретитесь с руководством «Рейнишебанка», уточните детали кредитно-бартерного договора.
– Одна просьба, – сказал Слесаренко, роняя окурок в белую урну для мусора. – Впредь никаких сюрпризов, пожалуйста. Иначе нам с вами будет очень трудно работать. Особенно с вами, – он глянул на поникшего Евсеева.
Да нормально, нормально мы с вами будем работать! – воскликнул Луньков. – Право слово, Виктор Саныч, вы как маленький! Знаете, на каком уровне вашу кандидатуру согласовывали? На уровне министерства иностранных дел и управления делами президента! Сам Юмашев бумагу визировал! Кто-то из первых вице-премьеров летит! Понимаете, на какой уровень вас выводят? Да любой губернатор душу бы продал, чтобы в такой компании к немцам прокатиться! Вы там вечерком рюмочку с кем надо выпьете, и любой трансферт получите, напрямую получите, безо всяких там Филипенок...
– Так уж и любой? – буркнул Слесаренко.
– Тут уж от вас, батенька, зависит... С какого боку к кому подойдете...
– Здесь у нас... все? – окончательно сдаваясь, спросил Лунькова Виктор Александрович.
– Сейчас перекусим в столовке, детали обжуем, без десяти два вас представят Селезневу – протокольный визит, пять минут, обмен любезностями и сувенирами...
– Сувениры готовы, – рапортнул Евсеев.
Никаких просьб, никаких проблем, горячая уверенность в исторической роли Госдумы как спасителя Отечества. В два пятнадцать встреча с Бабуриным – надо, полезен, хотя и в опале; потом сразу к Николаеву.
– Это какому?
– Как какому? Генералу Николаеву, бывшему пограничнику, ну вы же знаете его, теперь он депутат.
– Знаю, конечно, но зачем?
– Эх, батенька, – вздохнул Луньков. – Спите вы там, как медведи в берлоге. Николаев сегодня – первый лужковский представитель в Думе, он под «кепку» команду сколачивает; о-оч-чень перспективно, я вам доложу!
– Да уж, – с унылым оптимизмом согласился Слесаренко.
Обедали в большой столовой на первом этаже госдумовского здания. Столовых было две: одна самообслуживания, другая – с официантами; они пошли к официантам. В буфете, предварявшем обеденный зал, Слесаренко увидел сгуртовавшихся за высоким столиком знакомых летчиков в компании с бритоголовым депутатом; победители чокались кофейными чашками, тесно сблизив побагровевшие лица. В обеденном зале, пока искали место, рассаживались и делали заказ, Виктор Александрович с греховным интересом разглядывал вокруг знакомых персонажей. Это было даже не закулисье – нет, напротив, ему казалось, что это сами актеры спустились со сцены в зал к нему, к зрителю, и продолжают рядом с ним свое заученное действо. Привыкший к определенной ясности во всем, или, по меньшей мере, всегда к ней стремившийся, он и сейчас старался разобраться в своем отношении к окружавшим его этим известным людям. И, выскребая донышко души, жуя капустную котлету – Луньков посоветовал, пристрастившийся здесь к аристократическому вегетарианству, – отбрасывая в сторону привычное всякому русскому человеку отношение к властям как зыбкой грани обожания и ненависти, кумирства и палачества, сметая туда же злорадное видение осклизлой макаронины, сорвавшейся с вилки государственного мужа за соседним столом, забыв на миг дословный перевод «парламента» как «говорильни», он там, на самом донышке, нашел одно-единственное правильное слово, и слово это было – зависть.
Почему они, а не я? Чем они лучше, умнее и грамотнее? Да ничем, так ответил бы Виктор Александрович, если б кто-нибудь спросил его об этом в сей момент, но никто его об этом не спросил, и он доел свою противную котлету и заскучал в компотном ожидании.
Из Думы он уехал в поднятого; визиты к Бабурину и Николаеву поменялись местами и временем, генерал-депутат торопился куда-то, вышло коротко и театрально, как у Селезнева, только без сувениров, а вот у Бабурина потом засиделись, пили кофе с печеньем, говорили о Сибири и Москве, опасности зреющего сибирского сепаратизма, подогреваемого фельдфебельскими окриками слабых и непоследовательных федеральных властей, об отсутствии в обществе ясно выраженной национальной государственной идеи, откуда весь этот разброд и шатания от севших поголовно на иглу студентов до черных баркашовских мальчиков и красных мстителей из ревсомола. Слесаренко не мог не поддаться обаянию бабуринской убежденности, но все зачеркивалось внешностью красивого приказчика, этакого героя-любовника провинциальной сцены, сам тип которого был физически неприятен Виктору Александровичу, а потому он тяготился разговором, как тяготился ранее луньковскою котлетой, и при первой же паузе вспомнил вполголоса о бесценности депутатского времени.
В доме на Кузнецком он не без самоедства вдруг поймал себя на том, что мысленно именует уже эту огромную квартиру резиденцией; быстро же освоился, однако! Виктор Александрович попросил Евсеева набрать номер тюменской квартиры и минут пятнадцать говорил с сыном, а больше с внуком о разных разностях, и даже не говорил, а слушал, потому что внук лепетал без перерыва, спеша излить на далекого деда водопад детсадовских великих новостей, а если дед неосторожно прерывал его никчемными вопросами о здоровье или о еде, и слушается ли он папу с мамой, внук издавал в трубке мучительный вопль и кричал: «Дед, помойчи, ты пос’ушай!..», – и продолжал в восторженном захлебе повествовать о том, как после сна, перед полдником, нехороший мальчик по имени Дима украл у него и спрятал «гойшок», и тогда он взял другой «гойшок» и подрался с девочкой, и его наругали.
Прошлым вечером, а скорее даже ночью, когда внук с невесткой уже заснули, у Виктора Александровича состоялся натужливый и неродной какой-то разговор с сыном: про дачу и бутылки, мужскую ответственность за счастье семьи и мужскую же природную безответственность, и прочую напыщенную ерунду – снизив голос до басов, до грани шепотливого рычанья. Сын пожимал плечами и кивал, а Слесаренко все гундел и гундел, не в силах пробиться сквозь двойную стену отчуждения и прежде всего сквозь собственный, его бетонный слой, впервые в жизни осознав, наверное, что сын давным-давно живет отдельной жизнью, о которой он, отец, почти ничего не знает, и куда нынче сунулся со старым воспитательным ремнем, коим нередко помахивал в сыновнем детстве, как думалось тогда – не без пользы и результата, жестокий дурак, замахнулся бы нынче на внука – умер бы сразу, убил бы себя, не моргнув, одной даже мыслью о невозможной возможности причинить боль любимому существу; а сына, значит, не любил, так выходило? Нет, неправда, любил (и любит), но по-другому, рассудочно и порционно, когда случалась надобность проявить или выказать, а далее свет выключался, в последние годы все на дольше и чаще, вот сын и вырос в этой темноте отцовского отсутствия, вырос неплохим и неглупым человеком, и чья вина, что сын не находил нынче потребности душевного соприкасания с отцом – ровно настолько, насколько отец, годами ранее, сам не испытывал особой в том нужды. Но дачу, однако, решили не продавать.
Отзвонивши домой, Виктор Александрович в одиночестве – Евсеев уехал забирать из Госдумы людей, чей визит в представительство был запланирован на восемнадцать ноль-ноль – прогулялся по коридорам и комнатам резиденции, рассматривая мебель и мелочи красивого убранства, подходя к окнам и глядя сверху вниз сквозь матовую кисею высоких штор, подобранных тугими волнами, на предвечернюю цветную суету столичной улицы, совсем уже не русской, европейской. В большой гостиной он уселся на диван, в овале света от неяркого торшера, недолго пялился в картину на стене, пытаясь разгадать сюжет и смысл ее аляповатых пятен, и внезапно почудилось, что сейчас из соседней комнаты вот этим длинным коридором к нему выйдет жена и сядет рядом, и приткнется – всегдашняя ее привычка притык; зваться, прислоняться, искать тепла, как будто мерзла вечно, – жена, не только не живавшая никогда в таких хоромах, но и не видевшая, разве что в кино. Он представил себе как хорошо и просторно и вольно жилось бы им всем в той огромной, но удивительно ладной и не давящей своими размерами, умно скроенной и оборудованной квартире, где они с внуком даже в прятки или в дурацкого Бэтмена с его дурацким другом Робином могли бы играть взаправду, а не шныряя по очереди за бестаинственный шкаф в прихожей.
Он знал, что и в Тюмени уже строят и продают подобные квартиры. Купить такую на зарплату он бы не смог никогда, а вот «получить» – это было реально; почти в такой же проживал Чернявский и кое-кто из «городских» и «областных», не говоря уж про нефтяников, торговцев и банкиров. Что следовало предпринять? Слегка поклянчить, постонать, да просто намекнуть в случайном разговоре, а еще проще – снять на время маску брезгливой неприступности, и – сами прибегут, предложат сами, ведь подбегали же не раз на расстояние контакта: тот же Гарик, и тот же спиртовый король Квадратенко, – да мало ли кто подбегал и отскакивал, и бежал к другим дверям, и все равно получал, покупал свое надобное, отхватывал от пирога и сытно ел, не забывая поделиться; так было и будет всегда, и если он выиграет и его выберут мэром, то и эта московская резиденция станет как бы е г о, а ежели он шевельнет нужной бровью, то в Тюмени стремглав образуется уже не как бы, а его по-настоящему, и все будет сделано в рамках закона, и никто не подкопается, никто не плюнет ему в очи, а коль и захочет, то не доплюнет – высоко и далеко. Вот только жена никогда не увидит, не войдет и не сядет, приткнувшись, а сыну пока хватит и той квартиры, что есть. «Так неужели, – подумал он с горечью, – надо было потерять жену, чтобы остаться честным человеком?».
Он встрепенулся от резкой трели телефонного аппарата на расписном стеклянном столике, мерцавшем напротив дивана, и снял трубку.
Мы подъезжаем, – сообщил Евсеев. – Паркуемся у дома через три минуты.
Слесаренко оценил профессиональную евсеевскую предупредительность; в конце концов, прислуживать – это тоже работа, и почему лакей не может быть талантливым? Он прошел в ванную комнату, причесался и поправил галстук, легонько брызнул под пиджак, к подмышкам, чем-то пряным из стоявшего на полочке прохладного баллончика, хмыкнул в зеркало и поиграл бровями. Немного прибаливало в затылке, он отнес эту боль на счет бесконечного кофе и возвратившихся в жизнь сигарет.
Где встретить? Конечно же, не в прихожей, он хозяин, там ему не место. Он решил не возвращаться и в гостиную; погасил в ванной комнате свет и поднялся по трем знакомым ступенькам на «свою» половину. В кабинете он присел за стол, достал из портфеля бумаги и прочел целых две страницы малопонятного и незапоминающегося гарикиного текста, когда раздался четкий сдвоенный стук и голос Евсеева произнес за дверью:
– Виктор Александрович?
Из глубины коридора видна была только часть гостиной, и по мере приближения к разделявшей пространство сводчатой арке ему открывалась панорама представления: сначала развалившийся на диване Луньков, затем присевший на ручку соседнего кресла поджарый мужчина лет от тридцати до сорока – с сухим лицом, тревожаще знакомым, – и далее, в центре ковра, некто солидный с большой головой и острым подбородком, с очечками в черной немодной оправе, темных отглаженных брюках и светлосером пиджаке – именно по этому пиджаку и по очкам его и узнал Виктор Александрович, вспомнив фото в каком-то журнале и нечастые, но приметные явления в телевизоре.
– Добрый вечер! – на правах хозяина первым поздоровался Слесаренко.
– Хорошо живете, – сказал Луньков, раскачался и встал. Поднялся и тот, что сидел на ручке кресла.
– Позвольте вас представить, – Луньков сделал авансовый пасс в сторону ближайшего, поджарого, но тот шагнул вперед и протянул длиннопалую ладонь.
– Мы с Виктор Санычем знакомы, не так ли?
– Конечно, – сказал Слесаренко. – Очень рад. – Но рад он не был, потому что сразу, на вспышке, выхватил из памяти это лицо – среди прочих, сновавших тогда возле дома, где заперся «мститель» Степан; вспомнил черную вязаную шапочку над бровями и черный тоже, но блестящий и короткий автомат в этой самой руке, которую он сейчас задержал в своей чуть дольше, чем следует при обычном приветствии.
– Чудесно, – сказал Луньков. – Тогда прошу любить и жаловать...
Солидный мужчина подождал, пока Виктор Александрович переместится к нему по ковру, и скромно произнес:
– Берестов.
– Присядем, – предложил Луньков.
Было шесть вечера, еще по-летнему дневное было время, но окна гостиной выходили на восток, в тень узкой улицы с высокими домами, и свет торшера был уже не лишним, обрисовывал мягко пространство грядущей беседы.
– Полагаю, деятельность Ивана Алексеевича вам в достаточной степени знакома, – уверенно сказал Луньков, устраивая локти на коленях.
– Знакома, – кивнул Берестову Виктор Александрович. – Я читал вас. И даже видел и слышал – правда, не очно, по телевидению.
– Читали в нашем журнале? – Берестов выставил брови над верхними дугами очков. – Как он к вам попал? Вы наш подписчик?
– Да нет, – извинительно улыбнулся Слесаренко. – Просто попал по случаю.
– Но вы прочли?
– ...Кое-что.
– И что именно? Какие темы? Что запомнилось?
– Мне трудно ответить так сразу. – Виктор Александрович уже испытывал раздражение от этого экзаменаторского напора и поневоле, чтобы не смотреть в глаза Берестову, перевел взгляд на сидевшего рядом Лунькова. Тот невозмутимо копался в сигаретной пачке, словно там, среди прочих, была какая-то особая сигарета, и именно ее он сейчас и выискивал.
– Вы позволите? – раздался за спиной голос Евсеева.
«Нет, не уволю, – еще раз решил Слесаренко. – Что за чутье у человека!» – подумал он, глядя на руки Евсеева, плавно размещавшего по столику квадратные стаканы с напитками. Троим досталось виски с кубиками льда, Берестову – вода без пузырьков; Слесаренко как-то сразу понял: вода, не водка и ни что другое.
– Что вообще читают в ваших пенатах, Виктор Александрович? – спросил поджарый.
– Из газет? – Слесаренко подумал немного. – «Аргументы и факты», немного «Комсомолку», а так больше местные газеты, городские. А вот областные и окружные в последнее время как-то... не очень
– «Коммерсант-дейли», «Независимая», «Сегодня», «Русский телеграф»?..
– Только элита, и то не всегда. Про «Телеграф» я и вовсе не слышал.
– Вот видите, Геннадий Аркадьевич! – Берестов вывернул руку ладошкой вверх, будто показывал нечто поджарому. – А «Труд», «Советская Россия», «Рабочая трибуна»?
– «Труд»? Пожалуй, да. Ну, «СовРоссия»... Но все равно – капля в море, один экземпляр на тысячу.
– А мы говорим о каком-то информационном пространстве!.. Журналы?
– Вообще никаких. Дорого и... неинтересно. Впрочем, я уверен, что и в Москве картина не многим лучше.
– А телевидение? – не унимался Берестов.
– Первая программа и вторая... Кое-где НТВ... И местные коммерческие телестудии.
– Есть областное?
– Телевидение? Формально есть, но практически нет. Тюмень уже почти не вещает на Север. А если и вещает, то мало кто смотрит.
– Как, по-вашему, Виктор Александрович, – мягко вклинился поджарый Геннадий Аркадьевич, – в чем причина создавшейся ситуации?
– Что не читают, не выписывают, не смотрят? – Слесаренко раздумывал: а не закурить ли ему за компанию с Луньковым. – Так просто не скажешь... Если мое собственное мнение, то... Мне кажется, людей сегодня интересует только то, что происходит с ними и рядом с ними: дома, на работе, в своем городе, в деревне. Как жить, как выживать? Ну, и большая политика, конечно. В смысле кремлевских поворотов, которые опять же отражаются на людях налоги, деноминация, пенсии... Ну, еще драки на самом верху. А все, что посередине – окружного, областного масштаба, даже районного, – неинтересно, только раздражает.
– Почему? – спросил Берестов.
– Все эти структуры людям... не нужны. Так люди думают. Просто огромная куча чиновников, которых приходится кормить. А пользы они, по мнению народа, не приносят никакой. Вообще мне представляется, что люди перестали жить... перестали ощущать себя в масштабах большой территории. Раньше как отвечали на вопрос: где живешь? «В Тюменской области». Сегодня гак не говорят. «В Тюмени, в Нижневартовске, в Надыме...». Про округа тоже никто не вспоминает. Остались город и страна.
– Если остались, – ехидно обронил Луньков.
– Другими словами, остались мэр и президент? – Берестов произнес это с нажимом, фиксируя фразу, как некий рубеж в разговоре.
– Можно сказать и так, – полусогласием ответил Слесаренко.
– Теперь, пожалуйста, о так называемых выборных органах: местные и областные Думы, Федеральное собрание. Каково отношение к ним?
– По большей части – никакое. Там сидят те же болтуны и бюрократы, сумевшие как-то обмануть народ на выборах. Таково общее, я бы сказал, бытовое мнение.
– А ваше собственное?
– Мое собственное? – Виктор Александрович позволил себе улыбнуться. – Боюсь, что оно мало чем отличается от бытового.
– Подытожим, – деловым тоном произнес Берестов. – Налицо полный – и моральный, и идеологический, и экономический – крах навязанной народу либерально-демократической модели государственного устройства по западному образцу. Пришедшая на волне демократии новая номенклатура не знает свой народ и не верит в него, рассматривает только как объект манипулирования, а свое участие во власти – как способ заработать деньги. Они циничны, тщеславны, жадны, склонны к блефу и предательству. Примеров тому за время их пребывания у государственного руля более чем достаточно. Вы с этими доводами согласны?
– Продолжайте, Иван Алексеевич, – сказал Слесаренко. – Я вас внимательно слушаю.
– Старая номенклатура, которая сегодня как бы ушла в тень, на вторые и третьи роли, на самом деле по-прежнему у власти и гораздо более многочисленна, чем новая. Это профессиональные управленцы, в большинстве своем добросовестные и ответственные, а по меркам «новых русских» – даже бескорыстные. Это патриоты, государственники, тяжело переживающие разрушение великой некогда страны. Я искренне надеюсь, что вы не обидитесь, когда я скажу, что отношу лично вас именно к этой, второй категории.
– Я не обижусь.
– Спасибо. Продолжим. Алексей Бонифатьевич, вы бы поменьше дымили, сударь...
– А вы не насилуйте русскую душу! – с веселым вызовом сказал Луньков и подвинул пачку сигарет к Виктору Александровичу. – Народ надо любить таким, какой он есть, со всеми его недостатками.
– Это вы – народ? – изумленно спросил Геннадий Аркадьевич.
– Да, я – народ, – гордо молвил Луньков.
– Продолжим, – ровным голосом произнес Иван Алексеевич. – Следует признать, что даже лучшие представители старой номенклатуры перестали понимать саму суть возникшей в обществе ситуации. Они не могут наладить диалог с народом, потому что не в состоянии понять: народ стал другим. Та часть электората, к которой они взывают и которая их слышит и слушает, резко сходит со сцены. К тому же она деморализована поражением коммунистов на прошлых президентских выборах. Сегодня наиболее активная и дееспособная часть населения – это тридцати-сорокалетние, и они в свою очередь не понимают стариков и никогда за ними не пойдут, тем более назад, в «золотые семидесятые». Таким образом, мы можем утверждать, что наиболее сознательная часть народа отвергла, упрощенно говоря, исчерпавшее себя старое и не приняла и не примет уже опозорившее себя новое.
– Снова «третий путь»? – сказал Виктор Александрович, глядя на сигаретную пачку. Берестов отхлебнул водички из стакана и вытер губы тыльной стороной ладони.
– Вы абсолютно правы. Положение во всех сферах государственной жизни продолжает ухудшаться. И проблема вовсе не в коррупции, не в безразличии властей к нуждам народа и даже не в зловредном влиянии Запада. Проблема в том, что все эти бесконечно меняющиеся у властных рычагов «команды» не понимают происходящих в обществе процессов, а потому и не знают, где же спасительный выход.
– А вы знаете, – сказал Слесаренко. Луньков усмехнулся загадочно, и Берестов продолжил после некоторой паузы.
В этот раз на новых выборах партии власти придется иметь дело не с имиджмейкерами, журналистами и партийными функционерами, а непосредственно с народом. С народом, многократно обманутым и униженным, обворованным и озлобленным. С народом, который уже не купится на телевизионные и газетные шоу и не поверит никаким обещаниям. С народом, которому нечего терять!
Берестов поймал очками ускользающий слесаренковский взгляд и удержал его с почти гипнотической силой; Виктор Александрович почувствовал легкий холодок между лопатками.
– И этот народ потребует чуда – на меньшее он не согласится. И будет абсолютно прав.
– Молочные реки, кисельные берега? – Виктор Александрович со вздохом потянулся за сигаретой. «А я-то слушал...». Когда он дотянулся до пачки, то непроизвольно сделал кистью полувращательное движение, чтобы стал виден циферблат наручных часов.
– Вы торопитесь с выводами, – сожалеюще произнес Берестов. – Мы говорим о чуде духовном, способном заполнить гибельный вакуум, образовавшийся в душах миллионов русских людей.
– Россиян, -поправил его Слесаренко.
– Нет такой нации – россияне! – возвысил голос Берестов. – Есть русские люди.
– А как же насчет расхожей фразы: «поскреби любого русака – найдешь татарина»?
– Возьму на себя смелость утверждать, что эти рассуждения, мягко говоря, надуманны и злоумышленны. Подумайте сами, как могла действовавшая молниеносными набегами татаро-монгольская армия, пусть даже численностью в сто, двести тысяч воинов, ассимилировать многомиллионный народ? И вообще любопытно, почему в национальной чистоте и полноценности отказывают именно нам, русским? Есть истинные немцы, коренные итальянцы, стопроцентные французы, а нас нет? Между тем именно европейские нации, сравнительно небольшие по численности, на протяжении многих веков постоянно воевали друг с другом, оккупируя соседние территории вместе с женским населением. Русские же, напротив, не одну тысячу лет вели уединенный образ жизни, и к тому историческому моменту, когда они вступили в контакт с иными цивилизациями – и западными, и восточными, – русские уже генетически прочно сложились как нация. Таким образом, мы беремся утверждать (Слесаренко отметил это уверенное «мы»), что русский народ не только генетически один из самых чистых, но и один из самых породистых на планете. Минуточку, я уже знаю, какое слово вы намерены сейчас произнести: фашизм.
– Шовинизм, – снова поправил Берестова Виктор Александрович, и Луньков одарил его поощряющим взглядом.
– Давайте признаем для начала, что уже сама постановка вопроса вызывает почти рефлекторные обвинения в расизме, шовинизме, фашизме и так далее. Но мы спросим себя: почему? Почему забота о генетическом, а, значит, душевном, физическом и умственном здоровье нации вызывает столь негативную реакцию? И у кого именно? Ведь такая забота абсолютно естественна для любого полноценного человека, рассматривающего свой народ как продолжение самого себя, а не как некое «население», которое можно использовать в тех или иных целях. Так кто же обвиняет нас в шовинизме. Особенно сейчас, в ситуации повальной и всемирной русофобии! Простите, но человек, над головой которого все время размахивают дубиной, не просто имеет право – он обязан защищаться, бороться за свое выживание, несмотря на обвинения в великодержавном шовинизме. Разве не удивительно, что один из самых талантливых народов на планете, внесший неоспоримый вклад в мировую науку и культуру, живущий на самой богатой территории планеты, сегодня голодает, вымирает и подвергается непрерывному моральному и национальному унижению. Наконец, нас просто лишили имени собственного в своей родной стране, оставив лишь некое собирательное прозвище: россияне – ленивые и нелюбопытные, завистливые, бездарные, глупые, спившиеся...