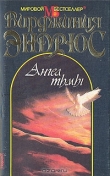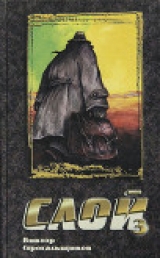
Текст книги "Слой 3"
Автор книги: Виктор Строгальщиков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Да ну? Я весь внимание. – В лице директора мешалось облегчение с настороженностью.
– Ты знаешь семью Ивановых? Ну, этих, многодетных.
– Конечно, знаю, – сказал Халилов с гордостью в голосе. – Наша студия взяла над ними шефство. Анна... Вячеславовна, – он сделал ударение на отчестве, – ведет про них цикл передач. Сегодня, кстати...
– Именно сегодня!
– Да... Я не понял, и что ты имеешь в виду?
– Ты был в квартире, где они живут?
– Конечно, был. Мы им вручали телевизор.
– Ты считаешь, это нормально – десять человек в двухкомнатной квартире?
– Уже десять? – удивился Халилов.
– Да, они взяли двойняшек из дома ребенка.
– Какие люди! – произнес директор. – Ты согласен?
– Как насчет квартиры?
– Мы боремся, мы регулярно обращаемся к общественности, к городским властям... Но ты же знаешь, – сказал он вдруг с нормальной интонацией, – какое там болото, какая бюрократия!
– Вот именно, – согласился Лузгин. – Поэтому сегодня вечером в прямом эфире Анна обратится к горожанам – ну, к тем, у кого излишки жилплощади – с просьбой поменяться квартирами с семьей Ивановых.
– Да ну, – сказал Халилов и посмотрел на Лузгина с оттенком сожаления. – А впрочем... Хороший журналистский ход. Ты подсказал? Узнаю руку мастера. Толку, конечно, не будет, но резонанс...
– Будет толк, – сказал Лузгин.
– Ты уверен?
– Абсолютно.
– Можно спросить: почему? Откуда такая уверенность Ты еще что-то придумал, да?
– Придумал, – кивнул головой Лузгин. – Есть хорошая идея: ты, Халилов Митхат Идрисович, отдашь свою квартиру Ивановым.
Директор студии вначале рассмеялся, потом спросил:
– А почему?
Лузгин не смог удержаться от удовольствия медленно достать из кармана сигареты, вытрясти из пачки неровный ряд торчащих фильтров, зубами прикусить и вытащить самый прыткий, отщелкнуть крышку зажигалки «зиппо», крутнуть колесико, подпалить табак на краешке огня, вдохнуть и выдохнуть, защелкнуть и убрать в карман.
– Пепельницу дай, – сказал Лузгин.
– Ну, говори, я слушаю, Васильич.
– Ты отдашь свою квартиру Ивановым, потому что ты не хочешь сесть в тюрьму, Мишаня.
– Ну, хватит, перестань, – всем лицом покривился Халилов. – При чем тут тюрьма и квартира?
– Я думал, ты мне сам расскажешь.
– Мне нечего рассказывать.
– Тогда уж я тебе, Мишаня, расскажу.
Он раскрыл портфель, достал оттуда пластиковую папку, положил ее на стол и придавил локтем. Он заметил, как дрогнули маза директора и как засуетились пальцы.
– В прошлом году ты, Мишаня, получил от города пятикомнатную квартиру. До этого проживал в двухкомнатной с женой и дочерью. Я правильно говорю? Ты предъявил справку о том, что твои родители, проживавшие в Тюмени с находящейся на их иждивении внучкой, дочерью твоей сестры, по причине старости намерены переехать к тебе и что они уже сдали тюменскому муниципалитету свою квартиру. Так я ничего не путаю?
– Послушай, Вова...
Я не закончил. На основании этой справки и твоего заявления мэр Воронцов и генеральный директор «Севернефтегаза» Лукоянов подписали и провели через комиссию постановление о выделении тебе на семью из шести человек пятикомнатной квартиры в новом элитном доме, построенном городом на паях с нефтяниками. Эта справка? – Он достал из папки лист бумаги с грифом и печатью. – Узнаешь?
– Откуда она у тебя?
– От верблюда, естественно... Руки, руки попрошу! Не суетись, Мишаня, не надо рвать и жевать бумагу, это копия... Продолжим? Итак, перед нами справка. С подписью и печатью домоуправления. А почему не комитета по жилью? Я сейчас объясню, почему. Дом, в котором жили и живут твои родители...
– Чего ты хочешь, Вова?
– Я хочу, чтобы ты меня выслушал, Миша... Итак, дом этот ведомственный, а не муниципальный. Таким образом, квартира родителей никак не могла быть передана на баланс городским властям. Она и не была передана – никому. Вот еще интересная справка из комитета по жилью, вот из комитета по госимуществу, вот справочка из милиции о прописке... Один вопрос: ты сколько заплатил той бабе из домоуправления? По-моему, мало заплатил, поэтому она тебя и подставила, Миша. Ты посмотри сам: печать размыта, а подпись? Ты прочти фамилию, которая напечатана! И сравни подпись рядом. Там даже буквы не совпадают! Калябушка простая, а не роспись! И где, простите, исходящий номер? Выходит, справка не была зарегистрирована? Где номер акта о приемке? Ведь есть же установленная процедура...
– А я при чем? – вскричал Халилов. – Какую мне справку дали, такую я и представил!
– Побойся бога, Миша! – Лузгин осуждающе покачал головой. – Ты что, родителей подставить хочешь? Они тебе дали фальшивую справку? Что, думаешь, по старости их не запрут в СИЗО?
– Ты меня не пугай! Какое СИЗО? Да сплошь и рядом!..
– Погоди, Мишаня. Тут два варианта. Или баба, что делала справку, расколется и будет топить тебя, как котенка, или выйдет, что ты эту справку подделал, бланк выкрал и текст напечатал, а печать... Есть такой набор, называется «Юный гравер». Никогда в руках не держал? И вот в итоге с помощью липовой справки ты завладел государственной собственностью – подчеркиваю: государственной, выстроенной на средства налогоплательщиков, стоимостью этак миллиарда в полтора старых рублей. Ну, миллионов двести тебе скостят за двухкомнатную, ты ее сдал, хотя и пробовал замылить.
– Кто пробовал?
– Да ты, Мишаня! Тебе до сей поры неясно, откуда у меня все эти справочки? И смог бы я, сидючи здесь, за две недели размотать тюменский «хвост»?
– Вот сука грёбаная, – сказал Халилов. – Это глядь Федоров, я так и знал...
– А если знал – зачем полез, Мишаня? Ведь на крючок полез... Ты думаешь, Федоров этой бумаженции поверил? Он на нее глаза закрыл, потому что начальство так решило, а сам на тебя целый год потихоньку компру собирал. И собрал, как видишь, листик к листику. И мне передал самолично.
– Хрен бы он тебе передал, – презрительно выплюнул фразу Халилов. – Это все Кротов, твой дружок, он здесь всех на уши поставил. Потом, не видите, я занят! Позади Лузгина захлопнулась дверь, а как открывалась он не слышал, увлекся, надо быть внимательней.
– Хорошо, – сказал директор студии. – Чего ты хочешь?
– Отдай квартиру Ивановым. Красивый жест, тебя народ возлюбит. А с Федоровым разберешься сам.
– Ты что, серьезно?
– Более чем.
– Пошел ты на хрен, Вова, – лениво произнес Халилов. – Я думал, ты серьезный человек.
– Серьезней не бывает.
– Бери свои бумаги и уматывай. Куда ты с ними побежишь? В прокуратуру? Поди попробуй. В округ поедешь? Давай, я посмотрю... Ты здесь – никто, ты понял? И в округе – никто! С тобой и разговаривать не станут. Понаехали гут, понимаешь, всякие гляди тюменские, и нам, северянам, еще права качают!
– Это ты – северянин, Мишаня?
– Да, Вова, я северянин, я свой, а ты говно приезжее! Иди пробуй, мне даже интересно! Да, пожалуйста! – Он помахал рукою перед Лузгиным. – Давай, уматывай!..
– Два последних штриха, если будет позволено, – Лузгин не торопясь собрал бумаги и сунул папочку в портфель.
Штрих первый. Фальшивый документ произведен в Тюмени; следовательно, есть юридические основания возбудить дело именно там. А там, ты знаешь, я очень много что могу. Особенно, если меня разозлить. Штрих второй: борьба с расхищением бюджетных средств. Москва требует от регионов конкретных результатов, конкретных цифр. А тут сразу полтора миллиарда! И кем пожертвовать? Нечестным журналистом! Старик, это очень понравится. Какой резонанс! И загремишь ты на нары за милую душу. Тот же Федоров первым отрапортует: я всегда подозревал, я провел свое собственное расследование!.. А теперь я пойду, Михаил Борисыч, и буду с нетерпением ждать вечернего эфира.
– Постой, а как же я? – вскочил Халилов. – Мне что, в трущобу эту ехать?
– Не бзди, Мишаня, – ласково сказал Лузгин. – Ты мальчик не бедный. Добавишь своих и купишь хорошую трехкомнатную квартиру. Тебе хватит. И за свои, Мишаня, за свои!
Постой! Ведь можно как-то по-другому, по-нормальному...
– С тобой? Исключено. Ты нехороший человек, Мишаня.
– А ты?
Лузгин замешкался у двери, потом достал двумя пальцами из нагрудного кармана пиджака маленькую плоскую коробку немецкого спецдиктофона марки «Ухер», повертел ее немного, как бы удивляясь странному наличию, сунул обратно в карман и сказал:
Я очень нехороший. Притом настолько нехороший, что если ты вдруг осчастливишь Ивановых, я плюну на все и забуду, и даже стану тобой публично восхищаться. Глядишь, тебя еще в Госдуму выберут, Мишаня. А что? Чем ты хуже... других?
И ушел. А когда шел по коридору, представилось вдруг, как неслышными шагами его настигает Халилов и бьет между лопаток тупым и твердым. Во цвете лет погиб за справедливость...
В желудке вызревал пожар. «Нагряну к Шурику – первым делом потребую кофе. Или нет – чаю, крепкого и очень сладкого, как учил один специалист по абстинентному синдрому, хотя какой синдром, вполне прилично себя ощущаю...».
Романовский отсвечивал лысиной и стариковскими очками. Увидев Лузгина, он выронил на стол дешевую шариковую ручку и произнес сердито:
– Старый, у нас нескладушки.
– Сначала чаю, потом проблемы.
– Ты когда пьянствовать бросишь, Вовка?
– Я брошу – ты начнешь, а тебе нельзя.
– На подоконнике, свежий, бери и наливай... Слышь, я всю ночь просидел, интервью со Слесаренко расшифровывал.
– Ну и как?
– А никак. Теперь никак – после вчерашнего.
– А что такое?
– Ну как – что? Все к черту, вся беседа псу под хвост.
– Э, не гони, – сказал Лузгин. – Плохое интервью?
– Интервью классное, мужик раскрылся: умный, опытный, людей понимает, но... после Кротова, вчерашнего... все это не звучит! Кротов бомбу взорвал, а мы... Кому теперь все это интересно? «Проблемы, поиски, решения...». И хоть бы намекнули в воскресенье, что в понедельник устроите эту бучу в эфире, я бы... пристрелялся, флажки навесил.
– Мы сами ни черта не знали.
– Вы? Не знали?
– Да, Шурик, не знали. К стыду своему, но – увы... Пришлось импровизировать.
– Вы проморга, и депутатский бунт?
– Ага, – сказал Лузгин.
– Дела-а, – промолвил Шурик Романовский. – И что теперь? Куда мне все это девать?
– Печатай.
– Так ведь глупо получится! Позавчерашний день!
– Печатай все как есть. И комментарий припиши: так, мол, и так, когда беседа с мэром была готова к публикации, а сам он уехал в Москву по делам, в городе случился бунт, и команде Слесаренко пришлось прибегнуть к контратаке без его ведома. Пошли взаимные наскоки, борьба компроматов, и есть опасность – грозная опасность! – что под обломками скандала будет похоронено главное, о чем говорит в своем интервью уважаемый Виктор Александрович: кропотливая и трудная ежедневная работа по наведению порядка в городском хозяйстве, по улучшению качества жизни горожан; подготовка к зиме, северный завоз и все прочее, о чем говорит в беседе с тобой мудрый городской начальник.
– Ты серьезно?
– Вполне. Ведь так оно и есть на самом деле. Не согласен? А ты поразмысли и не спеши.
– Ну почему, звучит логично... Погоди, погоди... Ты что же, Вова, предлагаешь мне лягнуть в газете твоего друга Кротова? Все знал, молчал, а как приспичило – вылез в телевизор с обвинениями?
– Зачем так грубо? Можно сформулировать поэлегантнее.
– Хитришь, Володя. – Редактор газеты надул худые щеки и засопел. – Или я опять чего-то недопонимаю. Кротов тебе друг?
– Конечно.
– И ты его... сдаешь?
– Ни в коем случае.
– Ничего не понимаю, – вздохнул Шурик. – Объясни.
– Мы с тобой кого в мэры проталкиваем?
– Лично я – никого.
– Ладно, Шурик, хочешь изображать святую деву – продолжай, пока не надоест. Отвечаю сам на свой вопрос: Слесаренко. А не Кротова. Усек?
– И Кротов, значит... грудью на амбразуру?
– Угу, – сказал Лузгин.
– Ну хорошо, допустим... Но сам-то, сам! Тоже, выходит, знал и молчал?
– Почему молчал? Не лез на публику – это правильно, а что молчал... Хочешь получить копии запросов Слесаренко в окружную прокуратуру, в Счетную палату по поводу бюджетных денег? Они есть, я тебе передам.
– А ответы есть?
– Ответов нет. Поэтому он и не вякал раньше времени.
Романовский задумался, пожевал губами.
– Послушай, но это же совершенно другая картина...
– А я что тебе говорю? Чистый текст когда будет готов? Дашь посмотреть?
– Дам, конечно...
– Вот и ладно. Дерзай, Николаич!
Лузгин порылся в портфеле, достал и положил на стол два одинаковых листа бумаги с буквами и цифрами.
– Что такое? – спросил Романовский, поправляя очки.
– Договор.
– С кем договор?
– С тобой договор. На интервью с кандидатом. Со вчерашнего дня Слесаренко вполне официально ведет сбор подписей для регистрации в качестве кандидата. Теперь мы обязаны за все платить, иначе будут неприятности с избиркомом. Читай и подписывай.
Романовский наклонился и поводил носом над бумагой.
– Сумма большая, Володя. У нас таких гонораров не бывает. Это неприлично.
– У вас не бывает, у нас – бывает. Ты посмотри на бланк: всероссийский фонд, московская контора. Ты знаешь, какие в Москве гонорары? Там меньше чем за штуку баксов никто и ручки в руки не возьмет. Давай подписывай. Деньги со мной, получишь сразу.
– Так просто? – изумился Романовский.
– Давай, давай... Когда газета выйдет – обсчитаешь занятую площадь и выпишешь счет по рекламным расценкам: газете тоже денежки нужны. И вообще, в свете предстоящих выборов: издай-ка ты сегодня же приказ о повышении расценок на рекламу. Грядет путина, брат, грех будет не воспользоваться. Ты давно своим людям премию не выплачивал?
– Да я уже забыл, как она выглядит – премия...
– Хорошо она выглядит, Шурик.
Лысый и очкастый Романовский сопел, ерзал на стуле, вертел в пальцах ручку, тестировал штрих на каком-то огрызке бумаги.
– Счет я, конечно, выпишу, – сказал он наконец, – но договор подписывать не буду.
– Ну и хрен с ним, с договором, – сказал Лузгин. – Я тебе просто так деньги выдам, без росписи.
– Ты что, сдурел? – шепотом выкрикнул Шурик. – Как ты мог подумать, Вова!
– Ну, извини, – сказал Лузгин. – И в самом деле... Я ведь без умысла, старик... Ну что ты жмешься! Это же не взятка, это плата за труд. Ты работаешь – мы платим. Так везде.
– Я понимаю, – сказал Шурик. – С деньгами в самом деле плохо... Первое сентября на носу... Одно, другое... И как в прорву... И ведь не пью, не курю – куда все девается? И так пробуем, и так... Я уж не помню, когда себе что из одежды покупал. Год копим – все за лето улетает. А как иначе? Если месяц ребятишек на море не прогреть, они всю зиму болеют, здесь же климат, сам знаешь... Говорят, кислороду не хватает...
Лузгин достал из кармана конверт, двинул его по столу.
– Подписывай. Все правильно, Шурик. Подписывай.
– Но как я дома объясню?
– Кому?
– Жене! У нас... Откуда деньги, она спросит. У нас... Мы друг другу всегда...
– Ты договор внимательно читал? Что там написано? «Серия публикаций о социально-экономических проблемах...». Там есть хоть слово про выборы, про Слесаренко? И договор ведь не на день – до конца года. Если спросит покажи ей договор.
– Ты думаешь, поверит?
Деньгам – поверит. И спрячь конверт, чего он тут лежит...
Он представил себе, как вечером очкастый лысый Шурик, конфузясь и потея, вытащит на свет весоменький пакетик, как испугается жена – они всегда пугаются вначале, ненадолго, – потом до ночи в тесном убежище кухни будут прикидывать, тасовать и делить, и Романовский, постепенно напитываясь гордостью добытчика, кормильца, станет решать, соглашаться и спорить: это – да, это нет, подождет, а вот это – немедленно, я же сказал! – и с царапающей душу печальной теплотой Лузгин еще подумал о Шурике:, сделает ли он заначку, отложит ли немного на мужицкий черный день или отдаст жене все?
– Так, один экземпляр мне, другой – тебе. И не забудь после Нового года продекларировать доход и доплатить налоги: мы ведь граждане честные, не так ли? Честные и бедные...
Шурик принялся засовывать конверт в левый внутренний карман пиджака, но у него не получалось – мешали головки дрянных авторучек, коих графоман (в хорошем смысле) Романовский таскал с собой не меньше дюжины. Он чертыхнулся, засунул в правый и тут же одернул пиджак, будто поклажа его скособочила. Ну почему, спросил себя Лузгин, в этой долбаной жизни слова «честный» и «бедный» – всегда синонимы? Почему зарплата журналиста в этом обществе, да и в любом другом, всегда намного ниже порога искушения? Он вспомнил гаденькую шутку: «Честный журналист продается только один раз...».
– А знаешь, – сказал Лузгин, – не надо мне ни хрена показывать. Как напишешь, так и печатай. Некогда мне, дел по горло. Ну, бывай. Да, еще: не пропусти сегодня лялинский эфир, ну, про семейку Ивановых. Возможны разные сюрпризы.
– Ты что-то знаешь? – насторожился Романовский.
– Опять сюрпризы, опять хитрости?
– Все, я ушел, меня нет! – сказал Лузгин.
Надо было найти Серегу Кротова и обмозговать с ним вчерашние идеи Валерия Павловича. Нельзя сказать, что предложенный московским профессором столбовой тезис избирательной кампании явился Лузгину как откровение. Он и сам ощущал, что в народе растет недовольство особого сорта, знакомое по ранешней русской истории, да разве только русской? Всей мировой. И что тезис войдет в резонанс с настроением масс – в этом не было сомнений. Сам Лузгин открыл в себе недавно поразившую его способность «резонировать». Воспитанный в традициях советского интернационализма, готовый в детстве бить американцев, чтобы они не били бедных негров, читавший в юности Вальрафа об ужасах турецких гетто в ФРГ, готовый умереть с оружием в руках за худеньких вьетнамцев, наивных арабов и тех же печальных евреев Треблинки и Майданека, хотя потом они напали на арабов, а потом арабы напали на них, или наоборот, здесь он немного запутывался, – так вот, слегка разбогатев, поездив по миру и все увидев своими собственными глазами, испытав на самом себе обстоятельства дружбы народов, Лузгин вдруг понял, что он (как и большинство странствовавших параллельно с ним соотечественников) есть самый натуральный шовинист.
Ему не понравилась гигиеническая вежливость англичан, презрительное высокомерие французов, вороватое радушие итальянцев, арабское наглое попрошайничество, тупость немцев, цыганская крикливость турок в европейских строгих городах... Он осознал, чего Америка «добилась»: если белый нынче стукнет негра, то его посадят, а если негр ударит белого и белый извинится, то белому ничего не будет. И что худенькие вьетнамцы полагают себя самым первым народом среди прочих и величайшими воинами в мире, а кишащие индусы, которым всю жизнь помогали, строили им разные Бхилаи, отрывая от себя, – те и вовсе не считают русских за людей: так, северные варвары....
А тут еще в родных своих пределах, пусть и распавшихся формально на «самое настоящее Г», вечные братья-украинцы принялись поносить «москалей», из дружественного Казахстана поехали русские беженцы, потом Чечня, война и трупы, позор бессилия и безнаказанности, тысячи и тысячи погибших и сгнивших, зарытых в ямы, который год лежащих в ростовских вагонах-рефрижераторах, не нужных никому в родной стране; и Масхадов, колесящий по столицам, и дружный вой всемирной прессы по поводу пропавшей журналистки, и премия за мужество в плену у тех, чьим благородством восторгалась ранее; сто лет возни с ирландцами, взрывающими женщин и детей; закрытые глаза на бойню турок против курдов – мол, внутреннее дело; и моментальная готовность бомбить и рвать на части Югославию для горстки косовских бандитов; и марш национальной гвардии в Техас, где двадцать пять болванов рискнули вспомнить, что когда-то Техас был не американским... Какая, к черту, мировая справедливость? Какое, на хрен, мировое общественное мнение? Какой там друг Билл или Гельмут? Собачий цирк, маханье дирижерской палочкой... Ну, а внутри? Внутри своей страны? Татария с первейшим ханом своего обкома давно уже независимей Чечни, договорились без стрельбы: живите как хотите, но на выборах президента исправно голосуйте за того, кто вам все это разрешил! Теперь еще и область развалилась. Тюмень без Севера – столица деревень, вот и вернулась вековая поговорка.
И, как грибы, растут землячества, общины, требуют денег и зданий, представительства и там, и сям; профессора марксизма-ленинизма из туземцев взыскуют у Москвы национальной автономии; и все это под видом избавления от гнета, восстановления исторической справедливости, компенсации за русское имперское владычество. И бесконечное мелькание специфических фамилий в числе банкиров, скупщиков, министров. Лузгин читал, как Маяковский на дискуссии однажды Айхенвальда назвал Коганом. «Я не Коган», – сказал Айхенвальд. «Все вы Коганы», – ответил Маяковский. Лузгин не верил никогда, что нужно бить жидов, чтобы спасти Россию, бить никого не надо, это глупости и грех, но, ненавидя коммунизм как идеологию счастливого осмысленного рабства, он не мог не признать, что коммунисты отнюдь не из дурости ковали семь десятилетий понятие советского народа. Недаром же старинный американский президент – Лузгин не помнил кто: Линкольн или Вашингтон, – когда делили территорию на штаты, сказал: «По национальному признаку? Только через мой труп!». А ведь в Америке народов было понамешано не меньше, чем в России, чего уж про индейцев поминать.
Не так давно в каком-то университетском споре, когда плели, плели и приплели национальный все-таки вопрос, Лузгин заметил: нормальный русский человек никогда не заявит: «Я русский», пока рядом с ним не станут говорить: «Я еврей, я чечен, я татарин!». Но рядом говорили все громче и назойливей, и вот приехал московский профессор, и Лузгин срезонировал внутренне, а словами ругался и спорил, и вертелся, как девка под натиском, и понимал это, и зли; с я на себя.
Серегу Кротова не нашел в слесаренковском кабинете. Тот сидел за столом без пиджака, обложенный бумагами, с сигаретой в зубах и кучей окурков в пепельнице.
Виксаныч приедет, он тебе задаст, – сказал Лузгин.
– Весь кабинет ему провоняешь, Серега.
Перебьется, – отмахнулся Кротов. – На войне как на войне.
– Соляник был?
– А то как же! С утра заявился расставлять акценты. Завтра проводит экстренное заседание Думы, приглашает меня, чтобы выступил, ответил на вопросы депутатов.
– Приглашает или вызывает?
– Ну-ну, меня вызовешь, а как же! Нашли пацана... Тебе чего? Говори сразу, через полчаса ко мне КРУшники приходят, а я еще не разобрался до конца.
– С Гаджиевым договор подписал?
– О продаже завода? Еще вчера подписал, сегодня деньги должны получить, начнем выплачивать долги бюджетникам.
– А что Моржухин? Неужели сдался? Никогда не поверю. Такую кормушку теряет!
– Не помрет твой Моржухин. Я за ним немецкую кредитно-бартерную оставил.
– Ты что, Серега! – изумленно воскликнул Лузгин. – Вы же с Виксанычем хотели гнать его в три шеи с немецкой линии! Он же ворюга и махинатор...
– Не шуми, – поморщился Кротов. – Уж больно ты грозен, как я погляжу. Ну, поставим мы нового... Во-первых, кого? Потом учить, вводить в проблемы... А как научится, начнет мышковать... Зачем? Моржухина мы припугнули, штаны который день отстирывает, теперь мы его пальчиком поманим – прибежит на полусогнутых и служить будет, как Бобик. Создадим ему дирекцию – официально, со штатом и планом работы; пусть вкалывает, пусть трясет немчуру.
– И все дочки и племяннички с женами спокойно перекочуют из заводской конторы в новую дирекцию?
– Да хрен с ними, пусть кормятся. Не в лесу ведь живем, как без этого. По сравнению с теми убытками, которые город имел от моржухинской газировки, весь фонд зарплаты у дирекции – плюнуть и растереть. Так что ты, дружище, рожу не криви, мы денежки считать умеем.
А я думал, ты всерьез открылся, – сказал Лузгин. – Вчера в эфире ты выглядел бойцовски.
– Ты, Володечка, так и не понял, что такое аппарат,
– Кротов поглядел на Лузгина с усталым сожалением. Если аппарат объединится, он провалит на выборах любого кандидата, будь даже у него такие имиджмейкеры, как господин Лузгин. За сутки до выборов отключат воду под видом аварии – и привет. Или снюхаются со связистами, и те вырубят трансляцию московских телеканалов сколько город денежек связистам задолжал? Кто виноват? Власть виновата, а кто нынче власть? То-то, братец... Чиновника в угол загонять нельзя! Бить его можно и нужно, чтоб служба медом не казалась, но в угол загонять опасно – загрызет. Каждый отдельный Бобик – собака маленькая, но стаей они и слона до костей закусают. А теперь выкладывай, зачем пожаловал.
– Ты наш вчерашний разговор с Валерием Павловичем не слышал?
– Так, с пятого на десятое. Что-то о патриотизме, как я понял.
– Не что-то, а главный предвыборный лозунг. И даже не лозунг – платформа. Обещает поддержку на всех уровнях: Госдума, правительство Москвы, часть Совета Федерации, «афганцы», генерал Лебедь... Короче: русские, объединяйтесь!
– Против кого?
– Хороший вопрос... Против всех остальных.
– Да ну, это несерьезно.
– В том-то и дело, что как раз наоборот: очень серьезно.
– Ты еще баркашовцев сюда приплети или Эдика Лимонова.
– Послушай, Вовян, не надо упрощать. Политический выбор сегодня каков? Или демократы, или коммунисты. Первые умудрились обгадить и себя, и идею; вторые... и говорить нечего. Остается так называемый третий путь: русский патриотизм, русская национальная идея.
– Другими словами – великорусский шовинизм. И что это за идея? Ты можешь сформулировать ее в двух-трех понятных фразах?
– Я же просил тебя: не надо упрощать...
– Ладно, вечером дотолкуем, – Кротов сверился с часами. – Приходи ко мне часов в восемь, раньше я не выкручусь.
– Слесаренко звонил?
– Звонил.
– Ну и что?
– Лучше не спрашивай... Да, Вовян, ты подумай на досуге, как бы нам через прессу Соляника немножечко... покрутить. Что это за должность такая – председатель Думы, и вообще, нужны ли нам «освобожденные» депутаты, не отрываются ли они от народа, бросив работу и сев на казенные харчи? Не пересмотреть ли в целом структуру местного самоуправления?
– Подумать можно, но мне не нравится, рога торчат. Люди ведь поймут: копаем под Соляника, потому что он против мэрии пошел.
– Вот ты и придумай, как «рога» убрать. Это же твоя работа, Вова. Ты же у нас ведущий специалист по охмурению общественности. Давай топай, увидимся вечером. А мы здесь пока порулим, мы здесь такого нарулим... Не страшно, Вовка? – неожиданно спросил Кротов. – Хочешь, дам тебе охранника? Здесь ребята бородатого остались, дел пока особых нет, походит кто-нибудь с тобой – так, для страховки.
– Нет, эго глупо, – сказал Лузгин. – Что же он, везде со мной таскаться будет, людей пугать? Больше вреда, чем пользы.
– Как знаешь, – пожал плечами Кротов. – Но ты это, вообще... поосторожнее. И пьяным по ночам по городу не бегай.
– А кто бегает?
– Ты бегаешь. Уж лучше... там ночуй, Вовян.
– Где – там?
– Да брось ты... Мне же докладывают.
– Ты сюда не суйся, понял? – Лузгин свирепо глянул на товарища и пошел прочь из кабинета. «Отслеживают, блин», – ругательски подумал он, шагая по ковру приемной, и увидел то, чего не заметил на входе: в углу, за створкой приоткрытой двери – так, чтобы не было видно из коридора, – сидел в пятнистой форме автоматчик с оружием на широко расставленных коленях.
Он перекусил внизу в столовке и снова подался на студию, где два часа мешал монтировать сюжеты к вечернему эфиру; в аппаратную трижды захаживал мрачный
Халилов, молча оглядывал всех и исчезал за дверью; Анна нервничала и в конце концов вытолкала Лузгина вон. Договорились, что он придет попозже, часам к десяти, и принесет чего-нибудь из гостиничной кухни; он обещал не пить и не опаздывать.
В гостинице он выпил коньяку – ничего другого в холодильнике и баре не осталось, надо было звякнуть в службу сервиса, пускай затарят – и улегся на диван читать оставленные Юрием Дмитриевичем документы о таинственной московской организации под названием «Система». Читал он с интересом, документы были круче детектива, а потому он несказанно удивился, когда проснулся в полумраке, весь усеянный секретными листами, половина документов на ковре – измял, пока ворочался во сне, и уже восемь без пяти, сейчас начнется передача! Он кое-как собрал бумаги, впихал их ворохом в портфель, хлебнул воды из горлышка графина и побежал по коридору в номер к Кротову.
– Серега, врубай шестой канал! – крикнул он, вламываясь в гостиную. Кротов полулежал в кресле, прикрыв глаза ладонью, и лишь махнул рукой на столик у дивана, где чернел пенальчик «панасониковской» дистанционки.
Уже шли первые титры, на экране появилась Анна, улыбалась и шевелила губами.
– Где звук? – вскричал Лузгин. – Где долбаный звук на этом долбаном пульте?
– Не ори, – сказал Кротов. – И так башка трещит.
– Ты давай просыпайся и смотри. В конце передачи увидишь хорошенький фокус.
Кротов вздохнул со стоном и убрал руку со лба. Как только Анна объявила о задуманном, Кротов скептически хмыкнул, но уселся прямее и уже не отрывался от экрана.
Телефон на столе у ведущей зазвонил почти сразу, как только титром сообщили номер, и звонил уже без перерыва; горожане выражали сочувствие несчастным Ивановым, ругали Ельцина и демократов, возмущались ценами на рынке и задержками зарплаты; звук шел в эфир, и Лузгин ждал не без озорства, когда же кто-нибудь не выдержит и сматерится – вот будет завтра Анне на орехи!
– А почему квартир никто не предлагает? – издевательски поинтересовался Кротов, когда время эфира покатилось к концу. – Или есть заготовка?
– Не спеши, – сказал Лузгин. – Все может быть...
Из-за кадра Анне подали записку, она прочла ее и поглядела в камеру счастливыми глазами. «Хотя бы раз, подумал Лузгин, – если бы один-единственный раз она т а к посмотрела на меня».
– У нас сюрприз, – произнесла Анна дрогнувшим голосом. – К нам на передачу прибыл гость. Сейчас вы его увидите. Подайте стул, пожалуйста.
– Рояль в кустах? – ухмыльнулся Кротов. – Твоя идея?
– Ты смотри, смотри...
Рядом с Анной появился стул, и спустя мгновение в кадр вдвинулась и там уселась фигура в джинсах и вязаной кофте на пуговицах, в рубашке с отложным воротником.
– Что происходит? – сказал Кротов.
– Представляю вам, уважаемые телезрители, – прощебетала Анна, улыбаясь, – председателя нашей городской Думы...
– Не надо меня представлять, – мягко перебил ее Соляник, – позвольте лучше извиниться за появление в студии в таком, как бы сказать, домашнем виде. Мы всей семьей смотрели вашу передачу, Анна Вячеславовна, и я должен сказать откровенно...
Минуты три Соляник распинался на темы социальной справедливости, измусолил Анну комплиментами – так захватило, даже не поужинал, – поведал о заседании жилищной комиссии, состоявшемся ныне под вечер: о принятом решении хотели проинформировать завтра, в торжественной обстановке, но передача так разбередила душу...