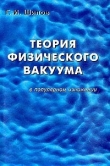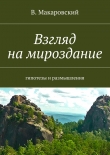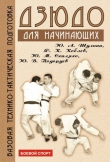Текст книги "Релятивистская механика: новый взгляд по-старому"
Автор книги: Виктор Ткачёв
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Добавим о неподвижности пространства, что совсем неподвижно оно лишь именно как вселенское целое, но всё ж и в локалях бывает почти неподвижным − в непосредственной близи чёрных дыр, ежели нет в том районе никаких материальных объектов, и если в поисках его движенья иметь в виду только три обычные миромеры. Потому что "в пределы" этих трёх из-за чёрной дыры почти не подпускается нового (дополнительного) пространства − со "стороны" четвёртой. Тем самым нечему – в локали того района – составлять и "течение" пространства.
Вот так. И теперь, в поконченности с первым поспешным трактомоментом Эйнштейна, ничто не мешает нам до конца разобраться со вторым. С равноправностью инерциальных систем отсчёта. Что ж, математически они, пока преобразованием движения берётся именно преобразование Лоренца, а не что-то более продвинутое, в самом деле равноправны, но физически − нет. Для человеческого восприятия, в силу способности его развивать мироявленческие иллюзии, они тоже равноправны. В том смысле, что находясь в одной, вы способны воспринимать другую в одинаковости, как первую при находимости в той другой. Например, довольно легко перестроить восприятие, находясь на задней площадке последнего вагона плавно идущего поезда: сам себе зрительно предстаёшь неподвижным, а ж/д полотно видишь вытекающим из-под твоих ног и убегающим в направлении горизонта. Налицо равноправность для тебя систем отсчёта "поезд" и "рельсы", но это равноправность деланная. Иначе сказать, иллюзорная равноправность. Движение рельсов − зрительная иллюзия, по-настоящему движется только поезд. И благодаря тому, что сам ты входишь в тогдашнюю реальность − ну, принадлежишь ей, со своим таким "перебрасывающимся" восприятием, − она способна делать на тебя поправку − как на обладателя такого восприятия (ну, попросту учитывает факт его негодности, чтоб не "покупаться" на результаты!), чем системы отсчёта "рельсы" − "поезд" получается ей держать неравноправными. Ну, в смысле, ты сам на себя можешь сделать подобную поправку, став на точку зрения такой реальности.
Другими словами, в относительной скорости всякого тела надо различать мнимую и немнимую компоненты. Когда скоростные векторы двух тел, относительную скорость которых рассматриваем, направлены в одну сторону, одно из тел имеет целиком мнимую относительную скорость, другое − целиком немнимую. Целиком мнима относительная скорость у того из них, которое с точки зрения пространства как целого имеет меньшую скорость. И прямое преобразование Лоренца обязано осуществляться от тела с целиком мнимой относительной скоростью − к телу с целиком немнимой. То есть, с точки зрения первого время у второго действительно замедляется, а размеры по линии, совпадающей с вектором относительной скорости, сокращаются. С точки же зрения второго − того же у первого быть не должно: время должно у него ускоряться, а размеры по линии вектора относительной скорости − увеличиваться. То есть − обратное преобразование Лоренца не должно быть тождественно прямому. К этому его призывает факт налички неподвижной вселенской пространственной целостности − как представителя эфира. Представителя его нам, нуждающимся в таком уплощающем представительстве − из-за своей пребываемости в физической форме бытия.
Ну а когда скоростные векторы тел направлены в противоположные стороны, относительная скорость каждого из них имеет мнимую компоненту, равную абсолютной скорости другого тела. И прямое преобразование движения, тем самым, должно тут быть преобразованием от системы отсчёта в лице тела, мнимая компонента в относительной скорости которого больше, к телу, у которого она меньше. Правда, оно тут, так сказать, лишь преимущественно прямое. Потому что обратное тоже будет прямым, только что несколько менее выраженным в данном статусе. Как это понимать? А так, что эфир в этом случае держит тела − в их относительном движении − в равном качестве. Всё в силу того, что перемещаемость каждого тела пары относительно пространства тут выступает его удаляемостью от другого тела пары. С той лишь разницей, что у одного такая удаляемость несколько более выражена, чем у другого. Это в отличие от случая одностороннего движения пары тел, в котором у одного из них такой удаляемости нет вообще. В отражение сказанного и преобразование движения от первого тела ко второму (как собственных систем отсчёта) проходит в том же качестве, что преобразование от второго к первому. С точки зрения одного − время замедляется у другого, как с точки зрения того другого оно замедляется у первого. Вот только степень замедления − разная. А именно: если относительная скорость, установившаяся меж телами, первому из них в лице себя являет бóльшую мнимую компоненту, нежели второму, то с точки зрения первого − время у второго замедляется больше, нежели с точки зрения того второго оно замедляется у первого. И на столько больше, на сколько мнимая компонента относительной скорости одного больше мнимой компоненты той же по величине относительной скорости другого. Чем имеем, что если тела разбегаются в противоположные стороны с одинаковыми абсолютными скоростями, то отношение их мнимых скоростных компонент равно единице, и тела существуют в одинаковом временнóм режиме. С нáшей точки зрения на них обоих − фактически как точки зрения сразу на все наличные во Вселенной тела. Такая точка зрения вынуждена быть приуроченной к пространству как вселенскому целому, а потому она − абсолютная точка зрения.
Плюс такая ещё грань: в инерционном движении имея субсветовую абсолютную скорость, тело может отделить от себя половину, послав её по ходу того движения относительно себя разгоняться. Вопрос: сможет ли та разогнаться до поимения половинами субсветовой относительной скорости? По СТО, так для отделившейся половины это обыкновенный разгон с нуля, так что никакого вопроса просто не возникает. На наш же взгляд, вопрос стоит, причём как нетривиальный! Вообще оставляю его читателям, сам же отвечу в том духе, что вроде должна смочь. Ведь разгоняться относительно движущейся оставшейся половины − не одно и то же, что относительно неподвижной пространственной целостности. Относительно последней отделившаяся половина разгоняется плохо (поскольку и так уже хорошо разогналась − под самый предел абсолютных скоростей, что в лице скорости света), но это не мешает тому разгону быть вполне хорошим (ну, выраженным) разгоном к оставшейся половине − в силу её именно движущести, весьма выраженной, из-за которой она есть эфир возмущённого состояния, для себя аннулирующий разогнавшесть отделившейся половины к эфиру в состоянии пространства. Направленная аннуляция! Другими словами, половины в своём друг относительно друга движении являют как бы эфирную струю, определяющуюся сама в себе, независимо от остального эфира.
То есть, что всё это значит? А яркая демонстрация иллюзорности как неизбывного принципа при относительной скорости: сидя на ушедшей половине, вроде хорошо разгоняешься − видимым образом, используя для получения той видимости остающуюся половину, но на самом деле (ну, образом как раз невидимым!) − разгоняешься едва-едва, в смысле добавляемости скорости как плода разгона. Невидимая настоящесть против иллюзорности глаз? Трудно сказать! Такие уж нетривиальные штучки вытворяет эфир с нами (ну, в смысле, с самим собой, поскольку в телесном отношении все мы − как раз эфир, только что возмущённый), и с этим надо как-то примиряться.
Мыслим, кстати, и случай, противоположный разобранному. С тела, разогнавшегося от нулевой до субсветовой скорости относительно пространства, стартует другое тело – в противном разгону первого направлении. Начав разгоняться и тем приобретя относительно первого субсветовую скорость, оно оказывается с нулевой относительно пространства, как должно быть ясно без особых пояснений. И если разгон свой тот продолжит, начнёт опять иметь скорость относительно пространства – всё бóльшую, вплоть до субсветовой. Но относительно первого тела то не будет "двойная суперсветовая" скорость, как ясно, – то есть набирая скорость относительно пространства, второе тело в лице того совсем не так выражено набирает скорость относительно первого тела: в этой относительности у него скорости и так уже чуть не "под завязку", и тем самым – просто некуда добирать, что называется.
Рассудить же наши с Эйнштейном подходы сможет следующий эксперимент. Стартовав с Земли, корабль относительно неё разгоняется до субсветовой скорости, и далее выключает двигатели. Затем с него стартует космошлюпка − в обратном направлении, то есть в направлении Земли, и достигает относительно него той же субсветовой скорости, какую он достиг относительно Земли. Ясно, что в скоростном отношении к пространству она тогда в том же положении, что и Земля. Выключив двигатели и побыв так неделю − по своим шлюпочным часам, разгоняется опять в обратном направлении − вдогонку, то есть, за кораблём, и достигает скорости, с каковою от него отваливала. То есть сравнивается с ним в скоростном отношении, далее выключая двигатели. Благодаря чему меж ней и им устанавливается некое неизменное расстояние. И сеанс радиосвязи с кораблём обнаруживает, что часы шлюпки ушли вперёд − сравнительно с его часами. Ну, должен такое обнаружить − согласно нашим воззрениям. Поскольку скорость корабля относительно неподвижного пространства была больше, нежели у шлюпки (целую неделю). Согласно же СТО − часы шлюпки должны были отстать: онá ведь разгонялась относительно корабля, а затем возвращалась к его скоростному состоянию, оба раза испытывая ускорения. Точно как улетавший с Земли близнец − по отношению к остававшемуся на ней, а ведь именно ему − в этом классическом для себя примере − СТО вменяет прилетать моложе. Вот эксперимент и рассудит! Это в том, правда, случае, ежели Земля, в незаметности того, случайно не имеет субсветовой скорости − относительно всё того же неподвижного пространства. Тогда, чтоб всё было по написанному, корабль должен был бы стартовать по направлению вектора такой скорости Земли. А если нечаянно стартовал в противоположном, то результаты окажутся обратными: уйдут вперёд корабельные часы − по отношению к шлюпочным. Корабль ведь, обретая субсветовую скорость относительно Земли, тем незаметно оказывается на близкой к нулю абсолютной скорости, и возвращение его шлюпки к старому скоростному состоянию означало пребывание её на большей абсолютной скорости, нежели он. Но не беда, взамен реализуется другой эффект, не совпадающий с предсказаниями СТО: по возвращении на Землю корабль со шлюпкой обнаружат, что их часы ушли вперёд сравнительно с земными: у корабля больше, у шлюпки меньше (но всё-таки тоже). А по СТО, так уйти вперёд должны были часы на Земле. Если же корабль стартует по направлению вектора субсветовой скорости Земли, то и по СТО, и по нашему он со шлюпкой должны вернуться менее постаревшими, чем Земля.
Итак, две и.с.о. в имеемости относительной скорости. Согласно СТО, описанности ими друг друга взаимообратны и равноправны. Ну, то есть, выстроенность одною своей относительности к другой − полностью равноправна с такой же по виду выстроенности той другою своей относительности к первой. Согласно же теории, опирающейся на "новый эфир", взаимоописанности и.с.о., непокоящихся друг относительно друга, как раз неравноправны. Справедливость чего мы и пытались всячески продемонстрировать.
И под занавес этого блока кратко всё резюмируем − в неупотреблявшихся доселе смыслоформах, что полезно. Преобразование движения, дающее релятивистские эффекты, называется преобразованием Лоренца, а не преобразованием Эйнштейна, то есть последний лишь подсоединился: заново вывел, исходя из своих вводных, да физически страктовал полученные математические выражения. В двух моментах − поспешно. Первый момент поспешной физической трактовки − абсолютизация относительности одновременности. Второй же то, что можно назвать полной обратимостью движения и.с.о. друг относительно друга. Математически полная взаимоперерасчётность и.с.о. в преобразовании Лоренца − не имеет физического наполнения, вопреки Эйнштейну как автору физической истолкованности тех преобразований. Сказать иначе, математическая взаимозаменность инерциальных систем отсчёта, движущихся друг относительно друга, когда каждая с равным основанием может считаться покоящейся, а вторая "берёт на себя" всю "совместно изготовляемую" изменяемость расстояния между ними, − такое в ранге физического принципа есть ложность, игнорирующая существование эфира. Существование его в ипостаси целостного пространства, прежде всего.
Принцип относительности допустимо понимать лишь как одинаковость формы физических законов в инерциальных системах отсчёта, имеющих друг к другу не равную нулю относительную скорость, отчего физические эксперименты, проводимые в пределах любой из таких систем, выступают обращаемостью к одному и тому же (ну, к той единой форме физ. законов), а потому и не могут сказать, в какой из тех систем ты находишься. Вот и всё, а не в той степени расширительности, какую незаметно взял Эйнштейн: что происходящее с одной системой с точки зрения другой − есть то же самое, что происходящее с той другой с точки зрения уже первой. Нет, оно-то так, но в том-то и фишка, что точка зрения одной из систем тут неизбежно ложна, то бишь та система пребывает в иллюзивности касательно своей товарки! Одинаковость точек зрения у систем лишь на самих себя − вот что есть принцип относительности по-настоящему. А вовсе не одинаковость точек зрения на других. У каждой на каждую из прочих − на том основании, что они тоже, мол, инерциальны, как и она сама. Ну и добавить, что точка зрения системы на саму себя − это, считай, точка зрения её на физические законы, как неизменность для всех систем в ней подвизующиеся. Отчего и получается, что все и.с.о. видят в себе одно и то же.
И в конце этих разговоров о принципе относительности уместным − из-за наговоренного − начинает выглядеть расширенный принцип относительности: распространяющиеся на мат. тела законы природы − в своей форме независимы и от параметров неравномерного прямолинейного движения тел, а не только от выраженности равномерного прямолинейного, − другое дело, что когда (и если) их постигаешь из положения неравномерного, то выйти на них (как продекларированную инвариантность) на ступень труднее.
Всё наговоренное также дало понять, что СТО – внутренне противоречивая теория. В порядке неё что? Постулатом вводят инвариантность скорости света от систем отсчёта (почему-то постулатом – при инвариантности той как экспериментальном факте от Майкельмона – Морли!), и хоть через постулат, но её имея, в отталкиваемости от её факта вторично выводят преобразование Лоренца (которое сам Лоренц до того вывел "под другим соусом", а именно – в задавшести условием, чтоб уравнения электромагнитной волны сохраняли свой вид при переходе в любую возможную ИСО). Выводят это преобразование, чтоб затем страктовать его как абсолютизированность относительности, исключающую абсолютную систему отсчёта для мира, меж тем молчаливо (ну, невыговариваемо!) имея свет именно в качестве такой системы, то есть – противореча самим себе.
Многопосылочные построения детей – в неизменности внутренне противоречивы. Не умеют просто дети ещё сводить концы с концами – при умствовании врослого уровня. И коль скоро СТО как раз внутренне противоречива – стала такой, не сумев свести концы с концами в вопросе соотносимости инерциальных систем отсчёта, – то мы и отмечали в своё время, что она – с элементами инфантильности.
И далее! Все внутренне противоречивые теории – лишь частично правильны, если можно так сказать. То есть, в чём-то приводят к верным следствиям, а в чём-то к неверным. Ну, это просто в логистике есть та непреложная смыслопосылка, что у внутренне противоречивых построений среди верных следствий обязаны возникать и неверные, а также следствия, приводящие к парадоксам. И в случае СТО – неверно следственное утверждение относительности одновременности, а предвосхищаемый логистикой парадокс – это парадокс близнецов.
Давно, по выходе из юности во взрослость, мне пришла в голову следующая смыслоформула: Земля притягивает предметы потому, что течёт время.Тогда эта формула казалась мне чем-то, у чего нет дна. Теперь же, в опоре на уже наговоренное, можем подступить к ней в поисках того дна.
В том наговоренном прежде прочего напрашивается вопрос: а какое же конкретно пространственное изменение не замечаем, чтоб незамечаемость та оборачивалась характерным ощущением "текущести" при субъективном феномене времени? Можно предполагать, то как раз прирост пространства, являемый расширительностью Вселенной (ну, и являющий ту расширительность − то две стороны одной медали). И поскольку сей прирост обусловливает планетарную гравитацию, то и получается та наша смыслоформула. Вот так.
Прирост пространства − не единственный, но главный поставщик ощущенческого фантома "бег времени". Пространственные изменения вокруг нас − неподвижных! − непрерывно происходят, прямоощущенчески замечать мы их подспудно отказываемся (ничего не делаем ведь, чтоб психораспространяться по четвёртой миромере!), оттого постоянно имеем принудительную непрямую ощущенческозамеченность, предстающую тем пресловутым временны́м "бегом".
Итак, главный, но не единственный поставщик. Ибо прирост пространства, ежели брать в предельной непосредственности, связан только с четвёртой миромерой, тогда как вообще − мир бесконечномерен. И за счёт каждой из этих мер, не считая первых уже четырёх, что-то там касательно нас тоже происходит − нами, естественно, замечаемое уж никак не более, чем пространствоприрастаемость со "стороны" четвёртой меры. Происходит, тем внося свою лепту в общий ощущенческий фантом, владеющий нами. С тем, однако, что "парциальное давление" каждой следующей квазипространственной меры − меньше в этом фантоме, чем предыдущей, с асимптотическим приближением к нулю по возрастании числа берущихся мер до бесконечности. Ну, в смысле, лепта в общем ощущенческом фантоме от квазипространственной мерности всё большего номера − всё меньше. Со сходящестью на нет.
Можно также сказать, что пространство вообще не имеет никакой мерности. Это и его бесконечномерность − просто "две стороны одной медали". Заставляет его быть мерным наша психосила. Которая ведь вполне может быть и не пущена в ход: тогда-то оно и не будет иметь для вас ни одной меры (а тем фактически и существовать для вас не будет, как таковое лишь маяча в качестве голой возможности). Будь же ваша психосила бесконечно велика, и вся пущена в ход на стезе мерностного разворота мира (ну, в смысле, на проявляемость вами себе пространства − "изготовлением" его мерностей: сначала первых трёх, обычных, а затем последующих квазипространственных), так мир явился бы вам бесконечномерным.
Итак, заставляет мир быть мерным человеческая психика. Прежде всего ваша − когда дело касается именно вас, но и психика всех (затем уже, неким подпирающим к первому фоном). В ориентации же на свою психику (в частности, на её состояние) человек и определяет, сколькомерным быть миру, в принципе у него уже "полезшему в мерность". Психосилы низших животных хватает, чтоб держать мир лишь в одной мерности. Ну, иметь его ухваченным лишь одною пространственною мерою. Такова, например, улитка. Психосилы животных высших − хватает на ухваченность двумя мерами. Этологические опыты это вполне подтверждают: волк, например, не способен взять в толк, куда девается предмет, когда его кладут в непрозрачный стакан, и пытается искать тот предмет за стаканом; с точки зрения волка тот предмет, надо полагать, улетучивается из пространства. Волк так же не допирает, что заходит в помещение: для него такой заход − лишь приход к нему некоего хитродейственного заворота всё того же уличного "интерьера". Ну а человеческой психосилы хватает на восприятийное награждение вообще "ни мерного, ни немерного" мира аж тремя пространственными мерами. Или скажем так: психосилы той хватает на восприятийное оформление пространства аж в трёх мерах. На восприятийное держание его тринаправленным.
Имелась в виду обычночеловеческая психосила. Ибо у выдающихся людей её хватает на организацию "восприятийно превращающегося в пространство нечто" в четыре меры. То же и у наркоманов − иногда и некоторых из тех, что принимают психоделики типа ЛСД: при удачном раскладе наркотик побуждает такого человека перераспределять свою психосилу так, что её хватает потянуть и четвёртую пространственную меру. Пусть в ущерб важным жизненным функциям. Это, конечно, не то, что срабатываемость добавочной психосилы выдающихся людей, но всё-таки. В общем, куда уж дальше в демонстрацию нашей декларации, что нет науки-физики, а вынужденно есть лишь наука-психофизика!..
Ну и то наконец, что всю бесконечность пространственной мерности охватывает только бог. А для людей всегда будут оставаться какие-то "в прямом отношении пока неощущаемые" пространственные (ну, квазипространственные) процессы, тем самым оборачивающиеся в "бегущее время". Но всё-таки, чем больше психосилы ты бросаешь на прямое ощущенческое различение пространственно многомерных миропроисходящестей, тем меньше подвержен ощущенческому фантому такового "бега".
Специально работая с четвёртой (по привычке вроде как пространственной) мерой − на предмет её развития для себя в видимом мире, ты заодно неспециально "останавливаешь время". А можно приостанавливать его специально − в своей субъективистике, − тогда четвёртая "пространственная" мера приходит к тебе неспециально. То есть субъективная прекращаемость "бега" у времени и мерностная расширительность пространства − две стороны одной медали, не бывающие друг без друга. Медаль к тебе может быть повёрнута каждый раз только одной стороной, определяя ею текущую психометодику подхода, но не забывать при том, что есть и противоположная сторона. И с любой стороны подхода при успехе получается нечто такое, что захватывает дух, можете мне поверить. Однако тут надо чётко понимать: субъективно остановить время − частично возможно, длительность же мира (ну, непрерывную его для нас длящесть) нисколько прервать для себя нам нéвозможно.
Почему длительность у вещества растягивается с увеличением его скорости в пространстве − как довещественной возмущённости эфира? Потому что длительность − атрибут вещества как полновозмущённости эфира, возникающий вместе с веществом и вместе с ним исчезающий. Увеличивая же скорость "относительно" эфира, вещество состоянчески становится ближе к нему. Ну, то есть, увеличиваясь, как некая квазиструя, в скорости относительно "общего количества" себя, эфир как вещество (которое в любом поступательном своём движении и есть как раз упомянутая "струя") всё больше как бы вмазывается в себя обратно. Становится ближе к состоянию влитости в себя обратно, то бишь. А значит − к своему исчезновению как качества самоотторгательности, в демонстрацию чего нам и длительности при нём остаётся меньше. Через явление растягиваемости её у него для нас, когда на "единицу" нашей приходятся лишь доли единицы его. В привычноречьи это называем замедлившестью времени того вещества как тела.
Сказать иначе, с увеличением скорости вещества в эфире − встроенность его в последний поступательно меняется: выделенность из него становится всё менее выраженной, где на рубеже скорости света маячит полная потеря выделенности (потеря, по крайней мере, до уровня превращаемости в физический вакуум как субвещество). Световой поступательной скорости элементарной частицы соответствует критическая угловая скорость её "вращаемости в самой себе": то угловая скорость той величины, которою частица себя уничтожает, как эфироворот достигнув срывного рубежа. Уничтожает, как таковая отдаваясь тому, из чего вышла.
Но вернёмся к общему состоянию вопроса длительности. В философском отношении тут работает следующее. Создав пространство, невозможно не создать время − как длительность его, того пространства. Длительность − дериват его возникаемости, равно как и возникаемость (ну, наличка) − продукт срабатывания длительности. Взаимоатрибутика, что на ступень сильнее, нежели философское статус-кво своеобразной анизотропии, когда одно является атрибутом другого при невозможности обратного. Итак, взаимоатрибутика: начав творение мира не с пространства, а с времени, невозможно параллельно не создавать пространства, ибо не может быть длительности без того, чтó длится.
Повторяемся, из-за важности. В общем длительность, как атрибут материи, возникает и наличествует в слитности с протяжённостью – как другим атрибутом. А далее, в порядке этой их налички, длительность проходит базовой составляющей огульного феномена времени, владеющего нами, протяжённость же организуется в пространство, бесконечно надставляющееся для нас в своей мерности. Вот и всё.
Можно сказать, что длительность есть выделившееся существование пространства. Ну, существование его во взятости отдельно от него (как того нечто, что существует), насколько такое вообще допустимо как акция. Само по себе существование чего-то, да в берущести без того чего-то, − этакая вот акция! И когда в качестве такого "чего-то" выступает пространство (с веществом как своей "существованческой усугубившестью"), то самим по себе его существование и оказывается длительностью мира.
Пространство, не ощуренное вами ни в одной мере, длительность имеет, но непроявленную, а тем самым − ощущенчески является вам целиком в виде времени (ну, временнóго фантома). Для предстатия с проявленной длительностью ему у вас необходима хотя бы одна мера: тогда только в феномене (он же и фантом!) времени затравочно оказываетесь при прямой (ну, некосвенной) ощущенческой выйденности на его, времени, конструктивную суть, его "ядро" в лице длительности (потому что обрели то, чему есть длиться).
Так что если нет для вас ни одной меры у пространства, то имеющаяся у него длительность присутствует у вас временны́м сплошняком. Ну, в виде сплошного времени − как тотального иллюзивного феномена. То бишь время есть один из двух способов нашей обращаемости с длительностью пространства, а именно непроявленная − нами себе − прилагаемость её к пространству, наличная из-за нашего игнорирования пространственной меровыраженности. Второй же способ − как раз проявляемая нами прилагаемость её к пространству. У существ в их обычном состоянии означенная непроявленность частична. Например у современных людей, в их подавляющей массе, имеется лишь непроявленность, что из-за психоневзятости большей, нежели трёхсоставная, пространственной меровыраженности. И субъективно останавливать время − означает допроявлять себе длительность вещества и пространства. Реализовал такую остановку − получаешь квазизастывший мир. Своим присутствием знаменующий некоторую добравшесть твою прямого контакта с длительностью вещества-пространства. "Бесплатным" приложением у чего проходит твоя непривычно-большая меропроницаемость мира. Ну, наличка для тебя в материальном мире некой квазипространственности, органически дополняющей психопривычную пространственность-трёхмерность. Офигенная штука: восприятийно повисаешь (как бы вместе с привычным пространством!) над некой невообразимой бездной, не имеющей дна (потому что она как бы всюду!). И так и висишь, не проваливаясь.
Мир это четырёхмерное «эфирово яблоко», кожура которого есть привычное нам трёхмерное пространство с вкрапленностями вещества. Привычная – повторяю – наша явь из трёхмерного вакуумного пространства и вещества – лишь кожура такого «яблока»! Охватывает его аналогично тому, как двумерная – если не считать её малой толщины – зелёная кожурка охватывает обычное яблоко как трёхмерный объект.
То есть всё замешано на той общей посылке, что чистый эфир возмущается, тем оборачиваясь нам вакуумным пространством. В смысле оборачиваемости некой начальной материей – в лице вакуума, организованного в пространство как воплощённую трёхмерность. Довозмущаясь же из этой вакуумной стадии, эфир оборачивается веществом – то есть материей, вполне уже оформившейся как таковая.
Таким образом эфирный супершар, возмущаясь по своей квазипериферии, одевает себя в "оболочку" из трёхмерного вакуумного пространства и вещества. Вот вам и "яблоко" с "кожурой"!
Почему трёхмерно пространство? Потому что треугольник фигура жёсткая, единственно из всех!
Вообще-то вселенское "яблоко" бесконечномерно, а не четырёхмерное это "яблоко", но из всей этой бесконечности наиболее непосредственно мы имеем дело с четвёртой мерой в лице эфира. Она нам как бы представительствует остающуюся за ней мерную безбрежность Вселенной. Нам как трёхмерной "кожуре" эфира, выступающего её, четвёртой меры, естественным воплотителем. Когда в качестве "кожуры" мы трёхмерны потому лишь, что треугольник − единственная жёсткая из геометрических фигур.
Так что если строго, то само пространство не может иметь четвёртой меры, эта мера для нас уже в эфире − как том, из чего "производится" пространство. И психосильный человек, сподобившийся "увидеть" эфир, должен говорить о видимости им четырёхмерной квазипространственности. Ну или о дополнительной появляемости у пространства некой квазимеры.
Поверхность сферы как квазиэкватор супершара − в каком-то смысле ведь не меньше самого этого шара! Подобно как окружность на плоскости, вращением которой вокруг её диаметра (как линии конечных размеров) образуется сфера, в каком-то смысле не меньше этой сферы, поскольку у них общий радиус. Ведь суперсфера, ограничивающая супершар, аналогично есть продукт вращаемости обычной сферы "вокруг" своего диаметрального сечения (как плоскости конечных размеров), и у них (ну, у обычной, пространственной сферы и производной от неё сферы суперпространственной) тоже общий радиус.
Таким образом, с ростом числа привлечённых мер − размер вселенского "яблока" не растёт, а кáк бы растёт, и по тому же принципу, по которому исчезает бесконечно перфорируемая (по некоему математическому правилу увеличиваемости числа дыр) плоскость.
Эфирово четырёхмерное "яблоко", как теперь ясно, лишь первой степени грубости модельное приближение к действительности. Которое мы подробно и разбираем, в отличие от последующих возможных приближений. Ибо, в силу своей начальности, это приближение автоматически представительствует нам все последующие.
В разговоре о суперсфере мы могли бы, кстати, и не привлекать понятие вращения. Тогда надо было бы её наметить так: обычная (ну, наличная за счёт пространства) сфера как поверхность параллельно каждой своей точкой "не пойми куда протягивается" за свои пределы, в протягиваемости этой выходя в конечном счёте на саму себя же, − чем и получается из неё суперпространственная сфера.