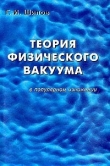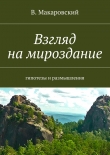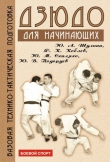Текст книги "Релятивистская механика: новый взгляд по-старому"
Автор книги: Виктор Ткачёв
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Как же спасти совместное существование принципа относительности и преобразования Лоренца? Не пожертвовать, то есть, одним из них в пользу другого? Я оставлял этой вопрос читателям. Но могу сделать кое-какие наметки. Принцип относительности и преобразование Лоренца − примерно равные по представительности вещи. Так что вряд ли возможно отвлечённо решить, чем из них пожертвовать "в силу большей теоретической значимости другого". Ликвидировать же их противопоставленность, перестав считать, что образуемость происходящими событиями для кого-то одновременности есть реализуемость некоего физического закона или законов, а не нечто просто так, значит попрать общие логические законы, как нам кажется. То есть − тоже не выход! Так что же тогда? А то, что доказывать возникаемость несинхронности часов для наблюдателей из движущейся относительно нас инерциальной системы отсчёта (имеются в виду синхронные для нас часы с идеальным ходом, неподвижные к нам как тоже инерциальной системе отсчёта, и расположенные в пространственно разнесённых точках), это всё равно, что доказывать неуменьшившесть для них, тех наблюдателей, измерительных линеек в той их системе отсчёта (вместе с уменьшением размеров всего в ней − по направлению её относительно нас хода). Намёк ясен? Для нас размеры предметов, неподвижных в той системе отсчёта, сокращаются − по линии, соединяющей её с нами как системой отсчёта, но для наблюдателей из той системы остаются неизменны − из-за точно такой же сокращаемости их измерительных линеек, когда они прикладывают их вдоль той − соединяющей наши системы − линии. Так и с вопросом одновременности событий: для нáс наблюдатели из той системы одновременности пространственно разнесённых событий не имеют − тех, которые мы находим одновременными, но для себя − нисколько не лишены её. Сказать иначе, одновременные для нас события с нашей точки зрения выступают неодновременными у наблюдателей из той системы отсчёта, но с их точки зрения они сохраняются одновременными. Сохраняются просто в силу того, что их "временнáя линейка", тех наблюдателей, кособочится вместе со скособочиваемостью их − относительно нас − времени.
Так что же, мы как наблюдатели, составляющие неподвижную − к паре разнесённых часов − систему отсчёта, иллюзируем по поводу наблюдателей, составляющих подвижную к тем часам систему отсчёта? Коль одновременность для них чего-то − у нас выступает неодновременной их имеемостью того чего-то! Иллюзируем? Не должно бы, всё-таки преобразование Лоренца, из коего такое вытекает, не "от столба" взятая штука! На вопрос, кто из нас-наблюдателей прав, ответ, похоже, тот, что в равной степени правы обе стороны: те чухарики правы по-своему, мы − по-своему. У каждого своя правда, как принято о подобных вещах выражаться в народе!
Вообще мир – система отсчёта для всего одна, а тем, значит, он система отсчёта абсолютная. Или скажем так: мир в целом – система отсчёта самая общая, а оттого единственная, что в свою очередь означает – абсолютная. Вот как обстоят дела, и мы ничего не можем с этим поделать! Ведь за систему отсчёта можно брать что угодно – определение её как понятия подразумевает это, – так почему тогда, среди прочего, не взять мир в целом, а как только взял, так проваливаешься в абсолютность отношения, и становится – раз и навсегда – бессмысленно говорить ещё о чём-либо. Ну, в смысле, ещё о каком-либо отношении. Относиться к чему бы то ни было как-либо ещё – выглядит имеющим смысл лишь в выступании вспомогательностью… Итак, мир – система отсчёта для всего одна, и из действующих в ней физических закономерностей нам просто открывается ещё та, что у входящих в систему наблюдателей с относительной друг к другу скоростью – правдивость отличающихся мнений о соотносимости во времени пространственно разнесённых происходящестей из системы: у каждого соотнесённость последних для себя – отличается от соотнесённости для других, и каждый тем не менее прав – о себе и о других. Почему бы и нет? Мало ли какие могут быть закономерности в мире как целом! Иными словами, мало ли как может преломляться на нас мировая целостность! Вот как про это про всё напрашивается думать…
Итак, возможность правильности двух разных мнений на одно и то же – вот что фактически являет нам (в качестве свойства мира) сопряжение преобразования Лоренца с принципом относительности. Такая возможность – как одна из тех физ. закономерностей, что проистекают от абсолютности у мира как системы отсчёта.
И теперь понятно, почему легко опроверглись доказательные рассуждения СТО, по которым часовые механизмы, разнесённые в пространстве и неподвижные друг к другу, не соответствуют эйнштейнову критерию синхронности для наблюдателя, имеющего какую-либо относительную к ним скорость, если соответствовали, когда он относительно их находился в покое. (Эти доказательные рассуждения замешаны на логике, однотипной с той, по которой − в примере Савельева − перронный дежурный должен находить неодноврéменною достигаемость светом торцевых стенок вагона. А ложность логики из этого примера мы подробно разобрали.) Доказующих тогда в утешенье отсылали к более совершенному, нежели эйнштейновский, критерию синхронности часовых механизмов, по которому, быть может, последние синхронность таки действительно теряют – для начавшего двигаться относительно них наблюдателя. Теперь же стало ещё и ясно, что более совершенный критерий нет нужды разрабатывать: и по нему выйдет, что не теряют. Потому что и не должны терять, тем утверждая открывшуюся нам природную закономерность о двойной правде, одна из которых (в лице синхронности таки часов) – правда того движущегося относительно них наблюдателя, а другая (в лице несинхронности тех часов для того наблюдателя) – наша правда, как остающихся неподвижными к тем часам (ну, к той паре часовых механизмов).
В общем, говорить надо не об относительности одновременности, а лишь об относительности точек зрения на одновременность! Пусть я и вы встречаемся, находим два разнесённых часовых механизма, неподвижных друг к другу и к нам, и синхронизируем их, не забыв заодно сверить. А затем вы приобретаете некую постоянную к тем механизмам скорость, я же остаюсь неподвижным к ним. Показ одним из них двенадцати часов на своём циферблате – некое событие, показ же двенадцати часов на своём циферблате другим часовым механизмом – соответственно другое событие. И вот далее! Для вас – на вашей скорости – часовые механизмы остаются синхронны, а потому и два означенных события – одновременны. И то же самое – для меня, оставшегося неподвижным к тем механизмам. Однако вы являетесь мне тем, для кого часовые механизмы потеряли синхронность, а вам тем же образом являюсь я, соответственно с моей точки зрения – для вас два обозначенных события неодновременны, а с вашей точки зрения те два события неодновременны для меня. И волки сыты, и овцы целы: пробно взятые события одновременны и для меня, и для вас, что есть «целость овец», но это той ценой, что с моей точки зрения на одновременность – она – взятыми событиями – утеряна для вас, а с вашей точки зренья на неё – она теми событиями утеряна для меня.
Так что если налицо неодновременность двух пробных пространственноразнесённых событий лишь для одного из двух − движущихся относительно друг друга − наблюдателей, то это попросту означает иллюзию у одного из тех наблюдателей. Вóт что представляется необходимым заявить! Те события либо одновременны, либо неодновременны, а кто-то из их наблюдателей − иллюзирует. Из-за несовершенства агента, посредством которого судит об одновременности тех событий, ну и из-за несовершенства своей ощущенческой сферы, неспособной прийти в контакт с более совершенным агентом. Вот что мы вынуждены заявить.
Да, камень преткновения именно в этом: вообще испытываемости человеком зрительных − на базе света − иллюзий, вместе с восприятийными иллюзиями прочих родов, помноженных на неумение обходить их силой разума. И иллюзии одновременности чего-то (или неодновременности) проходят полноправным членом этой когорты иллюзивностей. То есть что? Ежели тебе нечто явилось в мире, сначала хорошенько осмотрись − а не иллюзия ли это. На мой взгляд, эйнштейнианцы − своим пониманием физики мира − чётко являют недостаток психоэнергетики: в позициях разных своих скоростей осмотрелись как раз недостаточно − на предмет одновременности всяческих касательно них происходящестей. Откуда и пошла абсолютизация относительности одновременности − как наведение теоретизационного фантома. Недоучли, что в лице одновременности − как постоянно касающегося людей физического явления! − имеют дело с проявляемостью достаточно фундаментального свойства природы (а лучше сказать − бытия), чтобы с ним, свойством таким, упрощённо не обращаться. Ну, сметь судить о его природе и характере на основании неглубинного ощущенческо-ментального раскопа.
Той "недостаточной осмотревшести" эйнштейнианцев зело способствовала их − неявная самим себе − абсолютизация света. А меж тем, чтó такое свет в нашей жизни? Хоть и главный, но лишь посредник, а не бог! И, получается, негодный посредник − в случае зрительной неодновременности чего-то для кого-то, наличной при зрительной одновременности того чего-то для кого-то другого, при условии равной ощущенческой старательности и силы у тех лиц. Плюс, получается, злостно-негодный посредник − ежели изъян его посредничества, приводящий к такому, столь тонок, что то из двух лиц, которое как раз иллюзирует, не способно выстроить убеждающую рассудительную скомпенсированность той своей иллюзируемости (ну, своей неадекватной зрительной ощущенческости). И, наконец, посредник он двойной злостности, если человечество − как арбитр при тех двух лицах − не находит изъянов в таких некомпенсирующих оценках второго лица, фактически то лицо утверждающих (а за ним, теперь получается, и нас!) в зрительной иллюзивности.
Итак, негодный посредник, и только, − вот как правильно надо думать для начала, коль уверен что разнесённые часы − для начавшего двигаться относительно них наблюдателя − теряют синхронность по критерию синхронности часов, выстроенному Эйнштейном на базе посредничества света. Думать так в сопряжённости с попыткой найти годного посредника (на базе которого способен выстроиться критерий синхронности часов, по которому тот наблюдатель – пусть хотя бы вне зависимости от тебя! – часы не перестаёт иметь синхронными). Это всё − вместо поспешной заключаемости об "исчезающей" для такого наблюдателя одновременности. О непреложной для него её исчезаемости. Да, и здесь потеря синхронности часами – как потеря ими одновременности показывания одних и тех же значений на своих циферблатах.
Затем начинаешь думать дальше: что, возможно, более годного посредника найти просто нельзя. Тогда мы все обречены использовать этакого вот ограниченно-годного, и, значит, следует пытаться достичь того уровня ментальной компенсируемости его ограниченности, что позволяет ухваченность происходящего иметь-таки адекватною. В порядке чего не выступает лишним считать недоадекватною любую свою соображённость по поводу видимого, которую привычно имеешь. Что прежде прочего касается соображённостей именно об одновременности: где-то и для кого-то, при сохраняемости её где-то ещё и для кого-то ещё. Прежде прочего, в силу усложнённого характера светопосредничества в таких случаях.
Что ж, так вот по описанному я лично и был настроен, оттого и вышел на изложенные логики, и в первую очередь – логику двойной правды. Но не исключено и то, что оно в нашем мире и в самом деле − у разнесённых в пространстве периодических происходящестей, раз за разом одновременных для тебя при некой твоей скорости относительно их, появляется к тебе неодновременность − когда изменишь ту свою к ним скорость. Так будет считаться, если обнаруженные нами логики читатели сумеют забраковать. Но это если сумеют!
Вернёмся ещё к настроенности на негодность посредника, сопряжённой с допускаемостью возможности найти годного. По ней не всё сказали. Когда она, тогда что? Да не боишься по нужде поискать даже и нетрадиционного посредника, вместо кидаемости от отчаяния пересматривать фундаменталистику – об удерживаемости вида события по переходе к новым и.с.о. (а именно это приходится делать, коль скоро одновременность чего-то происходящего логически квалифицируется как событие!). Нетрадиционного посредника, то бишь нестандартного вестника событий, на основании которого судим об их для себя очерёдности. Имею в виду посредника из области экстрасенсорики! Физике пора признавать такую возможность, чай двадцать первый век на дворе. Сколько уж за век прошлый делано-перенаделано опытов экстрасенсорного восприятия, результатами укладывающихся в "фирменную" для физиков трёхрпроцентную погрешность! Да, экстрасенсы плохо понимают, с каким таким посредником они работают, но ведь чем-то пользуются же? Пользуются! И я вам скажу даже, чем. Эфиром. Эфиром как целым. Каждый человек − как самоосознавшаяся форма бытия − просто-напросто "завязан" на него, причём бесплатно.
А ещё – пример другой зрительной иллюзивности, из тех какими страдает человек, и сравнительно с которыми возможные иллюзии одновременности вокруг тебя происходящестей − ничуть не лучше и не хуже. Солнце как мат. тело находится не там, где нам видится с Земли. Ну, не строго там! При поверхностном подходе напрашивается что? Считать его находящимся на линии, соединяющей глаз и место небосклона, где оно нам видится. Но нет, такой реальности мы с некоторых пор не принимаем, справедливо находя свет несовершенным − здесь именно! − указателем, и помещаем для себя Солнце на проходящей через глаз линии, что на два угловых градуса повёрнута вправо − от упомянутой. То есть солнечный диск невидимо висит, сдвинутый на небосклоне вправо − примерно на три своих поперечных размера. Весомый промежуток! Сила разума здесь успешно преодолевает недостаток силы нашей ощущенческой сферы (имеемый тою из-за её устроенческой ориентированности на недостаточно совершенное − в лице световой волны). А вот в случае эйнштейновских "мысленных экспериментов" − преодолевает неуспешно. И это слабо ещё сказано! Ибо не только успешно не преодолевает, но даже и намеренно столбит непреодолевшесть − в качестве "новой реальности".
Дабы не тонуть по этому вопросу в частностях, сделаем ещё кое-какие обобщения. Что такое свет в том а-ля эйнштейновском мысленном эксперименте − с лампочками на торцах движущегося вагона? Да переносчик факта произошедшести вспышки во времени, и всё! Ну, то есть, переносчик факта своего зарождения в лампочке, и не более. В смысле что свидетель того факта для других точек пространства − нежели та, где тот факт поимел место. Реальность, значит, оказывается тою, что одновременность событий мы обнаруживаем, вынужденно прибегая к использованию других событий − как указчиков на неё у первых. Приход светового луча от лампочки к нашему глазу − чем не событие? А ведь именно по таким приходам − от каждой из лампочек − мы и судим об одновременности или нет их загоревшести для нас. Во всяком случае, в одном из возможных способов "судопроизводства", устанавливающего факт этой одновременности (или неодновременности)! И не забыть тут ещё такие − дающие судить − события, как возбуждение светом чувствительных к нему клеток в сетчатке глаза, а также проход по зрительному нерву порождённой тем возбуждением импульсации. То есть что? А то, что всё безнадёжно усложняется! Допустим, два пробных события имеются для вас одновременно. А с увеличением вашей скорости относительно их − они лишаются для вас одновременности. Чтоб разобраться, правда это или нет, вам дважды приходится иметь дело с двумя цепочками событий-передатчиков − каждая доносит до вас весть об одном из тех двух событий. Вот тут-то и сложности! Во-первых, поди проследи − на предмет брака − всех членов такой цепочки: заколеблешся, ведь их, по идее, может быть при желании вычленено бесконечное количество. А во-вторых, события одной цепочки обязаны быть синхронны событиям другой цепочки: рассинхронизируйся хотя б одна их пара (ну, некое событие из одной цепочки и синхронно с ним происходящее − из другой, составляющие тем пару), как сравниваемые по времени события, что находятся в основаниях цепочек (ну, упомянутые пробные), окажутся для вас неодновременными (ну или наоборот − одновременными, ежели были неодновременными). Отчего та пара передающих событий потеряла для вас синхронность? Как быть уверенным, что лигитимным образом – из-за вашей по отношению к ним скорости, ежели могут быть и другие причины, тут просто вами не прослеживающиеся, остающиеся для вас "за кадром"? В целом таких причин бесконечное число, в силу бесконечности же числа пар событий, должных быть синхронными (мощность множества возможных причин даже на единицу больше, нежели множества пар синхронных событий, поскольку каждой паре событий соответствует своё множество возможных причин их рассинхронизации, и в целом число причин − это множество множеств). Плюс то, что если причина, нарушающая синхронность пред вами одной из пар, суть именно ваша дополнительная к той паре скорость, так это тоже не беда для разводимой нигилистской логики. Скорее даже наоборот! Ибо означает, что скорость та повлияла лишь на доведение до вас факта одновременности пробных событий, а не на саму их одновременность. То есть попросту ввела вас в заблуждение!
Получается, вынуждены мы заявить, что фиксация одновременности у разнесённых в пространстве происходящестей − та ещё штучка! В целом требует большей восприятийной развитости (ну, силы), чем которой обладают современные люди, в их массе. С той, какая есть, мы вязнем в цепочках посредников! Размывающе к факту одновременности вязнем! Ну, в смысле, обычные ощущенческие каналы, а заодно и физические средства, с которыми они работают, типа света у зрительного канала, мало годятся − при современной у людей развитости первых, и при наличной для людей у природы развитости вторых. Недостаточны, − что физические средства, ощущенческими каналами привлекаемые, что реализуемый способ их привлечения. Недостаточны, ибо являют, повторяю, излишне вяжущие нас цепочки посредников. Особенно если дело временнóй соотносимости происходящестей, вдобавок к простой пространственной их разнесённости с соотносящим лицом, проходит, так сказать, и при скоростной разнесённости его с ними, порождающей разность его и их временны́х масштабов, затрудняющую оценочный контакт: тот остаётся возможен, но только уж за счёт большего количества событий-посредников (прибавляются те, через которые вынужденно − и обычно в незаметности − соотносятся временны́е масштабы). То есть мощность цепочек тогда на ступень ещё возрастает, как ясно. (И вместо "событие" я здесь − для корректности − говорил "происходящесть". Всё из-за русского языка! В нём первое понятие пусть непроявленно, но где-то уже подразумевает одновременность − из-за приставки "со" в составляющем его слове.)
Впрочем, порождающий и самую маломощную цепочку канал − фактически не годится для обслуживания такого миросвойства, как одновременность у происходящестей. Иначе появляется призрак солипсизма. Происходящести, в их одновременности, они для нас или вообще? Вот в чём вопрос! Которым, как я понимаю, не шибко-то задавался Эйнштейн. А надо бы! Ведь ежели никакие происходящести чётко (и чтоб не ложно!) не обнаруживают для нас своей одновременности (факт её в смысловом отношении сколько-то да "размывается" − неизбежно, из-за нашей вязнущести в цепочках посредников), то значит ли это, что её тогда у разных происходящестей вообщé нет? Что она у них − только намёком (именно как для нас бывает!), а как таковая − отсутствует? Ну, то есть, отсутствует в стрóгом смысле? Не обязательно, если только не стоять на позиции солипсизма. Мы ведь, по сути, лишнее звено, только усложняющее вопрос. Нас могло бы и не быть − ни одного человека, − и тогда что же, у мироздания, имеющего длительность, с мириадами входящих в него оттого происходящестей, вообще не было бы происходящестей совпадающих? Ну, временнó налагающихся в полной совпадаемости? Надо полагать, были бы! Вот такая одновременность у происходящестей как раз и была бы одновременностью типа "вообще". А решая вопрос одновременности исключительно с позиции наблюдателей (как это по умолчанию всегда происходит у физиков, с подачи СТО), мы незаметно в солипсизме! Отчего наша, нынешних, задача: как к некой асимптоте приближать одновременность типа "для нас" к такой событийной одновременности типа "вообще". При том, что даже и это полумера! Полноценное суждение об одновременности может быть лишь при реализуемости нами непосредственной воспринимаемости событий. Только такая воспринятость эквивалентна тому, чтó в связи с событиями бывает, когда нас нет. Все же традиционные ощущенческие каналы предполагают физических посредников − каждый своих, меж происходящестями и нами, и потому не годятся, ежели без скидок. Поскольку посредник неизбежно наводит определённую редукцию при передаче, которую осуществляет. Мы, конечно, можем оценить редукцию, но при оценке − для заполучения вводных − будем пользоваться опять посредником, дающим редукцию, и так далее. Не выкрутишься! Вот такой нелицеприятный для человеческой современности ответ. Другими словами − да здравствует экстрасенсорика: в релятивистских вопросах без неё не обойтись! Ничего страшного: экстрасенсорная воспринятость, она же воспринятость непосредственная, суть воспринятость через эфир, только и всего. Эфир как посредник меж тобой и тем из предметного мира, ощущения чего ты для себя ищешь! Посредник? В непосредственном-то восприятии? Да, поскольку эфир − ничто, а потому и посредника фактически нет. Во всяком случае, с физической точки зрения.
Кратко ещё раз, из-за важности. Что такое обнаружить неодновременность происходящестей? Фактически это − не обнаружить их одновременности! Обнаружение же одновременности, как мы показали, дело скользкое. Помнить о посредниках и редукции, эту скользкость воплощающих! Так что если не обнаружил одновременности у взятых происходящестей, то это может быть действительно отсутствие у них оной, а может быть и твоя обнаруженческая подскользнувшесть. Молох последней неизменно маячит, какие события по времени ни сравнивай.
И в общем помнить о призраке солипсизма. В СТО неявно всё крутится на том, что одновременность для событий надо обнаружить, а если не обнаружил, то, стало быть, и нет её. Такое если не солипсизм, то по крайней мере − заявка на него. Ведь ежели бы, как мы уже говорили, нас не было, то бишь некому было бы одновременность обнаруживать, так оно что же, и одновременных событий бы вообще не было?! Так что постоянно отдавать себе отчёт: мы это мы, а одновременность это одновременность. Разводим людей с нею! Постулятивно предполагая её независимое от нас − с нашими обнаруженческими действиями над ней! − существование. Которое только и есть единственно "чистое". И на которое, стало быть, нам единственно и нужно ориентироваться в наших научных изысках.
Скажем ещё так. Одновременность двух берущихся событий − как нечто имеющееся у них − в качестве обнаруженности нужна нам, а не им: они и так "знают", что у них есть, а чего нет. Потому и нуждаемся в посредниках − в лице всяческих там сигналов, через них как бы приближаясь вплотную к упомянутым событиям (сразу двум!) и тем узнавая, чтó они имеют. Сами же события, ежели только имеют одновременность, "знают" о ней просто потому, что выступают элементами одной и той же Вселенной. Ведь у последней на все события − один временной поток! А мы, страдая ограниченностью ощущенческой сферы, эту вселенскую "одноитожность" у событий пытаемся подменить, продублировав через посредничество сигнала. Пытаемся этак продублировать их, тех событий, пребываемость отдельными проявлениями вселенской целостности (за счёт чего бы последняя ни наводилась). Продублировать же такую штуку нельзя. На пути дубляжа можно уловить лишь более или менее бледную её тень.
Ладно, общих рассуждений − в связи с понятием одновременности − пока хватит. Вернёмся к большей конкретике. Чтобы нам с вами производить или определять одновременные события, находясь в одной системе отсчёта, мы должны синхронизировать свои часы. Этого будет достаточно, и синхронизация часов в одной системе отсчёта чётко и логически непротиворечиво разработана − на базе использования световых, звуковых и прочих возможных сигналов.
Возьмём вас и меня, определённым образом разнесённых в одной системе отсчёта. Вы даёте световую вспышку в некий засекаемый момент на своих часах. Я на своих засекаю показания циферблата в момент её прихода ко мне, он же момент отправления её мною обратно к вам. Вы по своим засекаете момент её к вам прихода, и вычисляете показания их циферблата в середине временнóго интервала между первой и второй засечками. Затем сообщаете мне эти показания: то должны быть показания и моих часов в момент прихода ко мне вашего сигнала-вспышки. Зная, чтó показывали мои часы в тот момент, я вычисляю поправку и в соответствии с нею меняю показания их циферблата: наши часы синхронизированы.
Синхронизация же часов, находящихся в системах отсчёта, связанных относительной скоростью, суть на ступень более шаткая вещь. Производить синхронизацию в таком раскладе, то придётся использовать уже только свет − лишь он в своей скорости от движения систем отсчёта не зависит, − плюс синхронизация, как процесс, окажется чем-то более навороченным − на целую ступень, и это как минимум (зная относительную скорость наших с вами систем отсчёта, надо будет исчислять для часов поправки − компенсирующие и то, что сигнал от вас ко мне пройдёт иное расстояние, нежели сигнал от меня к вам, и то, что сам хóд наших с вами часов неодинаков − в отражение релятивистского эффекта). Оставляю открытым вопрос, можно ли будет исчислить все необходимые поправки − чтоб и синхронными выставить наши часы, и сохранять синхронизированными, несмотря на релятивистскую разносимость их хода. Такой вопрос позволительно оставить открытым, ибо если б даже и нельзя бы синхронизировать (либо можно, но нельзя удержать синхронными, что по большому счёту означает то же самое "нельзя"), это мало что доказывало бы: часы, может, и нуждаются в синхронизации, зато само время − ваше и моё, равно наделяющее нас собою как принципом в любых отличающихся наших состояниях − ни в какой синхронизации (внутри себя самого, получается!) не нуждается. Это означает, в частности, что в синхронизации не нуждаются времена наших с вами − разноскоростных! − систем отсчёта. В отличии от часов в тех системах. Вот в чём хитрость! Что часы нуждаются − то, что называется, наши проблемы как пользователей всяческих механизмов, а времени на них наплевать, на эти наши механизмы и проблемы: факт совпадаемости в нём событий оно устанавливает без часов.
Вот что, значит, получилось наговорить − о восприятии и возможных иллюзиях его в связи с релятивистскими вопросами. Наговаривали, не забывать, в порядке разбора первого поспешного трактомомента из СТО. Что предполагает подобным образом пройтись и по второму поспешному из неё трактомоменту. А именно: если у тебя, инерционно движущегося после обогнавшести в этом движении меня, инерционно же движущегося, и возникает − в отражение равновзаимоотносительности инерциальных систем отсчёта в преобразовании Лоренца − ощущение моей временнóй замедленности, то это будет лишь иллюзия восприятия − одна из многих, способных владеть человеком в порядке этой жизни. А вот то же самое у меня по отношению к тебе − будет тогда реальным ощущением! Такая вот неравноправность, восходящая к существуемости для нас эфира (оказывающейся фактом налички мирового пространства как чего-то целого, ежели брать её в большей − на ступень − теоретизационной адаптированности к нам). Неравноправность, хотя сами меж собой рассудиться по факту её мы никак не можем. Ведь ежели ты не имеешь никаких, кроме меня, ориентиров, тебе ощущенчески непонятно, я ли это от тебя удаляюсь или ты от меня, и если первое, то от неподвижного ли тебя отдаляюсь я всё больше, или от движущегося в ту же сторону, а если второе, то от неподвижного ли меня твоя удаляемость, или тоже от движущегося в одну с тобой сторону. И точно то же самое мне непонятно в отношении тебя. Это не говоря уже о том, что допустимо нам считать себя и расходящимися в противоположные стороны! Отличить этот случай от перечисленных – не можем ни ты, ни я. Как и определить, твоя ли скорость в своём направлении больше моей в направлении противоположном, или наоборот. Но вот если ты по отношению ко мне ускорялся − непосредственно перед возникновением этакой нашей инерционной раздвигаемости, − то это оказывается арбитром! Ну, то есть, позволяет тебе сделать ощущенческую отдифференцировку, способную рассудить нас: ты ведь испытывал весь комплекс проприорецептивных и тактильных ощущений ускоряющегося тела − как комплекс, однозначно задающий направление твоего движения и при том сопряжённый со зрительным ощущением нашей с тобой раздвигаемости в пространстве (чем та раздвигаемость автоматически и поляризуется).
Я не зря завёл такую речь. Человеческое восприятие способно пойти навстречу математике преобразований Лоренца. В смысле что обладает, как и она, свойством полной переориентировки движений расходящихся или сходящихся объектов, при условии выступаемости одного из них вами. Вы, отстающий от меня − в наших односторонних инерционных движениях по соединяющей нас линии, психотехнически способны зрительно самовосприняться удаляющимся от неподвижного меня − в сторону, поротивоположную тому нашему совместному реальному движению. И как что-то подобное, но уже в сверхиллюзивном плане способна, возможно, развиться у меня мнимость вашей жизнезамедлившести. Мнимое видение наличия оной. Не знаю. Потому и разбираю всё подробно − чтобы составить для читателя контекст, в котором он смог бы порассуждать на тему такой возможности. (А неиллюзивной жизнезамедленностью здесь будет моя для вас жизнезамедленность, как ясно. Потому что моя инерционная скорость больше вашей, коль вы движенчески отстаёте от меня при нашей находящести на некой линии. Это при условии, однако, что когда я по этой линии набирал свою инерционную скорость, то тем ускорялся и по отношению к пространству как целому, а не только по отношению к вам. А то ведь возможен и случай, когда тело, замедляясь по отношению к вселенскому пространству, тем ускоряется по отношению к телу, которое перед замедлением находилось рядом с ним − в состоянии покоя относительно него).