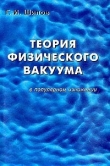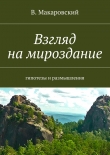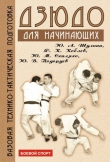Текст книги "Релятивистская механика: новый взгляд по-старому"
Автор книги: Виктор Ткачёв
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Так что, как видим, единственное, что можем сделать, это рассчитать момент нажатия кнопки "вагонным", да через нажатие то довести луч от передней лампочки (от передней именно, с задней не получится, к слову уж сказать) до "полевого" в требующийся опытом момент его поравнявшести с "вагонным" (как момент заполучения последним лучей от обеих лампочек), − а уж в некий последующий момент "полевой" получит луч и от задней лампочки, из того разнобоя сделав вывод об их одновременной зажёгшести (если будет знать длину вагона, временной промежуток разнобоя да скорость поезда и света). Это будет его вывод о своей находящести при световой иллюзии неодновременности, порождённой конечностью скорости света! Световая, она же и зрительная иллюзия! Вот оно как. "Вагонный" же, получая здесь лучи от лампочек одновременно, находится при праве на основании того считать, что они одновременно и зажглись. То есть как физик-теоретик не находит возможным находить себя при иллюзии одновременности загоревшести лампочек. Ну, а совпадение момента светоприхода к нему от лампочек с моментом получения "полевым" света от передней ламочки − оно оказывается достигнутым такой удалённостью "полевого" от ж/д полотна, при которой расстояние его до передней лампочки на момент её зажигания равно полудлине вагона, как и до "вагонного" от неё в тот момент. Это вполне можно подобрать, поскольку то момент, когда "вагонный" недошедш до "полевого", и стой последний впритык к полотну, он был бы ближе к передней лампочке, нежели "вагонный". А так мы его отодвигаем от полотна, тем необходимо и достаточно увеличивая его расстояние до той лампочки. Но этим и всё, что мы можем реально сделать. Где же в такой реальности относительность одновременности для наблюдателей? Не просматривается!
Для тех, кто ещё не всё понял, слегка переизложим "техническую кухню". Ежели обходимся без операторского посредничества "вагонного", так ставим лампочки на батареи с кнопками, сажая за каждую по оператору. Тогда для случая, когда нужно светоиспускание лампочек в момент поравнявшести наблюдателей, сгодится поставить вешки, разнесённые на длину вагона, и так, чтоб "полевой" пребывал посредине меж ними. А операторам дать наказ жать на кнопку по поравнявнешсти со своей вешкой (оператору переднего торца вагона придётся пропустить первую встреченную вешку, как ясно). Для случая же, когда необходима загораемость лампочек та, при которой свет от передней доходит до "полевого" в момент его поравнявшести с "вагонным", вешки должны стоять смещённо по отношению к "полевому": та, что со стороны прихода поезда, должна быть дальше от него, нежели та, что с противоположной стороны. А насколько дальше − это можно посчитать, и достаточно будет знаемости лишь скоростей поезда и света. Однако расстояние между вешками по-прежнему должно будет остаться равным длине вагона.
Но это, повторяю, лишь "техническая кухня". С помощью которой можно организовать ещё один событийный вариант. Поставляющий "полевому" − в его пребываемости поравнявшимся с "вагонным" − световую иллюзию одновременности зажёгшести лампочек. Для этого "полевой" должен находиться от вешки, что предназначена оператору при лампочке переднего торца, на расстояньи меньшем, чем полудлина вагона, ежели мерить вдоль полотна дороги. Ну и вешки должны быть разнесены на расстояние, большее вагонной длины. Первое обеспечивает приход луча передней лампочки к "полевому" при его поравнявшести с "вагонным", а второе − включившесть задней лампочки раньше передней, что при правильном подборе упреждения даёт "полевому" приход луча от неё в момент прихода к нему противоположного луча. Но грамотный "полевой", знающий все перечислявшиеся скорости и расстояния, не клюнет, логично посчитав, что находится лишь при иллюзии одновременной зажёгшести лампочек, базирующейся на несовершенстве света как переносчика сигнала. Ну, а для "вагонного" противоположные лучи тут придут вразнобой, и максимум, что можно обеспечить, это чтоб луч передний пришёл в момент его, "вагонного", поравнявшести с "полевым". Задний же луч оказывается тогда пришедшим к нему раньше этого момента. Вот и всё. Здесь тоже порядок, как видим, − никакой относительности одновременности для наблюдателей: один логически преодолевает световую иллюзию одновременности, другой логически подтверждает реальность наблюдаемой им неодновременности.
Так что если, как наблюдатель неких − одинаково повторяющихся одновременными − событий, проходишь сначала в типе наблюдателя вагонного, а затем в типе полевого, и из-за лишённости во втором случае скорости, какую имел в первом, фиксируешь потерю теми событиями одновременности, то прежде прочего стоит думать, что это фикция, последовавшая из недостаточно глубокого анализа, призванного преодолевать иллюзии восприятия. Вот такое напрашивается обобщение.
Но продолжим работу с имеемыми у физиков "доказанностями" относительности одновременности в нашем мире. Вот вторая из них, почерпнутая в учебнике Савельева (известный автор, между прочим). Пишет о пассажире, сидящем в центре равномерно-прямолинейно движущегося вагона. Пассажир тот включает находящуюся рядом с ним лампочку, и свет для него достигает торцов вагона одновременно, так как расстояния своего до них во время хода к ним света пассажир не меняет, а скорость света относительно него, согласно результатам Майкельсона − Морли, одна и та же в обе стороны вагона. От дежурного же на перроне, смотрящего вслед вагону, торцы последнего удаляются, причём передний (ну, ближний к локомотиву) − убегающе от света, а задний − набегающе на свет. И поскольку свет, распространяющийся от лампочки по ходу поезда, имеет относительно того дежурного ту же скорость, что и свет, распространяющийся против хода (для того, мол, и опыт Майкельсона − Морли, опять-таки!), то для него, того дежурного, скорость переднего торца отнимется от световой, а такая же скорость заднего − к световой прибавится, оттого свет с его точки зрения достигнет торцов неодновременно.
Вот такие рассуждения у Савельева − в нашем заостряющем моменты пересказе. И мы находим, что в этих своих рассуждениях он неправ. Незаметно от себя допустил ляп − не учтя, так сказать, размах трактовочной сказываемости результата опыта Майкельсона − Морли. По этому результату скорость света, испускаемого движущимся относительно перронного наблюдателя телом (ну, лампочкой в вагоне удаляющегося поезда), для того наблюдателя одна и та же что при испущенности в направлении движения поезда, что в обратном. То есть результат опыта Майкельсона − Морли не позволяет движущемуся по отношению к нам телу прибавить или отнять (для нас) свою скорость от скорости испускаемого им света. Это Савельев констатирует и принимает. Но ведь подобная логика − именно как исходящесть из результата Майкельсона − Морли − работает и далее! В том смысле, что скорость того испускаемого лампочкой света точно так же не должна меняться ещё и для любого движущегося в нашей системе отсчёта тела. Тем оказываясь для него равной скорости у света относительно нас. И поскольку торцевые стенки вагона входят в нашу систему отсчёта, когда мы стоим на перроне (входят именно как движущиеся в ней объекты), то, значит, и для них, для каждой, она такая же, та скорость. И коль торцы те с нашей точки зрения своей соотнесённости не меняют (ну, сохраняют меж собой старое расстояние, вагон ведь штука жёсткая в нашей системе отсчёта), то и свет тот для нас обязан достичь их в один и тот же момент − ведь источник его расположен посредине меж ними и для нас тоже, а не только для вагонного наблюдателя. Вот если бы торцы, пока свет к ним идёт от центра вагона, меняли свою соотнесённость (один бы наезжал на другой), то свет тот для нас пришёл бы к ним неодновременно. Но и к вагонному наблюдателю он тогда бы пришёл вразнобой! То есть, и здесь не было бы разницы меж нами и тем наблюдателем. Вот такая логика! Судите уж сами, верна ли она, или верна савельевская.
Савельев что? Совершенно справедливо бьёт на то, что дежурный, в отличие от пассажира, меняет расстоянье от себя до торцов − во время хода к ним света. А таковое изменение расстояния − штука влиятельная. Если есть вы, далее по некой линии − щит на колёсах, и ещё далее по ней − источник света, то свет от последнего с вашей точки зрения достигнет щита раньше в опыте, когда щит начинал двигаться на источник в момент светоиспускания, − сравнительно с опытом, когда не начинал, оставаясь неподвижным. Вот на это свойство природы и бил Савельев! Меж тем, во время хода света дежурный одинáково увеличивает свою удалённость от торцов. Ну, то есть, за некую единицу времени на столько же удаляется от переднего, на сколько от заднего. Что оказывается как раз моментом, недопускающим неодновременного прихода света к торцам для того дежурного (коль скорость света к ним одинакова для него, согласно результату опыта Майкельсона − Морли). Последнее (то бишь эту одинаковость) Савельев незаметно от себя опустил: результат Майкельсона − Морли обязан был употребить дважды, то есть и в отношениях света от лампочки с торцами, а не только в отношениях его с дежурным, но применил как раз только в отношениях с дежурным.
Сказанное можно переизложить в другом ключе. Происходящее в ситуации считать повторением опыта Майкельсона − Морли − одновременно и независимо − двумя экспериментаторами: дежурным и пассажиром. Такое − вполне корректно! Просто эти ребята облекают опыт в иную форму − сравнительно с той, в какую облекли Майкельсон с Морли, но суть его остаётся та же. Ну, в смысле, суть его − в попытке обнаружения эфирного ветра, а пытаться можно и в ориентации на приход света к вагонным торцам: если к обоим приходит в один момент, то эфирного ветра нет, если не в один (то бишь неодновременно), то эфирный ветер есть. С пассажиром тут всё устраивается просто: часовые механизмы, способные фиксировать момент попадания на них света, синхронизируются в центре вагона и медленно разносятся к торцам, − по ним пассажир и сможет судить об одновременности прихода к торцам света от лампочки, которую зажжёт. С дежурным дело сложнее, но тоже всё преодолимо: синхронизируются и разносятся к торцам часовые приборы, способные послать дежурному радиоимпульс в момент попадания на них света лампочки. Тогда и дежурный может считаться постановщиком опыта Майкельсона − Морли за счёт начинки того уходящего от него вагона: зная длину последнего (то есть − величину разнесённости часовых механизмов на прямой, соединяющей его и их), он может рассчитать время запаздывания к нему радиоимпульса от переднего торца − сравнительно с радиоимпульсом от заднего, при положенности, что импульсы отосланы в один момент. Если − по его часам − время запаздывания равно расчётному, он вправе будет сделать вывод об испущенности импульсов в один момент (и, значит, отсутствии эфирного ветра), если же часы его обнаружат отклонение от расчёта, то вывод − о неодномоментности испуска импульсов и, значит, присутствии эфирного ветра, заставившего свет лампочки прийти к торцам именно в разные моменты (на идущие же − к дежурному от торцов − радиоимпульсы эфирный ветер будет влиять здесь одинако, в силу их хода по отношению к дежурному в одном направлении, отчего разность времён их прихода он исказить не должен). Вот и всё.
Ясно, что такая механизация делает дежурного ничем не отличающимся от пассажира: ну, в смысле, позволяет ему происходящее в вагоне обхаживать ничуть не хуже, как то делает пассажир. И, стало быть, если последний найдёт приход света к торцам одновременным, то таковым его должен будет найти и дежурный. Простота!
То есть что? Савельев − при разборе ситуации − обязан видеть в дежурном невольного постановщика опыта Майкельсона − Морли. Но не видит! Видит такового лишь в пассажире (во всяком случае, незаметно от себя держит его за такового), и фактическую обнаруживаемость тем пассажиром отсутствия эфирного ветра − исправно констатирует (в форме заявки, что свет лампочки достигает для пассажира торцов одновременно). В дежурном же, повторяю, не видит, и потому незаметно позволяет себе "передёрнуть": в делании − об эфире − выводов из проведённого дежурным (с помощью пассажира) опыта Майкельсона − Морли (а именно сим Савельев фактически занят, проводя для нас вторую часть анализа ситуации с вагоном, пассажиром и дежурным!), – в делании этих выводов использует уже сделанность их, исторически имеющуюся за счёт опыта самих Майкельсона и Морли. Другими словами, в доказываемости чего-то − незаметно использует доказанность этого чего-то!
Так сказать, в трактовке происходящего в опыте дежурного − на пол-пути перестаёт заботиться вопросом эфирного ветра (может себе такое позволить: никакого опыта ведь вроде не проводится). То есть что? В одной составляющей того опытного наполнения − заботится о вопросе эфирного ветра (там, где дело касается дежурного, его отношений со светом лампочки), а в другой составляющей − нет (где дело касается вагонных торцов − и́х отношений со светом лампочки). Тем самым совершенно правильно − как производную от отсутствия эфирного ветра! − констатирует выдаваемость светом лампочки одной и той же скорости в любом направлении своего движения относительно дежурного, однако затем, в отталкиваемости от этого, фактически вводит эфирный ветер в мироздание обратно: соотносимость света лампочки с торцами неназванно подаёт тою, какая была бы при наличке как раз эфирного ветра. Не соображая, что свет не тот агент, в соотносимости с которым возможно отделить перронного дежурного от вагонных торцов! В некий момент взяв его и их за что-то разное по отношению к нему. Не допёр, что для света они все − в достаточном смысле одно и то же: просто возмущённый эфир как некое целое, относительно которого он движется.
Но более того! Возможна и сверхдостаточная логика − против рассуждений Савельева. Ну, достаточная − это та, что мы только что приводили. По которой рассуждения Савельева − неправильны. А сверхдостаточная − это могущая против Савельева быть, ежели считать его рассуждения правильными.
Итак, сверхдостаточная. В теории споров есть понятие подмены тезиса. Именно такую подмену Савельев неосознанно и производит! Какие, нафик, события, об одновременности или неодновременности коих можно судачить? По крайней мере, не мéнее уместно считать, что фигурирует тут фактически одно событие: достижение светом торцов. И если для кого-то он их достигает в один и тот же момент, то для кого-то другого, соотносящегося с ними иначе, достигает в разные моменты, исправно отображая эту иную соотнесённость, − какая же тут нарушительность одновременности? Событие, из-за разного позиционного поведения к нему наблюдателей, соответственно и происходит для них по-разному, только и всего.
Наконец обратимся к самому Эйнштейну. Вот его статья "К электродинамике движущихся тел". Там он сначала разводит представления о необходимой синхронности часовых механизмов. Совершенно справедливо, ибо как иначе сравнивать время в разнесённых точках пространства? Нет, иначе, быть может, как-то и можно, но и с помощью синхронных часов, помещающихся в таких точках, тоже можно. И заслуга Эйнштейна, что он конкретно поставил вопрос такого сравнения, и дал по крайней мере один путь решения этого вопроса. Часовые механизмы на синхронность предложил тестировать светом. Разработав процедуру, по которой свет составляет такой тест. Подразумевалось, что свет отличается завидным постоянством хода, − как же его не взять инструментом!
Итак, пространственно разнесённые часовые механизмы, первый и второй, обмениваются световым сигналом: свет идёт от первого ко второму, затем отражается от него назад к первому. Механизмы предлагалось считать синхронными, ежели наблюдается равенство двух интервалов времени, один из коих получается вычетом показаний первого механизма (на момент ухода от него света) из показаний второго механизма на момент отражённости от него того света, а другой − вычетом этих показаний второго (ну, которые у него на момент отражённости) из показаний первого в момент прихода к нему того отражённого света. Правильно, ведь из-за постоянства хода света − его обращаемость в ту и другую стороны суть одно и то же, так что на неё эталонно можно равняться.
Далее Эйнштейн предлагает рассмотреть синхронность часовых механизмов, располагающихся на концах жёсткого стержня, движущегося относительно нас. Рассмотрим, пока независимо от написанного им по этому поводу. Такой стержень с часами − что вагон с торцами из примера Савельева, как ясно. С тем что мы здесь − аналогичны дежурному там. То есть, возможно продублировать логику Савельева – воссоздать её для случая стержня. Что и сделаем – в предвосхищение того, что неискушённые читатели могут употребить здесь эту логику всерьёз.
Итак, такой движущийся относительно нас стержень − для нас фактически то же, что тот вагон с торцами для перронного дежурного. И по логике Савельева, так с нашей точки зрения на часовые механизмы, − аналогично тому, что было в точке зрения перронного дежурного на торцы, − второй по ходу движения механизм будет убегать от света, идущего к нему с первого, а первый − двигаться навстречу свету, отражённому вторым. В результате этого, свет от первого ко второму окажется для нас идущим дольше, чем от второго к первому, и временны́е интервалы, исчисленные по показаниям их циферблатов так, как разбиралось выше, не будут пред нами равны. Что означает несинхронность для нас тех часовых механизмов. Для наблюдателей же, сидящих на стержне, каждый рядом с одним из часовых механизмов, последние будут синхронны: те наблюдатели к идущему туда-сюда (меж часовыми механизмами) свету в том же положении, в каком Майкельсон с Морли были к свету, гулявшему туда-сюда по продольному плечу их прибора. То есть движение стержня − с точки зрения таких наблюдателей не изменит времени прохода светом промежутка меж ними, когда свет пойдёт по нему обратно, и интервалы времени, что вычисляются за счёт показаний часовых механизмов на предложенные Эйнштейном ключевые моменты, оттого явятся тем наблюдателям одинаковыми. А часовые механизмы, стало быть, синхронными.
Что же из всего этого следует? Да если в пятнадцать часов, по циферблату первого часового механизма, произошло некое событие рядом с ним, а рядом со вторым − другое событие и тоже в пятнадцать часов по его циферблату, плюс часовые механизмы сверены, то наблюдатель возле каждого найдёт те события одновременными (в силу синхронности механизмов имея право верить одинаковости их показаний). Мы же, не участвующие в движении стержня, должны по этим данным находить те события неодновременными, поскольку для нас часовые механизмы несинхронны и, значит, одинаковость их показаний означает разные моменты времени.
Ура, заявил бы на это Эйнштейн, одновременность у событий мира − относительна, меняется от точки зрения имеющих друг к другу некую скорость наблюдателей (ну, инерциальных систем отсчёта: ведь наблюдатели на стержне представительствуют одну такую систему, а мы, стоящие на земле и смотрящие на тот движущийся стержень, представительствуем другую).
Но это Эйнштейн, тогда как нашему читателю ясно, что применить здесь критику логики Савельева, разведённую нами выше (ну, для случая с перронным дежурным), и часы для наблюдателей, мимо которых проходит стержень, теряющими синхронность не предстанут.
А в порядке сверхдостаточной критики можно ещё заявить, что даже если и предстают (в допущение правильности логики Савельева), так этакое лишь означает, что свет − недостаточно годный инструмент в процедуре выявления синхронности часовых механизмов, ежели выявлять приходится из положения наличия относительной к ним скорости. По законам логики, такой взгляд − более строгий, нежели эйнштейновский. А выразиться в обратном ключе, то эйнштейновский − инфантилен сравнительно с ним.
Другими словами, ежели кому-то часы, вопреки нам, кажутся несинхронными (такая уж у него "система отсчёта"!), то это ещё не значит, что они для него действительно несинхронны. Мало ли кто, как и за счёт чего иллюзирует! Предстают несинхронными на основании света, так бери и опирайся на другие пути обнаружения их синхронности (природные явления, инструменты и прочее, что составляет такой путь), − может, и сподобишься выйти на избавляющий тебя от нынешней иллюзии. Вот чего не захотел допускать Эйнштейн, будучи подсознательно в плену у идеи абсолютизации относительности.
Но обратимся к тому, как сам он, Эйнштейн-то, рассматривает всё это в своей статье. Написанное им приводим со следующего абзаца.
"Предположим далее, что на обоих концах стержня (А и В) укреплены часы, синхронные с часами покоящейся системы, т. е. что в любой момент времени их показания соответствуют "времени покоящейся системы" в тех точках, где находятся эти часы. Таким образом, эти часы "синхронны в покоящейся системе".
Представим себе, далее, что около каждых часов находится движущийся вместе с ними наблюдатель и что эти наблюдатели применяют к обоим часам сформулированный в §1 критерий синхронности хода двух часов. Пусть в момент времени t Aлуч света выходит из А, в момент времени t Bон отражается в точке В, а в момент времени t' Aвозвращается в А. Учитывая принцип постоянства скорости света, находим t B− t A= r AB/ c− vи t' A− t B = r AB/ c+ v, где r AB− длина движущегося стержня, измеренная в покоящейся системе. Итак, наблюдатели, движущиеся вместе с движущимся стержнем, должны обнаружить, что часы в точках А и В не идут синхронно, в то время как наблюдатели в покоящейся системе должны утверждать, что часы синхронны.
Итак, мы видим, что понятию одновременности нельзя придавать абсолютноезначение, а два события, которые при наблюдении из одной системы координат являются одновременными, уже не могут считаться одновременными при рассмотрении из системы координат, движущейся относительно первой системы..."
Что сказать? Да просто обалдевательно! Во-первых получается, что во время написания этой статьи молодой Эйнштейн недопонимал суть опыта Майкельсона − Морли, в котором движущаяся по орбите Земля − фактически как раз такой стержень, точки А и В которого − переднее и заднее зеркала продольного плеча сконструированной для опыта установки, а сами Майкельсон с Морли − те эйнштейновские наблюдатели при часах. И так как Майкельсон с Морли не обнаружили разницы в движении света меж теми зеркалами в прямом направлении сравнительно с обратным, почему тогда наблюдатели на стержне Эйнштейна должны обаружить?! А во-вторых, это всё заранее выступает беспредметным разговором по причине, что часовой механизм со стержня заведомо не может быть синхронен с часовым механизмом покоящейся системы, как то изначально потребовал от них Эйнштейн. Сам критерий синхронности, предложенный Эйнштейном в §1, упирает нас в это: поскольку постоянно изменяется расстояние между такими часовыми механизмами, то путь света меж ними в обратном направлении заранее обещает быть неравным его пути в прямом, что обернётся неравенством времён прохода, коль скорость света постоянна, и, значит, несинхронностью тех часовых механизмов.
Правда, сам ход врéмени теперь понятие относительное, и это даёт заявку на спасение: пусть часы В − покоящиеся (то есть одни из "часов покоящейся системы"), а движущиеся − часы А (то есть одни из часов эйнштейновского стержня), и стало быть, они постоянно всё больше отстают от часов В, отчего их показание t' Aне будет таким большим, каким было бы, оставайся они неподвижными, и разность t' A− t Bокажется заниженной (а потому, быть может, и равной t B− t A). То есть с момента испускания света часами А в сторону часов В − расстояние между ними увеличивалось, и свету пришлось бóльше времени затратить на путь от В к А, нежели от А к В, однако часы А это, что называется, проспали. «Проспали» эти дополнительные затраты времени светом! Вот так, чисто «на пальцах», рассуждаем в направлении несдачи в утиль эйнштейновского критерия синхронности неподвижных друг относительно друга часов. Ну и получаем лишь расстановки качеств, а не количеств. Количества я лично расставить сейчас не берусь. Эйнштейн тоже не расставил. Тем критерий синхронности часовых механизмов из инерциальных систем отсчёта, имеющих относительную одна к другой скорость, считается неразработанным. Ну, то есть, способ синхронизации − ненайденным.
Впрочем, даже если бы количества оказались расставляемы природой так, что разность t' A− t Bздесь была бы равной t B− t A, о синхронности часов А с часами В говорить всё равно было б нельзя. Ибо что такое синхронность часовых механизмов? Это одинаковость их хода (ну, одна и та же скорость вращения шестерёнок, а в конечном счёте − стрелок). Но ведь для часовых механизмов с относительной друг к другу скоростью выступает наперёд, что называется, заданною как раз неодинаковость их хода − из-за разноходности для них (в сути − для их шестерёнок) самого времени. Иначе преобразование Лоренца − чушь! Так о какой же синхронизации таких часов можно заводить вообще речь?!
Так что же, относительности одновременности нет? Ну, я бы так не говорил, коль она выступает одним из математических следствий из преобразования Лоренца. Только вот продемонстрировать её себе − как некую происходящесть в мире, оказывается непросто. Даже и в мысленном эксперименте! Труднее, чем представлялось Эйнштейну и последователям. Причём причина затрудняемости − принципиальная! Ну, в смысле, основывается на негодности эйнштейновского критерия синхронности часовых механизмов, выстраивающегося на базе хода света меж ними.
Так же, кстати, дело и с демонстрацией сокращения длины − как другого математически находимого следствия из преобразования Лоренца. В отличие от таких следствий, как замедление времени в движущейся и.с.о. с точки зрения покоящейся, и увеличение − с этой же точки зрения − масс тел, покоящихся в той движущейся системе. Эти следствия экспериментально (читай: демонстрационно) вполне реализуемы.
В качестве примирения, на наш взгляд, надо несколько пересмотреть понятие относительности одновременности. Ведь брать фактически, так оно звучит как физический принцип! А является ли относительность одновременности принципом? Посему давайте пристальней вглядимся в суть математического следствия, которое так вот громко нарекли.
Из преобразования Лоренца математически лишь вытекает, что события, одновременно произошедшие в разных пространственных точках покоящейся системы отсчёта, в движущейся относительно неё системе теряют эту одновременность. Поскольку разность их временны́х моментов оказывается там не равной нулю, в отличие от такой у них разности в покоящейся системе. Не равной нулю, а равной выражению (x 1B− x 1A) γ v/ c 2, где x 1Aи x 1B− координаты пространственных точек A и B в покоящейся системе (как точек, в которых происходили одновременные события), а γ, vи c− соответственно лоренцев множитель, относительная скорость систем отсчёта и скорость света в вакууме. Можно сообразить, что такое вовсе не означает относительности одновременности как некоего общего принципа. Она была бы им, только если бы в движущейся системе отсчёта пропадала одновременность и событий из одной точки пространства. Ну, в покоящейся системе произошедших одновременно в одном неком месте. Но этого нет! Как вытекает из приведенного выражения, события теряют одновременность из-за того, что происходят именно в разных точках пространства: происходи они в одной (x 1B= x 1Aкак совпавшесть точек A и B), то выражение становится равным нулю, означая сохранившесть событиями своей одновременности. И потому надо говорить не об относительности одновременности (это слишком громко!), а лишь о пространственной скособочиваемости хода времени в движущейся системе отсчёта: время в ней, с точки зрения покоящейся системы, одним, так сказать, своим пространственным боком идёт выраженней, чем другим. При том что в целом замедляется. Из чего получается, что в одной её пространственной стороне замедляется меньше, чем в другой, − для той покоящейся системы. Другими словами, в разных точках пространства у движущейся системы время течёт разномерно − с точки зрения покоящейся системы. Но и только! Не меньше, то есть, но и не больше, как то хотелось видеть Эйнштейну.
Пользоваться критерием Эйнштейна (из §1) с полноцéнным использованием результатов Майкельсона – Морли, так разнесённые часовые механизмы не теряют синхронности для наблюдателей, относительно которых движутся, пребывая относительно друг друга в покое. Но, возможно, теряют её по какому-либо другому (пока неясному) критерию? Коль должны́ таки потерять её для этих наблюдателей − согласно следствию из преобразования Лоренца! Тогда сделай тот неясный критерий ясным, и "кособокость" времени касательно точек прибывания тех часовых механизмов будет у недвижущихся с ними наблюдателей продемонстрирована.
Или же причина исчезания одновременности − для движущейся системы − у одновременных событий из разных точек покоящейся системы − суть более глубокая, нежели способная быть выявленной потерей − для той движущейся − синхронности часами в тех точках (как показывающими в них одинаковое время)? Ну, то есть, речь о причине, более погружённой в понятие пространства и времени, что ли...
А ещё вопрос, почемý пространственная скособоченность времени (у движущейся системы отсчёта) "не хочет" экспериментально демонстрироваться покоящейся системе? Как "не хочет" ей этак демонстрироваться и сокращаемость размеров тел той движущейся системы − по линии её скоростного вектора! Это в отличие от того, что замедление времени и возрастание массы у тех тел – хорошо демонстрируют себя покоящейся системе. Что тут сказать? Причина видится в том, что в демонстрации замешана разность: или пространственных координат двух концов стержня, или таковых координат точек с одновременными событиями. Ну, то есть, пространственно-временна́я трансформация на базе разности – оказывается для эксперимента далеко не тем же самым, что пространственно-временна́я трансформация сама по себе.
В связи со всем этим наговоренным − стоит в самом общем смысле разобраться, чтó есть СТО. Она есть постулированность принципа относительности для инерциальных систем отсчёта, да при постулированности наличия − в качестве закона природы − чего-то с предельной для природы скоростью, тем самым получающегося независящим в своей скорости от систем отсчёта (коль скоро во всех их законы природы одинаковы). На роль этого "чего-то" чисто экспериментально напросился свет, и тогда, при постулятивной заодно подразумеваемости однородности времени с однородностью и изотропностью пространства, преобразование движения для и.с.о., связанных относительной скоростью, вынуждено оказаться преобразованием Лоренца (вообще найденным Лоренцом по другому поводу − ну, в отправление других теорфизических стремлений). То бишь преобразование Лоренца − форма преобразования движения, адекватная изложенным вводным, вне зависимости от того, для чего оно искалось самим Лоренцом. Другими словами, задаваясь этими вводными, мы попросту переоткрываем преобразование Лоренца. А преобразование движения здесь − в смысле переувязывания движения объекта с одной инерциальной системы отсчёта на другую... И вот, этак "переоткрыв" преобразование Лоренца, далее находят все математически возможные из него следствия (ну, выкладки из него для всяких наличностей в инерциальных системах отсчёта, им связанных). А затем каждое из следствий смыслопроявляют: что-де оно − как форма математической преобразованности − означает для физики? И вот тут-то и "собака зарыта"! Смыслопроявляют-то в меру достигаемой абстрактности подхода! У задействованных авторов − во главе с Эйнштейном − вышла определённая абстрагируемость и соответственно определённая проявленность, только и всего. Вполне тем подразумевающая возможность и другой. Нашей, например.