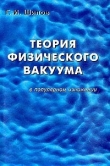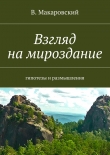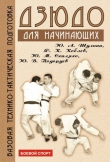Текст книги "Релятивистская механика: новый взгляд по-старому"
Автор книги: Виктор Ткачёв
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Повторимся, в который раз, что отказавшись от эфира, Эйнштейн, однако, перенял всё, что даёт эфир свету. Потому-то и смог «родить» о нём, свете, постулаты, правильно отражающие действительность. У нас же абсолютность скорости света может считаться даже предсказанием, логически вытекающим из теоретических построений при четвёртом постулате. Предсказанием! Которое благополучно подтверждается результатом опыта Майкельсона − Морли. Ну, начинает подтверждаться, − лучше так скажем. Ведь Майкельсон и Морли только начали перебор всяческих наших физических позиций касательно света, различия которых нивелируются абсолютностью его движения. Начали в лице первых двух: нас как испускателей света вдоль своего движения со скоростью 30 км/сек (считая за нулевой фон все прочие наши скорости, куда входит, к примеру, скорость перемещения вместе с Солнцем по галактике), и нас как испускателей света поперёк своего движения на той же скорости. Упомянутая же скорость 30 км/сек − скорость орбитального движения Земли, несущей нас и наши приборы, − если кто того не знает.
Итак, скоростная абсолютность света выступает у нас предсказанием. Логическим производным из наличия постулированного эфира. Именно на такие идеи срабатывает это наличие − благодаря новизне понимания того, чтó постулируется под именем эфира. На идеи, повторяю, абсолютизации световой скорости, дающие парадоксальное "поведение" света касательно нас как материальных тел.
Тогда даёшь Нобелевку, как говорится! В самом деле: предсказание теории есть, и есть эксперимент, это предсказание подтверждающий. Что из того, что сначала был эксперимент, а потом предсказание! Это означает лишь, что результаты того эксперимента век с четвертью "пролежали в кладовке". Точнее, использовались, но неадекватно, − навроде забивания гвоздей увесистым калькулятором. А мы этому "калькулятору" наконец дали причитающееся использование.
Ладно, без шуток. Опора на факт "нового эфира" действительно предсказывает скоростную абсолютность света. И опытом Майкельсона − Морли она в самом деле начально подтверждена. Но... именно что только начально. Для полной же подтверждённости её таким путём − потребуется бесконечное число экспериментально перебратых вариантов. Это во-первых. А во-вторых, доказательство посылки через отрицательный результат опыта (ну, через необнаруженность в опыте чего-то, что в соответствие с той посылкой и не должно быть обнаружено) − такое просто не котируется в физике как науке. Разведи Эйнштейн теорию, из которой вытекало бы, что луч света вблизи абриса Солнца не дóлжен отклоняться, и обнаружся это при полном солнечном затмении в 1919 году, хрен бы за это дали Нобелевку! (Формально-то её дали ему за другое, но фактически за это, или я ничего не понимаю в людях.)
Сколько уж сказано, но об абсолютности системы отсчёта, связанной с «новым эфиром», мы всё равно ещё самоудовлетворительно не выговорились. Так выговоримся.
Прежде всего − она абсолютна естественным образом, а не как-либо! Естественным − именно благодаря своей увязанности с эфиром. Который на роль абсолютной отсчётности "западает" автоматически − как супернаполнитель природы.
Далее. Это некое внутреннее свойство эфира задаёт световую скорость пределом скоростей физического мира (или сказать − пределом физической скорости). Ставя колебания эфировой квазиповерхности − как световую волну − в ранг прима-балерины мира. Что это за свойство? Да наличка предела перемещаемости эфира относительно самого себя (или сказать − перемещаемости эфира в самом себе). Ну, то есть, "частей" его относительно друг друга.
"Старый" эфир при играемости роли абсолютной системы отсчёта был слишком овеществлён, если можно так выразиться. Ну, в переносимости собою этой системы был слишком овеществлённым понятием. Как понятие, то есть, слишком близким к понятию вещества. Оттого и "лишился головы". Ну, "овеществлённость" та его стала физикам мешать, пусть даже и не осознаваемая как таковая. Это главная (и скрытая!) причина отмены эфира, а вовсе не неявка его нам "ветром" в эксперименте. Последнее только повод для отмены, охотно воспринятый без должной проанализированности.
Тут напрашивается выразиться таким манером: преобразование Лоренца как то, что между системами отсчёта возникает из-за абсолютности световой скорости, фактом своего наличия заставляло или отменить эфир (и далее всё равно фактически использовать его, только "не называя по имени"), или на ступень поубавить его "вещественность". Стихийно так сложилось, что пошли физики по первому пути.
Мы же "вспомнили" о пути втором. У нас − реанимация светоносного эфира как абсолютной системы отсчёта для физического мира, но уже на новом уровне представлений о самом эфире. Как кажущемся фиктивным блоке мироздания. Из природы которого объяснительно вытекают все известные свойства движения света и материальных тел.
А в порядке первого пути эфир, как необходимое физике понятие, начально отменил Эйнштейн − через СТО, и отменил как раз в форме, выступающей неявным утверждением того понятия − как единственно и могло только быть, и что мы уже всячески демонстрировали выше. Ну, отменил в увязке отмены с постулатами абсолютных световых свойств, а такая увязка непроявленно и есть утверждение эфира (только "нового").
Постулат пятый.Поступательное движение любого мат. тела − это всегда движение эфира в самом себе. При самом большесчётном подходе к мирозданию, конечно.
Некое внутренее свойство эфира задаёт световую скорость как предел скоростей физического мира, и фактически сей предел есть форма выраженности предела интенсивности у перемещаемости эфира в самом себе. Ну, то есть, какой-либо его "части" относительно "остального" его. Это мы уже недавно отмечали. Но теперь далее. Внутреннее свойство эфира, задающее такой предел его переместительности в самом себе, может быть обозначено как квазивязкость.
Пусть есть некая выделившаяся в эфире часть, начавшая в нём поступательно двигаться. Ну, локальная самовозмущаемость эфира выступает во всём этом как выделитель. Тогда из-за наличия у эфира определённой "вязкости" та часть рано или поздно подходит к такой величине своей скорости, на которой той "вязкости" уже не хватает, чтоб поддерживать ту часть в качестве выделенности. То есть последняя попросту сливается с эфиром обратно, переставая существовать как таковая (так что и о скорости её говорить теряет смысл).
Такие "выделившиеся части" − эфировороты. Ну, то есть, эфир выделяется в своих частях за счёт локального кругового вихрения. Оно ведь − наиболее представительская форма его самовозмущаемости! Итак, эфировороты: элементарные или составные. Элементарные предстают элементарными частицами материального мира, а составные − его макротелами. Насколько я информирован, все элементарные частицы, известные поныне, имеют спин. В моих глазах это базовое доказательство "эфироворотности" их природы, частиц тех. С тем добавлением, что имеемость элементарной частицей спина − это не вращаемость её − уже готовой − вокруг своей оси, как наивно мыслится физикам ныне, а попросту фиксируемость нами "делаемости" частицы эфировращением. Фиксируемость самости по себе той эфировращательности, которая "содержит" эту частицу. Фактически и являясь нам ею, как таковою. То есть обнаружение спина элементарной частицы − это попросту неизбежная фиксация явления берущести себе эфиром формы, формы в лице конкретнолокальной своей завращавшести в себе.
Так что, благодаря конечности величины квазивязкости эфира, никакой эфироворот не может сохранить себя на некой критически большой скорости своего перемещения в эфире. Это базовая смыслопосылка, вокруг которой далее у нас всё будет крутиться. Так сказать, вихрь размывается своею поступательною скоростью, и на этом явлении всё замешано.
По части же понятия "эфироворот" − пойдём дальше. Поскольку реален только эфир − в последней инстанции подхода к миру, − то мат. тела, получается, обладают лишь реальностью формы (будучи эфирными вихреформами, бесконечными в своей множественности). Реальны, то бишь, лишь настолько, насколько реальна форма конька у куска глины помимо него, того куска (ну, когда такую фигурку из него слепить). Впрочем, это пока аналогия лишь первого приближения. Там дальше у нас пойдут приближения большей степени.
А связь с ирреальностью у формы рукотворной глиняной фигурки, затронутая приведенной аналогией, станет ещё пронзительней, ежели добавить следующее: по большому счёту они одинаково "просто кусок глины" − что глиняная фигурка, сделанная мастером, что природный кусок глины того же веса и объёма (ну, тот же кусок глины дикой, а не культурной формы, то бишь). То, о чём принято выражаться "бесформенный кусок глины", на самом деле тоже имеет некую вполне фиксированную форму − только что естественную, а не искусственную. Я всё думал, чем же они отличаются, первая от второй-то? Вторая сложнее? Да нет, природные куски бывают весьма забористых форм − математически описать такую уж никак не легче, чем форму того же рукотворного конька, к примеру. Тогда чем же? А энтропия формы конька меньше, чем то у природной формы такого же куска глины, − только этим отличаются формы. Но это лишь к слову, потому что ничего не меняет: пусть энтропия формы природного куска больше, но форма-то у него всё же есть − точно как и у окультуренного куска, а это главное.
То бишь, форма есть просто бесплатный (потому что принудительно наличный!) атрибут куска глины как реальности − этакий привесок последней, реальный в смысле лишь падения на него её "отсвета".
Тем самым, мат. предметы допустимо считать просто некими образами, которые "протягиваются" через эфир, когда в нём передислоцируются. Ну, в смысле, возникают в лице всё новых и новых участков эфира. Реализуются за счёт всё новых и новых его участков, покидая старые как свой носитель. Так что получается: эфир свежий, сменившийся, а образ всё тот же.
Теперь о механизме "размывания" вихрей − их передвигаемостью в эфире. Эфиру (в лице пространства как своего форпоста в природе) всё труднее − по мере возрастания скорости пробного тела − догонять в себе то тело, в смысле что заново воспринимать (подтверждая!) его вихревую форму − в компенсацию происходящих её смещений. И вот, когда два мат. тела норовят поиметь взаимоотносительную скорость, превышающую световую, Вселенная заставляет их выступать друг для друга "просто эфиром", теряясь одно для другого в качестве формы. Заставляет на столько, сколько того надо, чтоб скорость та оказывалась (ну, оставалась) хоть чуть да меньше световой. Эта происходящесть отражает собой то правило, что эфир в самом себе не может сдвигаться выраженнее некой заданной величины, определяющейся его квазивязкостью.То есть эфир − через посредство своей неразрывающейся целостности − «ведёт счёт» необходимости подобной ограничиваемости материальных тел − как своих вихрей. Автоматически тем к ним выступая «системой отсчёта в последней инстанции».
То есть что? Среди систем отсчёта для мат. образований естественным образом выделяется одна − вытекающая из самой их происходимости, тех образований. От характера своего происхождения им ведь никогда и никак не отвертеться − оно всегда с ними! Мат. образования в любой своей активности отсчитываются от того, от чего произошли, то бишь от своего "корня", и корень этот − эфир. Причём корень такой для тел − не что-то прошлое, послужившее им и отмершее, а их сегодняшнесть, вполне выявляющаяся, ежели вооружиться самою последнею инстанцией подхода к ним.
Повторимся. Ежели в первом теоретизационном приближении, то какая-либо выделенная часть эфира в принципе не может относительно "остального" его сдвигаться выраженней той её сдвигаемости, что оборачивается нам перемещаемостью материального − в лице той части − объекта со коростью, минимально меньшей за световую (а если совсем строго, то за скорость той световолны, что "летит" тогда рядом с этим сверхбыстрым мат. телом). Минимально же меньшей − здесь в смысле, что какой бы промежуток времени вы ни взяли, та выделенная эфирова часть покрывает за него расстояние, всё ж на квант длины меньшее, чем покрыл свет (тут, как ясно, чем больший промежуток времени берёте для сравнения скоростей, тем ближе к световой оказывается скорость мат. тела, асимптотически приближаясь к ней при устремлении того промежутка к бесконечности; другими словами, "квант скорости" как понятие оказывается некорректным, в отличие от "кванта длины" как понятия). Свет − тоже материальный объект, самый начальный, потому-то именно он и задаёт подобную рубежную скорость. Сдвигайся та выделившаяся часть со световой интенсивностью, то оказалась бы распавшейся как выделенность. Принудительно влившейся обратно в эфир − с потерей свойств чего-то выделенного в нём. Или, что то же самое, оказалась бы выделенной за счёт всегó эфира.
Когда два мат. тела достаточно разогнались одно относительно другого, то, выражаясь антропоморфно, эфир вспоминает, что в лице каждого из тех тел − он сам, должный блюсти определённые внутренние ограничения. Ограничения, заложенные в самой его природе, а значит − без которых он просто не существует (и в той своей заложенности в нём − ограничения замешаны в первую очередь на квазивязкости, как части той эфировой природы). Коли б взаимоотносительная скорость тех двух тел превысила световую, то это, в описанном раскладе, означало бы прекращение самого существования эфира: он неявно перестал бы быть эфиром! В том смысле, что "вышел бы из самого себя", но океан ведь не может излиться из себя, ежели изливаться ему некуда, кроме как в себя же, − а именно таким "океаном" является эфир!
Заостряем. У устремившихся друг к другу мат. тел "лишняя" часть перемещаемости автоматически замыкается на весь эфир, тем как бы отнимаясь у них. Эфир имеет такую техническую возможность, потому что любые части его, любым образом в нём разнесённые, по большому счёту составляют с ним − и друг с другом − одно целое.
Итак, двигаясь в себе частями, эфир как целое ни при каких обстоятельствах "не забывает" учитывать эти части, в смысле что "не выпускает их из виду", не выпуская из себя как целого.
И под конец надо добавить следующее: требование перемещаться "минимально медленнее света" относится к частям эфира, выделившимся в нём в качестве вихрей, с тем что "остальной эфир", относительно которого то перемещение как раз происходит, это затравочно возмутившийся в себе эфир, ставший оттого физическим вакуумом.
Но это мы всё не касались главного, для чего был понадобился пятый постулат. Главная нужда в нём − объяснить такое фундаментальное свойство мат. тел, как инертность. Вот наработками в сей бок далее и займёмся.
Главная наработка в том, что пространство − как начальная степень возмущённости эфира − есть некая совокупность эфирных недовихрей. То бишь эфир вихрится, но каждый раз незамкнуто, когда эфироворот "уже почти был, но так и не стал", − вот эфирная этакость и оказывается зачаточной материей в лице пространства. Пространство как мириады таких "возникающих почти до возникнутости, а затем распускающихся" микроэфироворотов. Современные физики их уже приметили, по крайней мере ментально, − в лице того, что обозвали виртуальными частицами (надо полагать, элементарными при том). Превращаясь в виртуальные частицы, эфир − атрибутивно тому − "спускается" к вещественным предметам "с высот четвёртого измерения".
Надо сказать, пространство как недоматерию можно попросту увидеть. Ну, как-то там ощутить "эфирным зрением". Собственно, это обычная шаманская практика, хотя и не каждый шаман понимает, чтó он видит. Имею в виду особое человеческое ощущение или квазиощущение, по привычке выстраивающееся в ключе зрительной модальности (ну, аналогично её наполнителям). Мне лично такое пару раз смутно удавалось (не специально, конечно, − то был бы скорей всего самообман − на базе ощущенческой "накрученности" себя в сторону ожидаемого, − а удавалось по наитию, когда того совсем не ждёшь, а оно само приходит, как говорится). На месте привычной пространственной пустоты становится вдруг что-то вроде вязкого киселя. Причудливо мерцает, выступая тобою и не тобою сразу. Это зачаточно организованные энергии вакуум-пространства играют для тебя. Но такое − доказательство из области парапсихологии, а потому для "серьёзной " науки вовсе и не доказательство. И привожу его потому только, что каждый может попробовать: ежели быть в психоподспуде соответственно настроенным − благодаря почерпнутому в тексте знанию, то может получиться − не боги ведь горшки обжигают, как известно. А получится, так вся научная "серьёзность" отступит для вас на второй план, кто бы вы ни были. Тем и окажется, что вроде бы не доказательство, а доказательней не бывает. То есть в чём хитрость? Чем больше наличных физиков освоит намеченную психопроцедуру, тем более доказанной для современной физики окажется "вещественность" пространства, несмотря на недоказывавшесть.
Вот так. Ну и чем же тогда окажется движение законченной материальности − в лице мат. тела − через такую зачаточную материальность в лице пространства? А движением в абсолютной − благодаря её всеприсутности − среде, которая способна оказывать сопротивление движению! И, значит, в виду которой мат. тело движение своё имеет реальноотносительным.
Реальноотносительным? Ну, любое установление скорости мат. тела относительно невозмущённого эфира − виртуальность. Или: любая относительность мат. тела к такому эфиру по скорости − виртуальна. Когда у относительности способность иметься лишь как таковою: она перманентно неизменна, как то тело по скорости ни поверни. А всё из-за "залегания" невозмущённого эфира там, куда ведёт пресловутый четвёртый перпендикуляр. Скоростные же отношения с прострáнством у тел − другое дело. Всё-таки оно − зачаточная материя, не то что полностью невозмущённый эфир. Свою скорость к такой штуковине мат. тело уже способно выстраивать разную. Вот это и понимаем как реальноотносительность.
То есть от эфира как абсолютной системы отсчёта нам, так сказать, мало проку − всё равно не можем от него реально отсчитаться. Другое дело − пространство: касательно него как-то там это уже можем. Только сообразить как! То есть пространство представительствует эфир как абсолютную систему отсчёта, − вот что получается. Сам по себе эфир, без пространства, не смог бы быть такой системой − по причине, что система отсчёта он сверхабсолютная, если можно так выразиться. То бишь срабатывает известное народное: "очень хорошо − тоже нехорошо!"
Оно ещё лоренц-инвариантность − когда появилась − недвусмысленно, на наш взгляд, указывала на наличие абсолютной системы отсчёта в лице пространства − как того, чего преобразование Лоренца единственно касается (происходя именно в нём для тел и систем отсчёта, а значит − лишь ему фактически адресуясь). Это преобразование Галилея ничего, кроме двух соотносимых разноскоростных систем отсчёта собой не подразумевает, а преобразование Лоренца своей "фигурностью" (ну, нелинейностью) как раз подразумевает, если вдуматься, нечто третье, равно стоящее над теми двумя соотносимыми системами. Разве не так? Иначе почему сложение скоростей систем отсчёта не оказывается простым сложением − когда задаёмся целью привести скорость тела к другой системе отсчёта (нежели та, по которой мы ту скорость знаем)? Ну, то есть, почему пересчёт скоростей тел между системами отсчёта теряет линейную (читай: галилееву) форму? Нечто, значит, действует, заставляя терять! Или спросить, на чтó возникающая нелинейность ориентируется в своём возникновении и виде? На что-то ведь должна! Вот это "что-то" и есть − в её незаметности на первый взгляд − абсолютная система отсчёта, на которую − в лице мирового пространства − преобразование Лоренца наиестественнейшим образом нам указывает. Указывают, ежели вдуматься в его смысл. То есть пространство для систем отсчёта выступает этаким перманентным негласным корректором: все они прежде прочего соотносятся с ним, а потом уже только друг с другом, так что эта первая (читай: незаметная фоновая) соотнесённость автоматически оказывается скорректированностью (незаметной же!) их тех последующих соотнесённостей. Можно сказать ещё так: посчитавшесть их друг с другом неизменно выступает скрытой осуществившестью через "призму" их посчитавшести с ним.
Теперь подойдём несколько иначе. Не в смысле что с противоположной стороны, − достаточно, что просто в опоре на что-то иное. А именно, из существования парадокса близнецов − как экспериментального факта, будем считать! − тоже можно делать вывод, что есть у тел скорость относительно пространства. Причём это не скорость относительно невозмущённого эфира, не забывать, − эти понятия разделяют качественные пол-шага, как мы уже показывали. Итак, подтáлкивает означенный парадокс к такому выводу! Расхожий довод о том, что улетающий близнец дважды пребывает в изменяющем его скорость режиме, прежде чем вернётся к остающемуся (ну, разгоняется по отлёту и тормозится по прилёту назад, не считая промежуточных разгонов и торможений), то есть, что его собственная система отсчёта по крайней мере дважды теряет инерциальность и потому, мол, "прямая" и "обратная" относительности у близнецов должны быть неравноценны (остававшегося к улетавшему − это одна относительность, а улетавшего к остававшемуся − мол, другая), − такой довод я нахожу словоблудием. Во-первых, почему относительность как понятие не должна покрывать понятие неинерциальности? Что это за относительность такая между близнецами, которая становится не одной и той же в прямом и обратном направлениях, стоит одному из близнецов потерять свою инерционность? Относительности плевать должно быть на характер движения объектов, между которыми она наводится, ибо как понятие она фактически не касается того характера: ну, как сам принцип способна ведь установиться меж заведомо любыми − по своему движению − объектами. То есть, как понятие достаточно обща, чтоб подобные отличия у объектов смыслово в себе растворять. И первый близнец − с точки зрения настоящей, а не волюнтаристски дозированной относительности! − оказывается ускоряющимся ко второму точно так же, как второй к первому. А во-вторых, есть соображение и помимо этих философских. По СТО ведь фактически получается, что второй близнец оказывается моложе потому только, что ускорялся по отношению к первому и замедлялся обратно к состоянию скоростного равенства с ним. Ибо, когда он летел по инерции на субсвете, его собственная система отсчёта была инерциальной, как и собственная система отсчёта первого, и так как в СТО преобразование Лоренца выступает преобразованием с относительным характером − касательно тех и.с.о., которые оно связывает, то с ним, со вторым, тогда по отношению к первому происходили те же дающиеся преобразованием Лоренца изменения, что по отношению к нему с первым. Короче сказать, инерциальные системы отсчёта происходящестями в них лоренц-инвариантны друг к другу, и пока второй близнец инерционно летел на субсвете, время у него замедлялось по отношению к первому точно так же, как у первого оно замедлялось по отношению к нему. Так что для объяснительности моложавости второго − остаётся в СТО только действие ускорения. Но не слыхал я, чтоб ускорение так влияло! Ежели оно так влияет, то вот вам проверка: хоть год гоняйте человека на центрифуге − моложе он от этого не станет на столько, на сколько стал бы, согласно расчётам, за год пребывания на субсвете. Тогда что же делает улетавшего близнеца моложе? Действующий канон физики не имеет, получается, на то ответа! В русле же наших идей ответ имеется. Происходит то, что между собственными системами отсчёта двух близнецов встряла, что называется, третья − задаваемая самим пространством (пространством, в котором − как едином целом − оба близнеца весь рассматриваемый срок равно пребывали, в смысле факта). И скорость у улетавшего близнеца какое-то время относительно пространства попросту больше, чем она тогда − относительно того же самого пространства (в смысле пространства как вселенского целого, всегда одного и того же для всех, за неимением другого такого)− у близнеца остававшегося. Тем и набегает временнóе замедление у улетавшего − сравнительно с остававшимся. Да и вся недолга.
Итак, официально теперь говорим о скорости тел относительно пространства как вселенского целого. То есть пространство как наполнитель вселенной суть мат. объект, к которому вполне способна быть выстроена относительность тел, то бишь к которому телам возможно отсчитаться. Мат. объект не хуже прочих, значит! В этом наше новаторство. Из коего вытекает наличка у мат. тел абсолютной скорости (помимо бесконечного числа относительных).
Ещё раз: всевселенское вакуумное пространство как целое! Это мат. объект, отсчитанность к которому, прежде прочего по скорости, автоматически имеет любая другая материальность. Благодаря такой автоматичности пространство оказывается абсолютной системой отсчёта. Ну, в смысле, как означенное вселенское целое пространство держит в себя вписанною любую материальность, так что испытываемость пробной материальностью какого бы то ни было ускорения оказывается изменением её вписанности, а значит – переотсчитавшестью той материальности к пространству по скорости.
И заостряем, что парадокс близнецов здесь для нас экспериментальный факт, от которого трактовочно отталкиваемся, а не просто смысловытекание из преобразования Лоренца. Пусть одного из близнецов к звёздам на субсвете ещё не катали, но зато на ускороителях гоняли с субсветовой скоростью элементарные частицы, "время жизни" в обычных условиях для которых хорошо известно: так вот время то у них тем удлинялось. Что это, как не одна из форм практической реализации явления, по теории должного − в одной из своих частностей − оборачиваться тем пресловутым парадоксом с близнецами?! Ведь доводимая до субсветовой скорости частица − ничем не хуже брата-близнеца касательно другой такой же, остающейся в то время на малой скорости по отношению к нам?! Да и катали же, насколько я знаю, сверхточные часы на самолётах − одни по ходу осевого вращения Земли, вторые против хода (предварительно синхронизировав на аэродроме). С тем, что третьи часы оставались на том аэродроме ждать. По возвращении тех двух к точке третьих (через посредство медленного своза с мест посадки самолётов) − все трое показывали разное время. Вот вам и приемлемая форма парадокса близнецов. Часов-близнецов! Ослабление же земной гравитации на высоте самолётного полёта − объяснительно на изменение показаний катавшихся часов не срабатывает: и по ходу вращения Земли, и против хода часы катались на одной высоте, а показания по посадке дали разные. Если же сообщение о таком эксперименте − "утка", и он не делался, то его по крайней мере мóжно сделать − именно так, как я описал, и результаты, на наш взгляд, должны быть именно указанные. Разные показания у всех трёх часов! И если будет (или даже уже есть) так, то это вполне опровергнет СТО, по которой скоростная относительность к аэродрому заведомо одинакова у обоих самолётов (а потому часы на каждом из них должны вести себя одинаково к аэродромным, если только самолёты катались на одинаковых скоростях по отношению к аэродрому). По нашей же теории – показания и должны быть разными у всех. Когда часы самолёта, улетавшего по ходу суточного вращения Земли, отстают от аэродромных, а у улетавшего против хода – спешат. Поскольку улетающий по ходу – увеличивает скорость часов относительно всевселенского пространства (прибавляя свою скорость к линейной скорости аэродрома как точки на поверхности вращающейся сферы), а улетающий против хода – уменьшает означенную скорость часов как предмета.
Итак, движение мат. тел носит абсолютный характер − из-за выступаемости пространства материей, относительно которой им возможно отсчитаться. И не в голом лишь принципе, как к эфиру, когда отсчётность всегда одинакова (что существующую относительность делает фактически виртуальной), а по-разному в зависимости от своих физических характеристик, состояния своего движения. Что наличную их относительность и делает реальной. И поскольку пространство-материя, с которым эта относительность у мат. тел, суть всё вселенское пространство как целое, а не как-то иначе, относительность эта оказывается абсолютной, если можно так выразиться. Поскольку дальше, за вселенским пространством, соотноситься уже не с чем. То есть всё наличное в мире пространство, будучи взято отдельным материальным объектом, становится абсолютной системой отсчёта потому просто, что выступает наиболее общей возможной относительностью для мат. тел.
Пространство суть или недовихри (не добирает каждый самого последнего элемента, делающего локальное возмущение эфира круговым), или же возмущение эфира, оказывающееся пространством, носит вообще невихревой характер. И вторóе может быть! А скорее, имеется смесь первого со вторым, когда второе выступает своеобразным неструктурным фоном в эфире − для первого как зачатка уже структуры.
И эфирный вихрь в лице какой-либо элементарной частицы движется не в спокойном эфире, а именно в эфире, возмущённом до состояния пространства, то есть − в "среде" из виртуальных эфирных вихрей. Которая тому движению сопротивляется, как и всякая среда (точнее, сопротивляется она всё же не как всякая среда, а особым образом − как среда особая, но всё-таки сопротивляется, как то и положено среде).
Другими словами, при поступательном перемещении тела в пространстве встречь ему "дует" пространственный "ветер", который то тело притормаживает. Особость же та, что притормаживается им тело только при разгоне. А при инерционном движении тела? Тут проявляемость "ветра" хитрее! Взять два инерционно движущихся тела, разноскоростных к "неподвижным звёздам", с которыми − как системой отсчёта − мы как наблюдатели себя ассоциируем, то взаимоотносительная скорость тех тел получается пред нами не простым алгебраическим сложением их относительных к звёздам скоростей. Что и есть проявляемость "ветра"! То бишь она в том, что определение нами − как представителями "неподвижных звёзд" − взаимоотносительной скорости тех тел отказывается выступать преобразованием Галилея. Ну, неподвижные звёзды берутся первой системой отсчёта, одно из тел − второй, движущейся относительно той первой с некой скоростью, и скорость другого тела пары относительно звёзд − пересчитывается на ту вторую систему отсчёта: тут-то и оказывается, что "пересчёт отказывается" выступить преобразованием Галилея. Давая иное, чем дало бы оно, значение взаимоотносительной скорости пробных тел. Ежели, к примеру, тела те двигались встречь друг другу, их взаимоотносительная скорость получается для нас меньшей, чем была бы, если просто прибавить друг к другу их скорости относительно звёзд (что соответствовало бы преобразованию Галилея в этом случае). Как же этакое не трактовать наличкой в вакуум-пространстве чего-то вроде тормозности − для инерционно движущихся в нём тел? Всё ведь выглядит, будто нечто придержало пробные тела в их приближаемости друг к другу, придержало как бы в отталкиваемости от "неподвижных звёзд"! В опоре на них будто стало между пробными телами, до некой степени помешав им сближаться. Взаимно (ну, обоюдно) квазизатормозило, то есть! Тем болей, что на соображение тормозности работает ещё факт, что расхождения с преобразованием Галилея, олицетворяющие её, бывают тем выраженней, чем больше скорости пробных тел относительно звёзд (в стремлении тех тел друг к другу). Согласно общим соображениям, так и должно быть: проявляемость тормозного влияния всегда в нашем мире больше, ежели больше у тела скорость движения, породительного к тому влиянию.