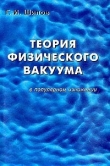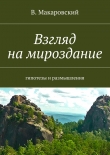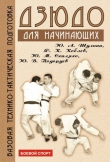Текст книги "Релятивистская механика: новый взгляд по-старому"
Автор книги: Виктор Ткачёв
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Итак, несмотря на являемость пространством миру своего лица в виде абсолютной системы отсчёта, принцип относительности для нас сохраняется. Из-за нашей слабости. Восприятийной недостающести. Не позволяющей работать с пространством (ну, вакуумом) как средой, состояние которой касательно себя можно замерить. По результату замера судя о своей телесной соотнесённости с нею. В частности, о своей скоростной соотнесённости.
Мыслимыми физическими опытами − в пределах пробно взятой инерциальной системы отсчёта − обычная человеческая психика не способна заметить увеличенности системой своей скорости (ну, когда она на большей скорости опять инерциальна), и это оттого, что увеличенность "ветра" пространства равно (всё для такой человеческой психики) сказывается совершенно на всём в той системе. Ещё бы нет, коли сказываемость "ветра" того на мат. теле − это, прежде всего, замедление времени для него, того тела, а время-то как раз заведомо всего именно и касается − из связанного с тем телом (что вне его, что внутри). Мы же со своей психикой − прежде всего такое тело!
Я, признаться, одно время думал, что есть зацепка. Дескать, находясь в пределах инерциальной системы отсчёта и не могя физическими опытами определиться в её скорости, не выходя за её пределы, − так подобное только из-за ориентации определяющих опытов вовне от себя как определяющего тела. А сориентируй их внутрь себя как этакого тела − ну, в его структуру, в качестве, например, щупа состояния его вещества, − и всё, дескать, будет по-другому. Ан нет! Время никак не обойдёшь. Оно всепроникающе! К примеру, думалось замерять спин элементарных частиц, составляющих находящиеся рядом с нами тела (движущиеся, как и мы, с тестируемой инерциальной системой отсчёта, не забывать). Дескать, частица как эфир вращается в самой себе с большей угловой скоростью при большей поступательной, согласно развёрнутым нами представлениям. И если таковое вращение её − всё-таки именно её спин (для меня это где-то ещё вопрос), то разницу можно обнаружить: спин ведь физики умеют мерить. Но нет, повторяю. Замедление времени, коим начинает обладать та система отсчёта из-за повышенности своей скорости относительно пространства, скомпенсирует, вместе с прочим, и увеличившесть для тебя спина тех эл. частиц − как соответствия той большей скорости. Число оборотов вихря элементарной частицы, приходящееся на время её жизни, в самом деле становится больше, если "живёт" она (вместе с нами) на большей скорости инерционного движения. Однако и время жизни её (вместе с временем нашей жизни) пропорционально тому увеличивается по той же причине, так? Значит, разделяй первое на второе − и получишь на единицу времени жизни частицы старое количество оборотов её вихря. То бишь старый спин. С позиций попытки идентификации своей инерционной скорости − досада. Зато прок в другом: если одинаково хорошо замерить спин инерционно-разноскоростных (по отношению к нам в одной и той же системе отсчёта) элементарных частиц одного вида, и замеры дадут одни и те же значения, то это подтвердит сопряжённость поступательной и угловой скоростей у частицы! Ведь не будь такой сопряжённости, то бишь пропорционального увеличения угловой из-за увеличенности поступательной, то вследствие удлинения (для нас) жизни частицы приходилось бы на единицу времени той жизни меньше оборотов её, частицы, вихря, то бишь на большей скорости она показывала бы нам меньший спин.
Так что имеем? На физический взгляд пробно взятого тела, направленный им на самоё себя, с увеличившестью (относительно пространства) его инерционной поступательной скорости никаких изменений с ним не происходит. Никаких. На наш же физический взгляд, направленный на то тело (как увеличившее относительно нас инерционную свою скорость так, что увеличило её и относительно пространства), определённые изменения с ним всё-таки происходят: увеличиваются время жизни и массивность − в пропорциональной взаимоувязанности тех увеличений. Но лишь одно это, только благодаря абсолютности характеров у времени и у массивности. Все остальные параметры тела, с относительными характерами, для нас не меняются. Что было продемонстрировано на примере спина его частиц − как одного из таких параметров.
Что мы, как мат. тела, никаких изменений не заметим, оказавшись со своей системой отсчёта на большей инерционной скорости относительно пространства и не выходя из той системы, хорошо поясняется вот чем. Пусть из-за той большей скорости наша масса возросла вдвое − для наблюдателя, оставшегося на старой нашей скорости. Поднимать вдвое более тяжёлую руку − такое, как кажется ему сначала, легко нам заметить. Но ведь и время − с его точки зрения − от той же причины замедлилось для нас вдвое, а посему вдвое − для него − увеличен интервал нашего имения дела со своей поднимаемой рукой − до момента полной её поднятости. То есть, старая сила мышц руки вдвое дольше прилагается к её двойной массивности! Что субъективно должно у нас предстать тою же по виду справляемостью с рукой, что и раньше. Трансформация массы без остатка "растворяется" для нас в трансформации времени.
5. Новорелятивистские постулаты в полезной укороченности
Наши постулаты в полезной укороченности могли бы звучать так. Первый: нет силы, есть сказываемость незамечаемого движения. Второй: гравитационная масса − лишь вид массы инертной. Третий: мало что нет времени отдельно от пространства, так даже пространства-времени нет, а есть только бесконечномерное пространство в своей длительности (ну, длящести). И второй вариант третьего: бег времени − это ускользание от твоей психики дополнительной пространственной мерности. А то даже и так: фантóм бега времени есть такое ускользание как реальность... Четвёртый: нет материи, есть только эфир (с его крайним по насыщению вариантом проявляемости в лице того, чтó мы называем материей). Пятый: движение чего бы то ни было материального фактически есть лишь смещаемость эфира в самом себе.
6. Теоретизационные комбинации на базе новорелятивистских постулатов (с космологическими следствиями, от стр. 280)
Этот пункт − мирообъяснительная смесь из всех постулатов. Последние ведь имеют весьма высокую взаимоувязанность, даром что на внешний взгляд смыслоиндивидуальны. Да и кроме того, всякое постулирование есть стилизация (читай: смыслоупрощение). Так что и из-за этого не стоит более разводить мирообъяснительность в русле то одного из постулатов, то другого: когда в русле всех вместе, то стоишь нáд смыслоупростительностями отдельных. Ведь имение в виду всех прочих − оно автоматически вытягивает мысль из отдельного, тем и ставя её над имманентным ему смыслоупрощением.
Заострим сначала вот что. Вопрос так называемой мгновенности дальнодействия гравитации − фактически вопрос выступания Вселенной единым целым. Ежели выступает − гравитация «мгновенно дальнодействующа», ежели нет − гравитация конечноскоростна в своей распространительности. Решайте сами − вы все философы не меньше меня. Но лично я не рискую отказывать Вселенной в единоцельности.
Хитрость в том, что мы могли бы и не заниматься гравитацией, однако вопрос единоцельности материальной Вселенной всё равно стоял бы перед нами − чисто самим по себе. И склонившись к её единоцельности, пришлось бы специально искать в ней бесконечноскоростность передачи. Передачи воздействия одной физичности на другую! Ну, одной ипостаси вселенской физичности − на другую её ипостась. Хотя б одно подобное воздействие бесконечно быстро бы осуществлялось по Вселенной, и тогда с последней всё в порядке. А то если ни одного, то в своей материальной части она − не единое целое (так сказать, цельнá, но не едино! один край материальной Вселенной тогда "не знает", что делает другой край, ежели "себя об этом спросит", − какая же это её единость? и то, что "спросивший" край со временем узнает спрошенное, положения уже не спасает: речь о перманентной неотстáвленной знаемости, только она даёт внутреннюю единость объекту!). Так что, повторяем, требование бесконечноскоростности передачи хоть какого-нибудь воздействия на физичность. И тут бы гравитация − как единственно видимый объединятель вселенской материи в конгломерат − естественным образом на роль удовлетворителя такого требования напрашивалась бы. Так бы мы от общефилософского вопроса о Вселенной пришли к гравитации − с заготовкой мгновенности для её действия, точно как от чисто физических (не философских) рассуждений о скорости действия гравитации приходим ко Вселенной − с заготовкой её единости как материального целого (а то иначе у гравитации не получается как следует срабатывать − все иные возможные модели её действия оказываются явно декоративны).
Физ. агент не может распространяться с бесконечной скоростью − иначе просто не будет физ. агентом. Подумайте и согласитесь, что это так. Не может, однако. Но должен! Из этого противоречия Вселенная "выкрутилась" тем, что с бесконечной скоростью передаёт не физ. агент, а предтечу физ. агента, так сказать. То, что вот-вот станет физ. агентом. Превратится в элемент вселенского физ. наполнения. То есть − подразумеваем эфир как объединитель материальной Вселенной! Эфир с его свойством превращаться в пространство, пространство как уже физический наполнитель Вселенной. И по последней мгновенно (потому что целиком через эфир!) передаётся как раз это свойство − в его реагируемости на то, что его что-то из физического наполнения Вселенной задевает (дополнительно репрессируя или же наоборот − сколько-то высвобождая от уже имеющейся репрессии). Что фактически оказывается мгновенной передачей дополнительного пространства в любую точку мат. Вселенной. Или же мгновенной недодачей пространства любой её точке − это уж в зависимости от того, как физ. наполнение передающей точки то свойство эфира задевает (ну, добавочно репрессирует ли, или дерепрессирует). Характер задеваемости! Ведь ею может быть как появляемость некой массы в той передающей точке, так и уход массы из неё (как изначального содержателя той массы).
Так вот, а Эйнштейн своим постулатом − о конечноскоростном движении света как естественном пределе быстроты передачи воздействия в природе − неявно отказал Вселенной в единоцельности. Практицист, не забивал себе голову философией − в отличие от Ньютона и нас! Отказал, быть может, того и не заметив. Спутал физическую скорость (в лице соотнесённости "количества" пространства с "количеством" времени) со скоростью передачи информации, не являющуюся, строго говоря, обязательно физической скоростью (ну, скоростью обязательно чтоб неких физагентов − как того, что повязано понятиями времени и пространства). То есть − незаметно абсолютизировал понятия времени и пространства в деле заполучаемости нами знания о чём-то вне нас как мат. телесностей. Другими словами, на явлении распространяемости физического агента всецéло замесил феномен взятия знания о том, откуда тот распространяется. Тем наградив предел физической скорости, достигаемой в природе светом, статусом предела быстроты информируемости. До инфантильности неправомочная расширительность!
В общем, передача информации с места на место, то бишь, фактически, доведение одним местом самого факта своего существования до другого места, суть явление более "тонкое", нежели ход по пространству какого-либо физ. агента. Другими словами, информация − не физический агент! Во всяком случае, достáточно нефизический. Информационная передача − лишь организация самой возможности некого физического воздействия в одном месте на основе другого места, просто "открытие глаз" первому месту на такую возможность, но никак не поставка ему средств для неё. То есть, реализация воздействия изыскивается всецело местными средствами − на основании упирания места в возмóжность её. С тем что упереть этак место может и специальный физ. агент, и чисто явочным порядком оказываться может место при такой своей упёртости! Благодаря посредничеству всéй мат. Вселенной, то есть когда передающим началом выступает мат. Вселенная как целое. Именно это второе − в случае организации местом (предоставившим себя какой-то мат. массе) гравивоздействия на своё окружение. В случае же взаимодействия места со специальным физ. агентом − на информ. передачу месту мат. Вселенная работает лишь некой своей частью, а не как целое. Или сказать − лишь часть мат. Вселенной работает на передачу, а не вся она. В чём и жиждется принципиальная разница.
Ньютон, в объяснительном бессилии, назвал силу притяжения "вездесущим дыханием Господним". В очередной раз снимаю перед ним шляпу: у него и бессилие оборачивалось силой. Ведь как раз так и можно обозначить натеоретизированное нами о гравитации, ежели с условием, чтоб в трёх словах! Брахма действительно "дышит" пространством, навроде как мы воздухом. С тем, что сейчас мы на стадии его "выдоха", а когда-нибудь начнётся и "вдох".
Точнее, то Брахма "дышит" эфиром, но это практически всё равно, коль скоро пространство − эфирова "крайняя плоть".
Ежели пробное мат. тело находится вблизи Земли, то в пространственном отношении Вселенная постоянно "откатывает" от него, близко к тому как вагон, на полу которого лежит мячик, выезжает из-под того мячика в порядке тронувшести поезда, тем откатывая от него передними участками своего пола. Для того, кто находится в вагоне и не замечает своей тронувшести вместе с ним, мячик предстаёт покатившимся по полу под действием некой силы, не имеющей видимых причин (ну, производителей). Вот и пробное мат. тело, помещаемое вблизи Земли: предстаёт нам, стоящим на ней, к нам летящим под действием силы, точно так же не имеющей видимых причин. Поскольку зрительно не замечаем, как с подачи Земли (и в опоре на неё) налезаем на то тело − в проявление фактической укатываемости (вместе с нами) из промежутка меж нами и им самой вселенской пространственности, размещающей его, Землю и нас в себе. Мудрено такое заметить, ведь нет ориентиров: кругом всё та же Вселенная, без какой-то другой в пределах видимости. Вот если бы был столб, не входящий во Вселенную: мы б на него зрительно ориентировались, тем замечая её укатку своей (содержащей нас) пространственной целостностью от того несчастного тела, явочным порядком делающую его приблизившимся к нам. Но нет такого столба! Зато есть другие ощущенческие модальности, а не только зрительная. И они-то как раз тут исправно срабатывают: их посредством мы прекрасно замечаем ту свою накатку на то пробное тело − ощущаем оттягиваемость внутренностей в сторону, противоположную той, куда как бы несёт нас поверхность земной тверди (и несёт в виде устремляемости, а не просто; ну, то есть, ускоряюще, а не равномерно).
Плюс можно было выразиться даже так: как паровоз вытягивает вагон вместе с полом из-под мячика, лежащего на том полу, так и массивное мат. тело "из-под" нашего пробного тела "утягивает материальную Вселенную". Ну, то есть, последняя сама утягивается − в своеобразной опоре на то массивное тело, "двигая" себя через "рычаг" в его лице. Сего движения её, однако, не замечаем, поскольку не видим её "края" из-за величины её и "формы". А потому воспринимаем происходящее "перевёрнутым с ног на голову": бедное пробное тело предстаёт нам − из-за сохраняемости им имеемого вселенского покоя − "катящимся" по мат. Вселенной, при её, напротив, неподвижности вместе с нами. "Катящесть" ту наблюдаем и говорим, что то массивное тело притягивает к себе то пробное.
Уместна, однако, и такая транскрипция происходящего. В качестве пробного тела лежу животом на земле. В проявление того, что со стороны спины у меня (невидимым образом) перманентно больше пространства, чем со стороны живота, явочным порядком выступаю устремившимся − животом вперёд − в глубь планеты: в той физической позиции только такое моё устремление соответствует непрерывному обнаружению всё новой пространственности за спиною. А поверхность земной тверди это устремление моё блокирует, чем и выступает давящей на меня со стороны живота. Ну, то есть, это не она давит, а я в непрекращающемся квазидвиженческом порыве жму животом на неё, отчего по третьему закону Ньютона получаю равную жмущесть её на мой живот.
Теперь вот о чём. Читал я, читал про одновременность в СТО, пока не родил в сердцах всклич: да это не физика, а какой-то суд присяжных! При решаемости вопроса одновременности событий ищется не то, что есть на самом деле, а то лишь, как оно всё доказательно выглядит по этому вопросу (в исходящести из заданных нами себе критериев). Завуалированное судопроизводство! В неявности взятое за правило! Меж тем это физика, а не право, и сведение поиска истины только к самоубеждаемости − чревато. Взятые-то критерии вполне способны оказаться слишком мелкими (так что доказанность по ним − ещё не означает доказанности вообще), или в неявности порочными, или «не из той оперы» (то бишь незаметно-отвлечённые), или выстроенными не на той основе. Скажем, почему они обязательно должны быть на основе света? ОТО по умолчанию считает его абсолютным инструментом, а абсолютных инструментов как раз нет в природе! То бишь инструмент − он и есть только инструмент, в смысле что воплощённая ограниченность: ежели отсутствие чего-либо − например, той же одновременности у берущихся событий − на базе какого-либо инструмента и получается констатировать, это ещё непреложно не значит, что оно отсутствует: применённость более совершенного инструмента может изменить результат.
Если общество может себе позволить, чтобы считался невиновным преступник, вина которого недостаточно доказана (это дабы не рисковать лишний раз признать виноватым действительно невинного), то физика аналогичной считаемости из-за аналогичного риска − позволить себе не может. По здравому размышлению, так напрашивается у ней прямо противоположная сориентированность: стремиться считать что-то существующим, ежели недостаточно доказана его несуществующесть. С тем, что среди прочего таким "чем-то" имеет право быть и принципиальная ни для кого непропадаемость одновременности у двух событий, пробно (как одновременные) для вас произошедших в некий момент времени.
То есть для физики лучше рисковать отбросить и действительную доказанность несуществуемости чего-то, чем легкомысленно доверяться поверхностным доказуемостям, тем рискуя оказаться при попранности одной из мироустроенческих истин, которая в существуемости того чего-то. Казалось бы, как так? Ведь доказанность несуществуемости того чего-то − тоже мироустроенческая истина, а потому должна быть не менее нам дорогою! Почему же риск потерять эту истину более предпочтителен, нежели риск потерять истину противоположную (ну, истину в лице существуемости того чего-то для мира)? А потому, что доказываемость отсутствия чего-то − как процесс неравноценна доказываемости его присутствия. Действительно, в первом случае доказывается пустота, а потому всегда уместен довод, что не заметил наполнения из-за несовершенства привлечённых средств (например, из-за недостатка разрешающей способности употреблявшихся оптических приборов), тогда как во втором доказывается наполнение, и возможный довод против доказанности − другой: он в возможности привлечёнки неадекватных средств, которые способны обнаружить то, чего нету (ну, обнаруживают нечто другое вместо того, что искалось, а ты это другое принимаешь за искавшееся, тем оказываясь при "доказанности" его существования, того искавшегося). Тип возможного довода против доказанности − он разнится в двух этих случаях, и на этом всё основывается. Привлечённость неадекватных средств как довод против найденности − нуждается в доказательстве, а привлечённость средств несовершенных как довод против ненайденности − не нуждается, уместным доводом выступает априорно. То есть не можем "ставить на одну доску" существующее априорно − с имеющим право существовать только по доказанности. Первое − сильнее! А потому и доказанность отсутствия чего-то − обладает в научной логике на ступень меньшими правами, нежели доказанность его присутствия. Соответственно и рисковать первой предпочтительнее, нежели второй. (Разумеется, это при так называемых прочих равных: при равенстве научных сил, бросавшихся на каждую из доказуемостей, и так далее.)
Разводившаяся выше логика зело применима в дилемме существуемости − несуществуемости эфира. Согласно ей, должны пока отдавать предпочтение его существуемости. Но разводилась та логика всё ж не ради этой дилеммы. А из-за принятости так называемой относительности одновременности − как понятия, дорогого сердцу современных физиков. Ведь доказываемость её наличия в мирозданьи − это как раз доказываемость несуществуемости: несуществуемости одновременности неких событий для кого-то одного − при существуемости её для кого-то другого. И поскольку к доказываемостям подобного сорта надо быть повышенно придирчивым, как мы показали, то и будем. С этой целью обратимся к главному мысленному эксперименту, который как "доказательство" постоянно тиражируется в текстах релятивистской тематики. Со следующего абзаца я приведу одну из таких протиражированностей, взятую из неплохой научно-популярной книжонки.
"Чтобы понять, как это может быть, давайте вслед за Эйнштейном проделаем мысленный эксперимент. Снова обратимся к двум лабораториям, одна из которых расположена в чистом поле, а другая в вагоне движущегося поезда.
Пусть на передней и задней стенке вагона имеется по лампочке. Физик-наблюдатель движущейся лаборатории находится посредине вагона, как раз между лампочками, на равном расстоянии от каждого источника света.
Эксперимент построен так, что вспышки света от этих лампочек достигают "поездного" и "полевого" физиков строго одновременно, а именно в тот момент, когда они поравняются друг с другом. Какие выводы должен сделать из этого наблюдения каждый из экспериментаторов?
Физик в вагоне может рассуждать так: "Поскольку сигналы были посланы источниками, находящимися от меня на равных расстояниях, и пришли одновременно, значит, и испущены они были строго одновременно".
Физик в полевой лаборатории имеет полное право прокомментировать описываемое событие несколько иным образом: "Когда середина вагона поравнялась со мной, обе лампочки были от меня на одинаковом расстоянии. Но свет был испущен ими несколько ранее момента, когда меня достиг − ведь как-никак световые лучи имеют пусть и огромную, но конечную скорость. Отсюда логично предположить, что в момент испускания света передняя стенка вагона была ко мне ближе, чем задняя. А так как свет от обоих источников распространяется с одинаковой скоростью, получается, что лампочка на задней стенке вспыхнула раньше, чем на передней..."
В итоге вслед за нашими физиками мы должны будем прийти к выводу: одновременно или неодновременно случились некие события, зависит от того, с какой точки зрения мы будем их рассматривать. Если с точки зрения двигавшегося физика, то лампочки вспыхнули одновременно; если с точки зрения физика, находившегося неподвижно, то нет".
Ну что сказать? Имеет место передёрнутость, которую почему-то не замечают. Чтобы её понять, сначала решим вопрос организации одновременной зажигаемости лампочек. Единственно корректное, что тут приходит в голову, это поставить батарею и кнопку в месте нахождения вагонного наблюдателя, то есть в центре вагона. Тогда тот наблюдатель жмёт на кнопку, э.д.с. батареи со скоростью света распространяется по проводам в обе стороны вагона, и, проходя равные расстояния в половину его длины за одно и то же время, тем самым одновременно (уж во всяком случае, для того вагонного наблюдателя) зажигает лампочки на торцах вагона. Плюс используем экспериментальный вариант, когда лампочки зажигаются в момент поравнявшести вагонного наблюдателя с полевым − то есть, при равноудалённости каждого из наблюдателей от обеих лампочек. Для этого "вагонный" должен, не доходя "полевого", подобрать момент нажатия кнопки такой, от которого до момента поравнявшести наблюдателей столько времени, сколько надо электродвижущей силе для дохода от батареи до лампочки. Подобный момент можно рассчитать, если скорость поезда постоянна и ты её знаешь, зная также скорость распространения э.д.с. в проводах и полудлину вагона. А рассчитав, наметить его вешкой, что вдоль пути сдвинута от "полевого" в сторону, противоположную ходу поезда: поравнявшись с этой вешкой, "вагонный" и должен будет нажать кнопку.
Есть, правда, одна закавыка. Распространение э.д.с., как и света, штука тонкая. Если вдруг э.д.с. не смещается вместе со смещением проводов (вдоль рельсов, из-за хода поезда), распространяясь по независимому от системы "поезд" мировому каналу, то к лампочке на заднем торце она − по нажатии кнопки "вагонным" − придёт раньше, чем к лампочке на переднем, ибо задний будет на неё наезжать, а передний − от неё убегать. Так что на всякий случай можно предложить более надёжный вариант. Посадить на торцах по ассистенту − каждый при батарее с лампочкой. А вдоль пути, с двух сторон от "полевого" в симметричности ему, поставить по вешке − с расстоянием между вешками в длину вагона (как и расстояние между торцевыми ассистентами). Тогда каждый ассистент поравняется со своей вешкой в момент, когда "вагонный" поравнялся с "полевым", и им останется только нажать на кнопку батареи − находясь строго против своей вешки. Момент нажатия кнопки считаем моментом загоревшести лампочки (лампочка ведь может стоять прямо на батарее!), что и оказывается загоревшестью лампочек с выполненностью нашего условия − чтоб в момент поравнявшести "вагонного" с "полевым".
Итак, всем этим лампочки зажглись в момент поравнявшести наблюдателей, и тогда свет от них достигает тех наблюдателей в моменты, когда вагон прошедш немного вперёд − по ходу поезда, и "полевой" уже не напротив "вагонного", а напротив той или иной точки вагона, что ближе к заднему торцу. Употребляя понятие "моменты", мы это к тому, что свет достигает наблюдателей не в один момент, а в разные: "полевого" − позже. Ибо в момент включения света, какую лампочку ни возьми, расстояние от неё до "вагонного" есть большой катет прямоугольного треугольника, а от "полевого" до неё − гипотенуза того же троеугольника (то есть − большее). И положение "полевому" не выправляет даже и апелляция к релятивистскому замедлению времени у "вагонного": свет в вагоне, с точки зрения "полевого", медленнее обрабатывает расстояние в пол-вагона (ну, фигурально скажем, на секунду времени "полевого" приходится пол-секунды ходовой работы того вагонного света), но зато и расстояние ему − с той же точки зрения − надо покрыть всего лишь половинное − из-за релятивистской ужатости вагона по своей продольной оси вполовину от своей длины при стоящем поезде. Это всё, впрочем, не важно, это мы лишь для полноты картины − чтоб читатель основательно "врубился" в происходящее. А важно то лишь, что пусть в разные моменты, но каждый из наблюдателей свет от обеих лампочек замечает одновременно. Имея здесь и логическое право на основании того заключать для себя об одновременности их зажёгшести. В самом деле, наблюдатели ведь физики, и знают о независимости скорости света от скорости что источника − по отношению к его наблюдателю, что наблюдателя − по отношению к его источнику. Знакомы, то есть, с опытом Майкельсона − Морли. "Вагонный" имеет источники, покоящиеся относительно него в момент испускания, зато сам он вроде как набегает на луч от переднего торца и вроде как убегает от луча, что идёт с торца заднего (пишу "вроде как", поскольку от светолуча хоть и убегаешь, но выступаешь ни на йоту не убежавшим, и то же самое с набеганием). У "полевого" же всё наоборот: сам он относительно лучей стоит (а лучше бы сказать − квазиотносительно, поскольку, как мы только что видели, относительность вещественных предметов к свету − не совсем то, что друг к другу), зато передний источник в момент испускания убегает от него (со скоростью поезда), а задний на него набегает с той же скоростью. Однако ни то, ни то ничего не меняет, как знают наблюдатели (своё, например, набегание на луч или убегание от него понимая лишь житейской иллюзией), так что всё определяется только расстояниями до них от источников в момент светоиспускания. А расстояния тогда равны и между "вагонным" и каждой из лампочек, и между "полевым" и каждой из них. Отсюда и право и того, и того наблюдателя заявить об одновременности зажёгшести лампочек, ежели зафиксирует одновременный приход от них к себе света. Вот мы и обнажили передёрнутость! Ведь здесь скоростные характеристики наблюдателей разнятся так же, как и в случае, описанном в приводившемся отрывке из книги, однако относительности одновременности для них, наблюдателей тех, не появляется. Так что же это за относительность такая, что в одном случае имеется, а в другом, тождественном ему, нет?! Вот то-то...
Уже скáзанного было бы достаточно, но напрашивается сказать и больше. Ни о какой относительности одновременности не имеем права заявлять и в исходящести из случая, что приведён в отрывке. Поскольку "мысленно экспериментирующими" там поставлено в принципе невыполнимое требование. Если лампочки для "вагонного" зажигаются одновременно, то оттого лучи их просто не способны выступить для "полевого" вместе достигающими его в момент, когда он поравняется с "вагонным"! Взяв установкой, что реализуется этакое невозможное, те "мысленно экспериментирующие" и приходят к заключению об относительности одновременности для тех двух наблюдателей. В самом деле, условие прихода луча к "полевому" именно при поравнявшести его с "вагонным" − оно требует испуска света до поравнявшести (как раз настолько до, сколько требуется свету для покрытия расстояния от лампочки до "полевого"), но без поравнявшести расстояния от "полевого" до лампочек различны, так что подгадать можно только под одну из них: момент прихода света к наблюдателю, как мы уже показывали, определяется только расстоянием от него до лампочки в момент её загорания, ежели тот наблюдатель неподвижен по отношению к месту загорания, и поскольку "полевой" именно таков, так как не движется относительно ж/д полотна, то разные удаления его от лампочек дадут ему и разные моменты светоприхода от них. (Место загорания есть точка в пространстве, висящая над ж/д полотном, и "вагонный" от подобной, что с заднего торца, удаляется − в силу ухода вперёд вместе с поездом, и к подобной, что задаётся лампочкой переднего торца, приближается − в силу того же. Однако, в определённом смысле тоже можно говорить о его неподвижности по отношению к месту загорания любой из лампочек. В том смысле, что неподвижен он, так сказать, по отношению к природному явлению света из того места. Действительно, отсутствие эфирного ветра вполне ведь может быть страктовано как выступаемость условной светоносной среды слитою с движущейся лампочкой. То есть − как движущесть её вместе с нею, а значит и с "вагонным". Это движущесть, "влекущая" с собой место загорания. В том смысле, что влечётся та его − как точки физического пространства − ипостась, что "расположена" в светопереносящей среде.) Итак, в момент поравнявшести наблюдателей − в принципе лишь от одной из лампочек способны обеспечить мы приход луча к "полевому"! Обеспечивается он подбором упреждающего момента загорания этой лампочки, то есть в конечном счёте − подбором момента нажатия кнопки "вагонным". Поравнявшесть наблюдателей момент сей должен упреждать настолько, чтоб компенсировать и время распространения э. д. с. по проводам, и время хода светолуча к "полевому". Это если реализуем техвариант без ассистентов на торцах, считая его годным; а если нет, то вполне можно рассчитать по вешке на ассистента, асимметрично расположенные по обе стороны от "полевого" на расстоянии друг от друга в длину вагона − в равенство расстоянию между ассистентами: тогда ассистенты достигают вешек в один и тот же момент (во всяком случае, одновременно и для "вагонного", и для "полевого"), и нажав в нём каждый на свою кнопку, дают соответственно одновременное загорание лампочек при нужной недошедшести "вагонного" до "полевого".