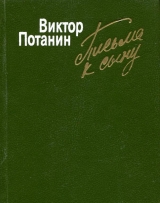
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– А я тебя не спрашиваю – не возникай. А застегни лучше пуговки и за дверь! Но домой – не разрешаю. Может, ночью и отвезем…
– Куда? – шепчет Постников и оглядывается на мать. Но та смотрит в пол, и мне кажется, – она плачет…
– А туда, дорогой, все туда. – Карандашик громко стучит по столу. Постников стоит на месте и водит шейкой. Потом тихо, как спутанный, подвигается вперед и просит ручку.
– Где тут графа-то? Очки не взял. В глазах как тараканы…
– А у тебя есть они, глаза-то? – шутит приезжий. Но старик не отвечает. Он пишет долго, старательно, как будто рисует буквы. Я вижу – ладонь, у него трясется. Потом медленно распрямляет спину и, не простившись, уходит. И только-только скрипнула дверь, приезжий откинулся на стуле и стал хохотать:
– Не могу-у, поселя-а-ане. – И тут заметил мои глаза. – Тебе понравилось, конотоп? Как мы взяли его за белые ручки… А вы, Анна Тимофеевна, что-то того? Вроде недовольны?
– Я просто устала. Не обращайте внимания.
– Понимаю. С этим народишком как не устать. Вот закончим и пойдем к вам на чай?.. А? Не слышу ответа.
Мать молчит, и карандашик его опять стучит по столу. А в окно бьет метель. Она, как живая, выпевает на разные голоса. Но от этих голосов делается почему-то спокойно, и я начинаю дремать. Может быть, и уснул бы, но в это время снова открывается дверь. Зашел Яков Петунин с Береговой улицы, немолодой уже человек. В руках у него тросточка – он бережно ее ставит в угол у печки. Лицо вошедшего доброе и открытое, и такой же пологий приветливый голос:
– Здравствуйте всем рядышком! Вечеруем помаленьку, аха? Керосин-то казенный… – Он жмурится от света и вроде бы стесняется проходить. Глаза у него синие-синие, но когда лицо попадает в тень, они сразу темнеют…
– Проходите, Яков Петрович, мы долго вас не задержим.
– Правильно, председатель! – веселеет приезжий. – Сейчас он подпишет семьсот рублей, и сразу отпустим.
– Сколько-сколько?.. – встрепенулся Петунин.
– Ровно семьсот и не больше. Вон ваш Постников подписался на тысячу. Верно я говорю, председатель?
– Верно, Клим Александрович, – подтверждает мать, – но у Петуниных совсем нет хозяйства. Корова пала в прошлом году, поела что-то, и попрощалися… Овечка вроде была, я не знаю…
– Закололи мы ее, закололи, – обрадовался Петунин и с мольбой стал смотреть на мать. – Ну где мы возьмем, Тимофеевна? Хоть ложись – подыхай…
– Довольно болтать! – сказал громко приезжий. И начал отстегивать кобуру. Из кобуры выпал наган. Он положил его перед собой.
– Будем писать или как?..
– Да пожалей ты нас, батюшко ты наш! Да ниче у нас нет давно, все у нас заскребено.
– Врешь, ежкина мать… Сейчас пойду и проверю.
– Да пожалей ты нас, Климушко! – зарыдал Петунин. – Хоть сейчас иди проверяй. Я тебя везде проведу, покажу. Я тебе брюхо свое пополам разрежу – смотри только, мотай мои бедны кишочки… – Он еще хотел что-то добавить, но вдруг упал на колени.
– Климушко, не губи ты нас. Я же робить не могу… Я же увеченой.
– А ну встать! – рявкнул приезжий. – Я тебе не помещик, и ты не батрак.
Петунин поднялся. Его слегка пошатывало. Лицо кривилось, как от зубной боли. Моя мать, не стесняясь, плакала. Но на нее посматривал приезжий и брезгливо щурился..
– Не пойму вас, председатель. Заем не вытянем – кого обвиним? А я знаю кого… – Он рассмеялся. – Вот на вас тогда и напишем… Что? Не так? Нет, милая моя, будете персонально ответственны. Слышал, Петунин? А если слышал – расписывайся. – Он поднялся со стула и подошел совсем близко к Петунину. Они были одинакового роста, и глаза оказались на одном уровне. Петунин выдержал его взгляд:
– Не могу подписать, товарищ начальник. Христом-богом прошу – не могу…
– Я тебе не товарищ… Гусь свинье не товарищ, – опять повторил он и взялся за телефон. – Але, але? Это район? Ты слышишь меня, Василий Петрович? Ну вот хорошо. Тут у нас Петунин Яков… Да, Яков Петрович забастовал. Не хочет подписываться – и шабаш… Але, але? Я жду указаний. Что, я не понял? А-а, понятно. Значит, расстрелять его! Когда? Сегодня. Слушаюсь, Василий Петрович. Об исполнении доложу… – Приезжий прокашлялся, потом медленно перевел глаза на Петунина. На том лица нет. А щеки белые, ватные. Голос глухой, какой-то раздавленный:
– Ну давайте вашу бумагу…
– То-то же, а то, вишь, мерин какой необъезженный. Овес ест, а ездить не хочет.
– Вы б хоть не выражались, Клим Александрович! – попросила мать.
– С вами, председатель, я после… Пусть вначале подпишет.
И пока Петунин водил ручкой, озирался по сторонам, приезжий стоял на ногах. Когда тот вышел, он снова сел на стул и достал папиросу.
– Каков, а? Климушко, батюшко…
– У них трое уже опухли от голода, – сказала мать. Стало тихо. Только метель билась о стекла… Потом он опять застучал карандашиком.
– Кстати, председатель, вы, кажется, что-то хотели?
– Да ничего я, ничего не хотела…
– А все-таки?
– Бесполезно говорить, Клим Александрович, – громко вздохнула мать. – А если бы у человека сердце отказало, если бы смерть… За это же надо…
– Что надо, что? Договаривайте… Вон сын ваш и то понимает. – Он повернул голову в мою сторону. – А ловко я его, конотоп? Я же сам себе позвонил! Ну что молчишь, ты не веришь?
– Да верит он вам, верит… – заступилась мать за меня. Но в этот момент опять постучали. Вошла трактористка Полина Менщикова. И опять возле нее начал кружить приезжий. И Полина быстро сдалась и расписалась в бумагах. Потом зашла школьная техничка Мария Александровна Чистякова, потом еще кто-то, еще… И когда закончились все дела, стояла глубокая ночь. Меня уже шатало от усталости, от табачного дыма. А приезжий не унывал.
– Ну как, председатель, на чай меня приглашаете?
– В другой раз, в другой раз… – ответила мать. – У нас же здесь в комнате спокойно и никто не мешает. Стулья к стене поставьте – и готова кровать… Только вьюшку плотно не закрывайте, а то топили много, упаси бог…
– Спасибо, председатель, за ночлег. Мы в долгу не останемся. Только не советую обижать районную власть. Вы слышите? Не советую.
А мать как не слышала:
– Ну ладно. Мы пошли с сыном. До завтра…
У самого порога я оглянулся. Глаза у приезжего бы ли злые. Мне показалось, что он сейчас выхватит из кобуры наган и выстрелит в мать. А может – в меня… Но ничего не случилось – нам повезло…
Да, Федор, нам повезло с твоей бабушкой Анной. И вот мы уже на улице. Чтобы не потеряться, мать берет меня за рукав. Я прижимаюсь к ней потеснее, чтобы стало теплей.. А ветер так и валит с ног. И мать беспокоится:
– Сейчас придем домой и замерзнем, как глызки. И дров у нас точно так. Как зимовать будем, сынок?
Я ее утешаю:
– Скоро будет весна, дров не надо. – Я говорю громко, почти кричу, потому что слова заглушает метель.
– Не скоро еще, не скоро. Так что придется нам с тобой поехать в деляну.
– Съездим, мама. Запрягем Маньку и съездим.
И вот мы дошли до дома. Окна темные – бабушка керосин экономит. Через минуту мы заходим в ограду, и мать веселеет:
– Ну как, поморозил сопли-то?
– Не поморозил.
Потом мама хватает меня в беремя и начинает плакать. И я знаю, о чем. Да и она не скрывает:
– Неужели их обоих убили? Нет, нет, не верю!..
И я тоже не верю, что погиб мой отец. И про дядю Женю не верю… Но, Федор, хватит сегодня, мне тяжело вспоминать, и тебе, наверное, тяжело. Да и день уже на исходе. Когда пишешь, не замечаешь время. А оно летит, как пуля, может, даже быстрее… Так и сейчас – не успел я даже дописать предложение, как стало смеркаться. Я смотрю в окно и просто не верю: только что стоял белый день и сияло солнце, и вот уж все кругом посинело и потемнело, а над кипарисами поднялись первые звезды. А вот и маяк! Кого ждал, того и дождался. И ты, сын, опять улыбаешься – неисправим, мол, старик, а что же мне делать? Я уже не могу без него. Он для меня – лучший друг. А иногда маяк этот напоминает настоящую няньку, которая и успокаивает меня перед сном, и забирает все боли. Он даже во сне со мной рядом. Иногда спишь и чувствуешь – кто-то прикоснулся к лицу. Откроешь глаза и сразу обо всем догадаешься: ну конечно, это его лучи трогали лоб и щеки. И ты рад, благодарен… Когда меня отпустят домой, я приду к нему попрощаться. Я скажу тогда… А в общем, не знаю, что скажу, – пока не придумал. Может, просто пообещаю однажды снова вернуться. А что, сын? Давай когда-нибудь прикатим на море вместе. Как было бы здорово! Ты согласен?..
ПИСЬМО ШЕСТОЕ – О КОРОВЕ МАНЬКЕ И ЗИМНИХ ДОРОГАХ
Дорогой Федор! Сегодня море пасмурно и дождливо, и все больные сидят по комнатам. Люди скучают, перебирают газеты, а я вот пишу… Ты не устал еще от моих листочков? Да я знаю – ты не признаешься. А пока на всякий случай один совет: не ищи в этих письмах каких-нибудь наставлений, морали. Я и сам не люблю говорливых наставников – сделай так да люби того… Жизнь сама научит, подскажет, если не спрячешься от нее, если пойдешь ей навстречу. И бери всегда пример с самых маленьких – дети всегда честны, открыты – что за душой, то в словах… Я чувствую, ты улыбаешься: только что, мол, просмеивал разных там моралистов и вот уже сам уподобился. Но нет, Федор, я совсем сейчас о другом. Да и вспомнился мне один случай из детства, из далеких-далеких лет. Было мне лет пять, может, шесть. Меня мать тогда оставила пожить у чужих людей, а сама уехала по срочному делу. Я прожил в том доме всего несколько дней, но как всем надоел! Особенно моей няньке – малолетней девчонке. Помню, в доме были иконы, возле них горела лампадка. И вот под этой лампадкой я увидел однажды свою няньку. Она стояла на коленях и громко шептала: «Батюшко ты наш – истинный Христос, богородица – пресвятая владычица и Никола-святитель, услышайте вы мои слова и возьмите вы с собой нашего Витеньку, освободите вы меня от него. Я с ним просто замучилась, он же не слушатся. И поиграть мне охота, а он никак не дает. Я на реку хочу сходить, а он от подола не отпускатся. Я молока хочу выпить, а он дурит, стакан вышибат… Освободите меня, приберите его к земле…» И еще что-то говорила, молила девчонка, я уж теперь не ручаюсь за точность – столько лет прошло, столько зим. Прошло-то прошло, но все равно не выходит из головы моя нянька. И ее святая прямота не забылась, нет, не забылась, а ведь смерти же мне желала. Вот таким бы и оставаться всегда человеку – доверчивым, честным, прямым… Так же и мать моя говорила: доверяй всегда людям, они не продадут, не обманут. И когда горе придет – помогут.
А в нашем горе помогала нам Манька. Ну конечно, Манька – это не человек, а корова. Но она десятерых людей стоит, а может, и подороже. Без нее нам бы не выжить. Она и кормилица наша, она и за лошадь. В прошлый раз я закончил на том, что мы собрались за дровами в деляну. И вот мы поехали. В оглоблях у нас – Манька. Дорога по деревне накатана – сани быстро идут. А вот за деревней похуже. Да и ветер начался, метет поземка. Смотришь: по сугробу бежит серенький юркий мышонок, а это всего лишь прошлогодний листочек. Он скользит по сугробам, порхает, а ты уж себе придумал… Но мне некогда смотреть по сторонам – я слушаю мать. У нас редко бывают такие минуты, у нее все время работа, работа, а у меня – школа… Зато сейчас мы одни, задавай любые вопросы. И я не теряюсь:
– Мама, свози меня в Курган?
– На чем же, сынок? В город надо пешком, а тебе не дойти…
– Тогда в Глядянку возьми?
– Это можно. Но ведь до райцентра тоже надо пешком, да и дорога все лесами, лесами…
– Это страшно, наверно?
– Всякое, Витя, бывало. Давай-ка, сын, слезем с саней. Мане-то нашей трудно. Слышишь, как дышит. – И мы спрыгиваем на дорогу и теперь идем за санями.
– Всякое, конечно, бывало, – повторяет мать. – Недавно вот шла из Глядянки, так всего натерпелась. С утра, как всегда, сидела на совещании, потом забежала на минутку к своей подруге Ольге Васильевне Ветровой и только к вечеру собралась домой. А идти, сам знаешь, не близко. По прямой и то тридцать верст, а если по старой дороге – то и все тридцать пять… Ну вот, я только отошла от Глядянки, и сразу стемнело. А ночь темная, как земля. Надо было бы заночевать у Ольги Васильевны, но теперь уж поздно. Человек-то силен всегда задним умом. Ладно, решаю. Ничего, мол, со мной не случится. Да и дорога знакомая, каждая кочка – родия. И вот иду и бодрюсь, сама себя успокаиваю. Потом слышу – впереди меня разговоры и вроде бы железо позванивает. Я прибавила шаг и скоро догнала двоих женщин. Они везли бочки с горючим. В упряжке у них – быки, а на санях лежат горой бочки. Вот они и звенели, постукивали. А я как людей увидела, так и отлегло на душе – теперь, мол, пойду не одна. И мне они тоже обрадовались: женщины оказались добрые, славные, все о себе рассказали и меня расспросили. Под эти разговоры хорошо идти – не замечаешь усталости. Но недолго было мое удовольствие. От Чернавки началась такая дорога, хоть плачь. Не торено и не езжено. Быки проваливаются по колено и ложатся прямо на снег. И теперь хоть бей кнутом, хоть ругай их – они только шею вытянут и мычат. Устали бедные, не могут идти. Женщины ходят возле них, уговаривают, но все напрасно. И тогда они сели прямо на сугроб и заголосили: видно, мол, придется ночевать прямо в поле. Горючее-то не бросишь – сразу тюрьма.
Они остались, а я дальше пошла. Думала, до утра буду дома. И дошла бы я, сынок, дошла бы, конечно, если бы не стало мне блазнить. Никогда не случалось, а тут взяло меня в оборот. Ну вот иду и слышу – точно бы дети плачут. Правда, правда, плачут, поскуливают. Вначале вроде бы потихоньку, а потом все сильнее, сильнее. А сама пока не боюсь, наверно, мол, кто-то в поле ночует. Кого-то пристигло, вроде меня… Подхожу ближе к тому месту, откуда эти стоны были. А там нет никого. Вот это да! У меня и ноги стали подгибаться, а кого кричать, вокруг ночь, хоть бы звездочки показались. Но и тех не видать. А идти-то надо, никто не поможет. Ну ладно. Еще шагов двадцать сделала – вроде бы тишина. Мне теперь поспокойней, но через минуту снова да снова. Кто-то плачет, постанывает, да вроде бы не один еще. Я остановилась, хочу получше понять: и, ты представляешь, как будто бы дверь на петле поскрипывает. Я дыхание затаила: нет-нет, все-таки детский плач. Пробую уверить себя, успокоиться, ерунда, мол, это со всеми бывает. Просто шла и задумалась, а оно и нахлынуло. И во всем, мол, виноваты ночь, одиночество да подружка моя Ольга Васильевна. Она мне, сынок, рассказала одну тяжелую историю. Не знаю, говорить ли тебе, а может, не надо пугать?
– Говори, мама, говори, – прогну ее, а сам потуже пальтишко запахиваю, потому что стало ветрено. Посыпал редкий снежок.
– Ну ладно, если настаиваешь, – соглашается мать и тоже водит плечами. Ветер и ее не щадит.
– А историю эту мне рассказали в Глядянке. Я сперва не поверила, а Ольга Васильевна подтвердила. И даже в подробности, да-а… Значит, жила у них одна многодетная колхозница – мужа на фронт взяли, а сама с четырьмя. И мал мала меньше. Старшего, правда, удалось в Камышное отправить к бабушке, но и троих кормить надо, а чем? А тут еще от мужа писем не стало – месяц прошел, второй, и вот уж третий начался. А в доме – ни крошки. Она – к соседям, туда-сюда, а там – такое же дело. Сам знаешь по нашей деревне. А дети уж опухать крепко начали, да и разуты, раздеты. Она в райсовет пошла, там отказали: карточка, мол, вам не положена, вы не жена офицера… Еще неделя долой – она снова к начальству, но опять отказали, она в третий пошла – ее уж с порога гонят: надоела, липучка. Много сейчас таких… Ну раз много, я сделаю – будет мало, – подумала и решилась. Ох, Витя, Витя, знал бы ты, на что мы готовы ради детей. А они уж у нее не говорят, только пикают. В доме-то даже мерзлой картошки нет, чего ждать еще. А ждать нечего. И вот стемнело, она окна закрыла ставнями, а сама заранее топор приготовила. Потом вытащила из печи ребятишек – они, говорят, у ней были погодки, самому младшему только два годика. Вот и лежали они в печи, потому что одежонки-то нет совсем… Нет, сынок, не про меня все это. Но раз уж начала, то окончу…. Ну вот, они так голышом и лежали, согревали друг друга. Да разве согреешься? Они и так скоро бы умерли, не протянули бы долго, но мать решила по-своему. Решила и сделала. А перед этим прижала их к себе и облила всех слезами. А потом… а потом подняла топор. Да и много ли им надо-то, они и так уже были скелетики. Только, видно, дотронулась – и вышел дух. Потом и себя по виску – и сразу конец… Вот, сынок, какая вышла история. Видно, потому тогда и поблазнило. Иду, значит, а впереди плачут детишки и плачут. Хоть бы поехал кто-нибудь, хоть бы подвода какая, но нет никого. А плач снова в ушах, снова да снова. Я уж подумала, что с ума схожу, ведь такое со мной – в первый раз. Стала считать про себя, какие-то цифры прибавлять, умножать, потом вспомнила брата Женю и отца твоего, но ничего не помогает – плачут и только. Надо бы бегом побежать, но не могу – нету сил. Ноги как перевязаны. И так длилось еще час, может, больше, а потом луна вышла, посветлело чуть-чуть на дороге, и плач стал пропадать, уменьшаться, а потом и пропал совсем. Как и не было. И вот уж за ближним леском показалось Камышное. Отсюда до Утятки всего ничего. Пришла домой ранним утром, вы еще спали, а я стучу в дверь и смеюсь, улыбаюсь – ведь живая же, дошла все-таки, как хорошо!.. А ты, Витя, слушаешь меня или спишь?
– Как же, мама, – удивляюсь я, – на ногах разве можно спать?
– Всякое бывает, не зарекайся… А ты смотри, как задувает. Неужели метель?
– Ничего, съездим, нарубим, – пробую ее успокоить.
– А может, вернемся?
Но я молчу, не отвечаю. Манька идет спокойными ровными шагами. Полозья повизгивают. А ветер усилился. Я закрываю лицо рукавичкой, но закрыть не могу. Ветер проникает до самого тела, и мои зубы стучат как от страха.
– Давай, Витя, вернемся? – опять просит мать. Но я возражаю:
– Дома-то холодина.
– Холодина… – соглашается мать, а сама дышит уже тяжело и устало. Всю прошлую ночь она не спала – до утра проверяла тетрадки. И вот теперь обессилела. И тогда я пробую ее успокоить.
– Ничего, скоро доедем. Вон уже колок.
– Да как ты видишь, сынок? Метель же, темно.
И мать права. Ветер усилился, и пошел сильный снег. От него теперь не спастись. Снег мелкий, колючий и очень походит на град. Манька стала оглядываться, помыкивать – точно ждет каких-то распоряжений. Но мы молчим, и корова снова бредет вперед. Ей уже трудно, ветер мешает шагать. И вот уже впереди – сплошная белая стена. Это крутится снег, и мне кажется – он живой. Так и есть: снег живой, и я слышу, как он хлещет меня по лбу, по щекам, у матери тоже покраснело лицо. Я наклоняю голову ниже, но это не спасает, не помогает – теперь сильнее мерзнет спина.
– Сынок, ты хоть шевелись побольше! Попрыгай… – Мать кричит, напрягает голос, но я уже плохо слышу – мешает ветер. А потом случилось что-то – я чуть не споткнулся о сани. Оказывается, они остановились. Мать на корову прикрикнула, но Манька – ни с места. Наверно, устала. Теперь, конечно, беда. Мать подошла к Маньке и стала ее уговаривать: – Манюшка, выручай нас, несчастных. Ну еще немного, прошу тебя, милая… – Но корова только мычит и стоит на месте.
– Давай, Витя, поуговаривай. Может, хоть тебе не откажет.
– Да она же устала.
– А мы с тобой не устали? Не помирать же тут среди поля.
Делать нечего – подхожу к корове. Она дышит тяжело, и бока подрагивают. Я ее обнял за шею и начал гладить, упрашивать. Что я ей говорил – не могу вспомнить теперь, не знаю. Только пожалела нас Манька. Едва отошел от нее, она подняла высоко рога и сделала один шаг вперед, потом и другой, третий сделала. И опять заскрипели сани. Мать рада, машет руками:
– Это тебя же корова послушалась! Ай да сын у меня. Молодец!
А я и рад похвале… Теперь и ветер не страшен. Да и мать решила Маньке помочь. Она накинула ей на рога веревочку и пошла впереди. И теперь дело наладилось… Мать впереди тянет веревочку. Манька у нас посредине, а я – замыкающий. Так и до леса дошли. Мать что-то говорит и говорит без умолку: в лесу-то тепло, хорошо. А потом достали ручную пилу с двумя ручками и стали пилить березу. И вот теперь опять страшно. Мы, конечно, не воры, но лес-то казенный. Потом пилим – оглядываемся, но позади только Манька дышит да снег шуршит. Он срывается с сучьев и опускается на сугробы. А мне уже жарко, я хватаю снег варежкой и бросаю в рот. Мы спилили одну березу, потом и вторую спилили. Начали обрубать сучья, мельчить. Вот и погрузку уже закончили, стянули воз толстой веревкой. Теперь бы обратно, но Манька легла на снег – и ни с места. То ли задремала, то ли задумалась. Мать опять стала ее просить, уговаривать, но корова только моргает.
– А ну-ко ты, Витя? Может, послушает.
И действительно, я пошептал ей что-то на ухо, погладил лоб – и она поднялась. Мать ликует:
– Ой сын, мой сынок! Да как бы я без тебя?!
А я молчу, только щеки мои пылают. Видно, дорого стоит мамина похвала.
А дело уж к вечеру, но нам не страшно – ветер дует теперь в спину, да и дрова наши напилены и уже увязаны. Одно плохо – мороз прибавился. К ночи он всегда злится, играет. Но мы пока его не боимся. Правда, мешает усталость. У Маньки из ноздрей уже идет слабый парок, который сразу же образует сосульки. Время от времени мы их убираем, и тогда корова останавливается и благодарно вытягивает шею. Она ждет продолжения ласки, внимания, но маме это не нравится, и она кричит на нее: «Ну что ты, кляча, остановилась! Скоро уж ночь…» Но Манька ни с места. И тогда мама начинает упрашивать: «А ну давай, Манюшка, давай выручай… А если споткнешься, то уж больше не встанешь. И нас завалит снегом – и до весны нас не хватятся…» И теперь корова ей подчиняется и опять шагает, шагает, и наши сани опять вверх-вниз по сугробам. Ветер теперь стал слабее, и снег убавился, зато мороз действовал по-хозяйски. Мое пальтишко смерзлось в один комок и при ходьбе звенит как стеклянное. Если по нему стукнуть палкой, оно разлетелось бы на куски. Да и мать тоже замерзла. На коленки она намотала какие-то тряпки – теплого белья у ней не было. Но какой толк в этих тряпках – мороз перебирает все косточки. Я вижу, что каждый шаг ей дается уже с усилием. Шагнет – и тело бросит куда-то в сторону. Мне кажется – мать вот-вот упадет. Но упала не она, а Манька. Я даже не видел, как это случилось. В тот момент я шел сзади саней и вроде бы задремал. Помню, хорошо помню: ноги как будто шагают, а тело стоит на месте. И вдруг запнулся о сани. Но вначале не понял и вздрогнул:
– Мама, где мы?
– Все там же, сынок. А корова у нас погибает…
– Почему?
– А потому… Съездили, глядишь, за дровами.
Мать наклонилась над Манькой и стала гладить у ней меж рогов. Корова не шевелилась, только глаза были живые – ресницы моргали. Она лежала на снегу боком: ноги, видно, увязли в сугробе, и корова упала. А подняться уж не было сил… Я тоже наклонился над ней и, помню, закричал радостным голосом:
– Мама, мама! Она ведь дышит!
– Да кого уж сынок. Ты же видишь – пластом лежит… – Она сохватала ее за шею, заголосила.
– Мама, не надо…
– А что надо-то? Ты скажи мне, скажи, что надо?! – Она заголосила еще сильнее. Шаль на ней развязалась, размотались концы. Одна щека на лице побелела. Я кинулся оттирать щеку варежкой, а мать как будто пришла в себя. Хоть голос теперь спокойный:
– Давай, Витя, начнем распрягать. Без саней-то, может быть, встанет.
– Она и так встанет! Честное слово! Я ей что-то скажу…
– Сынок, бесполезно.
– Я знаю, мама, я знаю!
Но, конечно, я не знал ничего. Просто надо было что-то делать, предпринимать. Я наклонился над Манькой и стал дуть ей в ноздри. Она замотала рогами. А я – снова да снова. Дую, как ошалелый. Щеки чуть не порвал, но добился: корова начала подниматься. Вначале на колени уперлась, потом мотнула рогами – и вот уж снова стоит в оглоблях. Смотрит на нас, как будто не узнает. Я прикрикнул громко – откуда сила взялась:
– Но, но! Пошла-а!
Манька сделала два шага и снова остановилась. Бока у ней ходят ходуном, и еще миг – и упадет опять. И тут мать придумала:
– Витя, у нас же есть запасная веревка!
– Ну и что?
– А вот что! – Она размотала веревку и привязала один конец за передок у саней. Второй конец протянула мне:
– Берись, запрягайся, сынок. Я тоже возьмусь… Ну как, хорошо?
– Хорошо, хорошо. Поможем немного Маньке.
– Конечно, поможем! – веселеет мать и начинает тянуть за веревку. Я ей помогаю. И мать совсем веселеет:
– Голь на выдумку хитра! Ну что, Маня? Хватит стоять…
И корова, что-то поняв, со всей силы дернула сани. И они сразу пошли, заскользили. Маньке легче теперь, потому что мы с матерью как бурлаки. Я быстро устал, но не подаю вида. Тяну за веревку изо всей силы. Мне даже кажется, что я один тащу сани. Стало очень тепло, даже жарко. И матери жарко.
– Ой, какие мы молодцы! Втроем везем сани! – Она дышит трудно, с надсадой, но все равно пытается говорить: – Ты, Витя, не обращай внимания.
– На кого?
– Да на меня – что заревела сейчас, не сдержалась. Раньше из меня и слезинки не вытянешь, а тут не смогла… Да она же сынок, совсем погибала. А куда мы без Маньки…
Я больше не подговариваюсь, мне тяжело. В груди все сжало, перехватило, как будто меня убили. Зато Манька идет теперь хорошо. Может, чувствует дом. И вот показалась деревня. Но вначале я ее не узнал. Какие-то огоньки замельтешили впереди, замелькали, и я испугался:
– Мама, это не волки?
– Какие волки? Мы же к дому подходим…
Но радоваться уже нет сил. Последний километр я бреду как в тумане. Да и плечи болят – веревка изрезала. Сейчас бы пал – и не встал. И пусть из ружья бы в меня прицелились – все равно бы не шевельнулся. И с матерью тоже плохо. Она что-то бормочет, шатается. На меня взглянет и снова бормочет. То ли сердится, то ли шепчет молитвы. Но чего их шептать – бог от нас отступился.
Да, Федор, он отступился от нас в тот вечер. Ведь мы же не дрова тогда привезли домой, а горе большое. У нас Манька-то обморозила вымя. На снег ложилась – вот тогда и случилось. А может, и ветер ее доконал – корова не скажет.
Проболела наша Манька целый месяц. И сама измучилась, и нас измучила. Но это было только начало. Горе-то, говорят, в одиночку не ходит. Мы же тогда бабушку едва не потеряли. Но об этом, Федор, в другом письме. Ты и так, наверно, в обиде: одно, мол, горе да горе, а где же праздники, где же радость, где чудесный бумажный змей на веревочке, который к облакам летит, к облакам… Ну что мне ответить, сын, да и надо ли? Такая, видно, судьба мне выпала, а ее не изменишь… А разве у тебя будет легче судьба? Конечно, не легче, и тоже начнутся свои ветра и метели, и ты тоже потащишь свои тяжелые сани, и они где-нибудь увязнут в сыпучем снегу… И ты тоже в бессилии упадешь на них, а потом встанешь, обязательно встанешь – я уверен, я знаю, ради этого и пишу свои длинные письма. Ради этого, сын. И еще ради того, чтоб ты всегда верил, надеялся и чтоб однажды вскинул вверх голову и поразился: «Какие звезды! И я их вижу, и впереди у меня еще тысячи и тысячи дней, и как хорошо, что я – человек!..»
Вот и сейчас я тоже смотрю на звезды. Они совсем близко, можно даже потрогать. И я беру одну из них и ставлю перед собой. Она сразу гаснет, потом опять зажигается, потом опять уходит куда-то, потом опять яркий свет… Ты смеешься, ты догадался. Да-да, сын, это маяк. Он не бросает меня, и потому мне не страшно…








