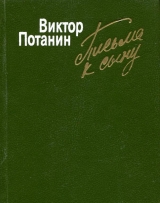
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Письма к сыну
ПИСЬМА К СЫНУ
Повесть
О ПРОЩАНЬЯХ И ВСТРЕЧАХ…
Эти страницы писались у моря под шум осенних дождей и вздохи прибоя. Наверное, потому в них нет ясного плана – какие же планы у моря. Там все стихийно, как волны. И наши чувства и даже надежды. Впрочем, надежд было мало – я приехал к морю с тяжелой болезнью и, чтоб совсем не отчаяться, начал писать. Но это были не рассказы, не повесть, а письма. Обыкновенные письма моему пятилетнему сыну, который, конечно, не знал еще ни единой буквы. Да что из того, что не знал? Покупаем же мы своим ребятишкам одежду на вырост, да и время летит, как ветер. Не успеешь оглянуться, как сын окажется в старших классах. Вот тогда и прочтет по-настоящему эти странички. Как хочется верить в это, надеяться…
Да, надежда – великое слово. И вот сейчас, читатель, на минуту прервемся. Дело в том, что меня пугают твои глаза. В них, чувствую, усмешка и осуждение. Да-да, усмешка. Зачем, мол, сочинять какие-то письма – обращение к сыну. Наверное, это литературный прием и только. А раз прием, значит, будет скучно, уныло. Вот и зевать уже хочется, честное слово. Это ж не чтение, а пытка. И почему не хочется написать нашим авторам о настоящей жизни – о людском горе, страдании? Ведь куда ни ступи – везде это горе, везде душа наша плачет и просит защиты. Вот и писать бы об этом, об этом! И тогда бы вышла хорошая книга. Да, наверное бы, вышла. Но все же не спеши с приговором. Доберись как-нибудь до последней страницы… Ну чего тебе стоит! А когда доберешься – тогда и будем выяснять отношения. Пока же покаюсь тебе, признаюсь, хотя это и не в мою пользу. Но все равно признаюсь – пока писались, возникали во мне эти странички, я совсем о тебе не думал, мой строгий читатель. Ведь не пишутся же письма для постороннего глаза. Нет, не думал я о тебе, да и не до того было. А думал я тогда только о нем – о Федоре, самом дорогом человеке.
Это имя моего сына – Федя, Федор Потанин. У меня так же звали отца. Он был пограничник. Он погиб в самом начале войны, летом сорок первого года. От него было только три коротких письма, только три – даже страшно подумать. И два из них были написаны мне, его сыну. Они теперь в нашем доме – основное богатство. Да что говорить – эти письма, как живая вода, живое дыхание. Когда мне трудно, я достаю их и читаю. И в такие минуты мне особенно грустно.
Вот и тогда мне тоже было трудно, невыносимо. Сорок дней подряд я пробыл в больнице, и меня дважды чуть не отпели, но бог милостив – болезнь отступила. Хоть на время, но отступила, и семья решила послать меня к морю. «И чтоб вернулся здоровым, молоденьким. Больного не примем!» – пошутила жена на прощание. Но когда улыбалась – в глазах были слезы. И я догадался – она не верит в мое спасение. Так и запомнил ее лицо: усталые, потерянные глаза и такая же улыбка. Как это грустно – человек улыбается, а сердце у него плачет. А что делать? Кому пожалуешься? Да и все мне тогда улыбались, желали здоровья. И потом, на вокзале, собрались вокруг меня почти все друзья и родные, и каждый старался утешить: «Ничего, выше голову, выше! И не таких море лечит. Да и какие твои годы. Как на крыльях прилетишь…» И еще много всякой чепухи говорили, но я только кивал, отводил глаза, да и что им ответить? Они ведь меня жалели, а это всего тяжелее. Наконец я забрался в тамбур, поставил свой чемодан в дальний угол и последний раз оглянулся. Жена подняла руку и опять улыбалась. Потом стала что-то кричать мне, но я плохо слышал. Поезд уже отходил от перрона, и это спасало…
И вот дорога! Везет меня скорый поезд Новосибирск – Адлер. В нашем Кургане он стоял двенадцать минут, но мне и этого было много – хотелось быстрей уехать, исчезнуть, надоели все утешения. И вот желание сбылось: за вагонным окном уже проплывали низенькие строения, железнодорожные склады и крытые платформы, потом начались длинные пригороды – дачки и огороды, высокие крыши. И то ли от недавних прощаний, то ли от этого монотонного зеленого цвета у меня разболелось сердце. Оно часто у меня болело, но тогда схватило так, что я испугался. Пробую вздохнуть и не могу. В груди – сильный комок. Вот тебе – «как на крыльях прилетишь», «в твои-то годы какие болезни». Но скоро эти мысли перебили другие: «И куда ж ты, глупый, собрался? Да и придется ли вернуться обратно?..» – И после этого началась тоска. Она походила на какой-то дремучий бор, бесконечный, темный, опасный – и сквозь этот бор я шел, пробирался. И вот уж силы все на исходе, а бор все гуще, темнее, опасней. А звать некого, и кричать бесполезно. Вокруг – пустота, неизвестность. И в этой пустоте вдруг – чьи-то слова, разговоры, но я их не знаю, не понимаю: у меня нет ни слуха, ни зрения – я живу на другой земле, а может быть, уже умираю. «Но нет, нет, ты живой еще и не наговаривай на себя, не пугайся. Ведь это тебя сейчас везет скорый поезд, это в твоем купе разговаривают какие-то чужие люди, но ты их просто не слышишь, не замечаешь…» – Так утешает меня душа, и мне жаль ее. Господи, господи, да сколько уж она всего вынесла и сколько еще придется. А в этом году особенно, в самом горьком моем году. Да сжалься ты, господи, если есть ты на свете. Наверно же есть, раз тебя все призывают… И мою мольбу, кажется, кто-то услышал. К вечеру мне стало полегче. Я даже нашел в себе силы забраться на верхнюю полку. Это мое любимое место в дороге…
А потом – ночь, луна, пустая степь за Уралом. И по этой степи бежит поезд, грохочут вагоны. Нет спасенья от них – грохочут. И только луна, немая, холодная, не обращает внимания. Да и что ей наш поезд, что ей? Всего лишь песчинка, тень на белой ночной равнине, только память каких-то событий. А может, и памяти-то нет у этой луны – все приелось за тысячи лет, примелькалось и потому испарилось… Но нет же! Так не бывает! У всего есть смысл на этой земле, и сам я тоже наполнен смыслом. Да что я?! Каждый человек – это радость, кому-то награда… Но тут меня перебили. В каждом из нас сидит всегда кто-то лукавый, ехидный, с густыми бровями – и вот сейчас этот бровастый заметил: «О чем же ты толкуешь, мой дорогой, куда воспаряешь? Ну какая же радость-то от больного?.. Только обуза семье, как камень на шею. Да и жить тебе осталось – всего ничего, так что не возникай, веди себя поскромнее…»
«Ну конечно, с таким сердцем долгожителей не бывает, – согласилась душа моя и сразу себя опровергла. – Но ты же у моря окрепнешь, подлечишь себя, отвлечешься…» – И тут снова ее перебили: «Едва ли подлечишь, едва ли…» – Опять мешал мне, лез с советами тот ехидный лукавенький человечек, и я уже его ненавидел. И даже луна была заодно с моими врагами. Она нахально заглядывала в окно, желтолицая, узкоглазая, и что-то знала и понимала. И чтоб не видеть ее, я закрыл глаза. Но лунный свет проникал сквозь веки и мешал думать, уйти в себя. И чтоб не мучиться, я лег на подушку повыше и огляделся. Внизу, на нижней полке, сидели двое – старые люди. Они были муж и жена. Я понял по их разговору. И на другой полке, напротив, тоже сидела старушка в серой пуховой шали. Она все время поводила плечами, как будто мерзла, а может, чем-то была недовольна. Потом проводница принесла чай, и старик распечатал банку с вареньем. В купе сразу запахло смородиной, садом, и я улыбнулся: смородина – заветная моя ягода… И в этот миг меня пригласили:
– Спускайся к нам, будем чаевничать.
– Спасибо, я чуть попозже.
– Смотри, два раза не приглашаю. – Старик рассмеялся и взглянул на соседку в пуховой шали: – А вы как? Или тоже попозже?.. – Он усмехнулся и смешно подвигал губами.
– А мы выпьем стаканчик, – ответила та тихим голосом и подсела поближе. Осторожно, двумя руками взяла стакан, как будто боялась обжечься. И пить стала так же осторожно, размеренно – сделает глоток и задумается, потом еще глоток – и опять остановка. Ее что-то томило, не отпускало, а может, я ошибался…
А колеса стучали, и в окно поглядывала луна, но я уже привык к ней, не обращал на нее внимания. Да и дышать стало легче. Боль от меня уходила. Так порой остывает, свертывается костерок от первой росы на солнцевосходе. Только досчитай до десяти, только отвлекись на минуту – и вот уж нет его, как приснился. А ведь еще час назад пылал на два метра. Но повалилась роса – и уснул огонь, не разбудишь. Так и теперь – я лежал уже тихо, спокойно, и сердце совсем не болело. Я стал мечтать о сне, даже закрыл глаза. И чтоб покрепче заснуть, натянул одеяло на голову и стал вспоминать о сыне. И может быть, заснул бы под эти тихие мысли, да внизу заохал старик. Я посмотрел вниз, но ничего страшного не заметил. Старик охал, наверное, по привычке. А потом он откинулся назад, положил под спину подушку и хотел вытянуть ноги. Ему не хватило места. Тогда он положил ноги на колени своей соседке. Я усмехнулся – дает старина! Та же заворчит сейчас, отодвинется, но я просчитался. Старушка сняла с плеч пуховую шаль и закрыла у него ноги. Вот это да! Как будто нянька-сиделка или жена… Но жена-то была совсем рядом, протяни руку – заденешь. И опять я подумал, представил, что сейчас уж она возмутится – какая-то, мол, чужая заботится о ее благоверном. И снова ошибся – старуха даже не пошевелилась. Вот она, старость, – лишь бы, мол, было покойно ногам его, лишь бы не охал. Через пять минут старик начал посапывать, и обе старушки затаили дыхание, не шевелились. Они точно сторожили покой его. Так и было, наверное, что сторожили. Вот она, старость… Я смотрел на них и завидовал: мне бы это спокойствие, тишину во всем. И вдруг та, которая укрывала ему ноги, уследила мои глаза. Я вспыхнул – она головой мотнула и губы поджала – нехорошо-де подглядывать, нехорошо. Я хотел что-то сказать, оправдаться, но она опять головой покачала и улыбнулась. И тут я вспомнил, я догадался, а ведь это давно знакомо мне, почти со дня рождения знакомо. Такая же привычка была у моей бабушки Катерины. Я что-нибудь натворю, она только головой покачает. И ни упреков, ни ссоры – только улыбнется про себя, головой покачает. И такой же взгляд у ней, как у этой, и похожа улыбка… И даже руки у них одинаковы – узловатые, в синих венах. Я вспомнил, и сразу стало легко в голове и спокойно. А потом медленно, как шаги по глубокому снегу, стали возвращаться надежды. Я убеждал сам себя, и я верил – стыдно, подло, мой дорогой, так распускаться. Ведь ты еще не прожил и половину своего срока… В твои-то годы позор думать о худшем, самом последнем. Ведь у тебя еще все впереди – и здоровье, и силы. Тебе еще нужно погулять на свадьбе у своего сына… «Да-да – на свадьбе!» – убеждал я сам себя и улыбался, без конца улыбался. Со стороны бы кто посмотрел – признал бы меня за дурачка, за блаженного. Ну и пусть, пусть… Я зажмурился – колеса стучали, вагон шатался, подрагивал, и сквозь ресницы опять сочился лунный свет и давил на зрачки, но это не мешало, не злило меня, а наоборот, успокаивало. И вот уж лунный свет оказался на потолке, потом у меня на одеяле, и в этих бликах была даже какая-то ласка, призыв, ожидание, точно кто-то могучий посылал мне с неба сигналы, – и вот уж душа моя сдвинулась с места и полетела навстречу, и я за ней, за ней следом – как хорошо теперь, как легко. И закрылись глаза, в голове опять стало тихо, бездумно. Я уже думал, что засыпаю, но что-то мешало и отвлекало. Потом я понял наконец, догадался – это же голос, знакомый голос… Но чей же он, где его слышал? Он то наплывал сверху, то отдалялся, то опять был рядом, на расстоянии ладони. Но чей же ты, голос? Признайся!.. И почему молчит память, почему слова непонятны?.. А может, это сон уже, наваждение? А голос опять уже рядом, совсем рядом – я даже слышу чье-то дыхание. Слышу, слышу, честное слово… И только хочу понять, ухватиться, как слова свиваются в клубок, ускользают. Это похоже на волны, на шум дальних сосен. Но где же ветер? И только подумал, так сразу запахло полынкой, березовыми дровами, как будто я только что вышел на лесную поляну. А как легко мне! И совсем стихло сердце, точно оно никогда, вообще никогда не болело. Точно все болезни я сам придумал, надевал на себя, как чужие одежды. И вот сейчас я сбросил эти тряпки, освободился, потому и легко мне, свободно. Теперь бы надо приподняться, но в руках почему-то нет силы, и в ногах – тоже, и все тело точно пустое. И только голос!.. Он снова рядом, возле самого сердца, и оно опять забилось сильно, толчками. Я хорошо слышу эти удары, и мне страшно и хочется кого-то окликнуть. Но в этот миг опять слышу чье-то дыхание. Оно наплывает сверху, притягивает меня, волнует, а потом снова уходит. И это снова похоже на волны. И тогда я решаюсь… И вот уже дыхание опять рядом – я собираю все силы, бросаюсь вперед и успеваю!.. И вот уже течение относит меня вперед, приподнимает, а вокруг тихо, как в поле. И в тишине возникает голос: «Заинька беленький, где был? На меленке. Что делал? Муку молол. Какую муку? Простую да аржаную. А на ком муку возил? На лошадушке…» Господи, да как же я сразу-то не признал? Это же моей бабушки голос! Ну конечно, конечно… – шептал я сам про себя. – Я же так хорошо сейчас вспомнил. И узнал его, и не мог ошибиться. И слова тоже узнал. Она каждый вечер их напевала, насказывала. Я в кровати ворочался, пускал ртом пузыри, а она сидела рядом, возле меня. Ну конечно, какой разговор – это она, бабушка Катерина. Я от радости закричал – и в этот миг открылись глаза. Колеса стучали, качался вагон. Значит, все же во сне я кричал. Но нет, нет, почему же – совсем не во сне. Голос-то бабушки все равно рядом, в нашем купе:
– Я лошадушек-то сильно любила, да, да. Одну помню хорошо – Уголек. Вороной масти, красавец. Фондовская лошадка, да, да. И на лбу чуть заметно пятно. Ну, полянка белая, островок. Так с пригляду и не заметишь, только если вглядишься… – И в это время я свесил голову – решил узнать, кто говорит. Но они сразу затихли, старик посмотрел с осуждением. Я улыбнулся – и тот сразу оттаял:
– Садись за компанию.
– Спасибо, я немного посплю.
– Как хошь. Два раза не приглашаю. – И он обиженно поджал губы.
– Да вы не сердитесь, – начал я почему-то оправдываться, но он остановил меня жестом – поднял руку и опустил.
– А чё сердиться, мы люди не злые. Мы вот тут лошадушек разбираем… Почему замолчала-то? Вроде начала хорошо, да не кончила. – И он посмотрел вприщур на соседку. И та рассмеялась:
– Если просите, то и продолжу…
Я натянул на себя одеяло и притворился, что сплю.
– Я продолжу, конечно… – Она тяжело вздохнула и сухо кашлянула в кулачок: – А жили мы в то время на воле, на выпасах. В трех верстах от деревни. Кругом степь, а сверху – солнышко да птички летают… Там мы и спали и ели, там и загоны были. Кольев натыкал – вот и загон. Но я уж буду все по порядку… Отец-то конюхом был у меня, а я ему помогала. Раньше конюха-то – первые люди.
– Оно ясно… – сказал тихо старик, но она усмехнулась.
– Ясно-то ясно, а у нас вышло пасмурно. На молодняк-то волки напали, да, да, получилось такое, напали, никого не спросили. Как сейчас вижу: отец за ружье, а я захватила голову и реву…
– Баба есть баба, – опять перебил старик, но она не обратила внимания.
– Отец из ружья палит, кони ржут, хвосты поднимают. Не могу даже рассказывать – не приведи никому… – Она покачала головой и платочком промокнула лицо. – Вот оно как. Нету слез, а заплачешь. Двоих-то жеребят у нас наповал…
– Задрали, што ли? – изумился старик.
– А как же – задра-а-али, – она всхлипнула. – А третьего-то покусали да бросили. Отец его хотел прирезать, чтоб не мучился, но я отстояла. Давай, мол, лечить, может, выходим? Отец головой закрутил – да стоит ли, дочь, но я как прицепилась к нему – так и не отстала. И уговорила отца, понимаете. Ну и ходили за ним и лечили. Да чё там: как с ребенком возились, поили из ложечки. Он и стал у нас поправляться. Потом имя придумали – Уголек.
– Отец-то живой у тебя или помер? – Это снова старик, его голос. А потом слышу, как на него жена цыкнула:
– Зачем перебиваешь добрых людей? Совсем уж бессовестной.
– Да ничего, ничего, – улыбнулась рассказчица. – У него же законны вопросы. Но только нет уж отца, давно нет. Таки люди не живут долго, разве не знаете. Он ведь как у нас – все к сердцу да к сердцу. Оно и не выдержало – шабаш. Помер папонька в первый же год войны… Но вы меня сбили немного, да?
– А мы извинимся. – Старик смущенно покашлял.
– Значит, стал наш Уголек поправляться, и с едой пошло мало-помалу. Только все равно малахольной с виду, пузатенькой. Видно, лекарства много давали, перекормили. Нехорошо вышло. Опять же нельзя без лекарства.
– Нельзя, – согласился старик и поморщился, как будто сам сейчас принял лекарство. И вдруг спросил громким голосом: – Ну и как дальше-то? Почему замолчала?
– Уголек совсем пошел на поправку. День ко дню – не узнать коня. Как на дрожжах попер. И высокой стал, кареглазой, поджарой. А уж умной! Все слова понимал.
– Они все понимают… – поддержал ее старик. – Оли чисто все понимают. У нас вон была в колхозе кобылка Калина – так плясала, чертовка. Заиграть, бывало, на хромке, она хвост подымет да зубы оскалит…
– Кака така Калина?
– Вот тебе кака, затака! – передразнил старик, рассмеялся. – Неуж не пробовала калину? У нас ее и в пирог, и в варенье…
– Ну бог с ней, с калиной, – вздохнула старушка. – Только ведь вскорости война, как камнем по темю. И Уголька нашего повезли на фронт. Да, да… Полтабуна в колхозе зачистили, самых лучших забрали, как на подбор. А отец сопровождал коней прямо до станции. Он и видел, как погрузили их, как закрыли вагоны. А потом, значит, паровоз загудел, загудел. Это надо же выдержать, товарищи дорогие. Я так сейчас понимаю – поди легче литовкой по шее… А тут этот черт загудел, загудел, колеса загрохотали – и тятеньку нашего подкосило. Он – на бок да на бок да прямо в сугроб и рухнул. Вот как жалко лошадки-то. Такого и привезли домой – отнялись руки-ноги. А ночью-то и случилося. Наклонились над ним, а он уж холодной. И ни слова нам, ни полслова – так молчком и убрался.
– Как же так? – отозвался старик. – Из-за коней-то? Помирать бы не надо…
– Ясное дело – лучше бы жил. А через полгода и мамонька убралась. А потом похоронка на брата. Потом какой-то месяц прошел – получаю извещение на мужа, а у меня сынок на руках трехгодовалый. Это надо понять…
– Мы понимаем… – отозвался старик. – Тоже, поди, кое-что повидали. А теперь-то куда собралась? Наше дело с тобой на печке давить тараканов, а ты куда-то с узлами?
– К сыну, милые, к сыну. Он у меня на юг переехал. Сколько не отпускала, но раз собрался – не свяжешь… Там и жена у него, там и работа. Он у меня учитель. И своих деток трое. Так што богаты. И меня к себе звали, я сноху не похаю, но куда уж старье потрясешь. Я уж в другу сторону собралась.
– Помирать, что ли? – удивилась жена старика и заворчала, тяжело завздыхала.
– Видно, так. Два веку не будет. И рад бы пожить, да не выходит. Как ночь вон – так и грудь опояшет. Хочу дохнуть, а у меня обратно. Бывало так – чужи люди отваживались. Посинею вся, руки-ноги во льду. Так што месяца два еще поболтаемся, а там уж… да, да…
– Приготовила, значит, себя, – усмехнулся старик и строго покашлял. Он сердится, хмурит лоб, но она на него не смотрит. Дыхание у нее и впрямь тяжелое, липкое, точно тащит мешки. Так же в последнее время дышала моя бабушка. И тоже ночи боялась. Как ночь – так приступ и ноги синеют…
– Еду вот, а сама в комке. И если прямо сказать – боюся… Честно слово – боюся. Не пустая ж к ним еду. – Старушка подняла голову и покосилась на мою полку. Я зажмурил глаза от стыда – еще подумает, что я нарочно подслушиваю… А может, я просто мнительный? Может, им никакого дела нет до меня? Так и есть, потому что старик опять начал ее расспрашивать:
– Поди наследство везешь?
– Угадал! Как в воду глядел. – Она схохотнула, и старик тоже мыркнул, потом прикрыл рот ладонью. Они сидели рядком, как куры на седале. Старик был посредине. Воцарилось молчание. Но ненадолго. Старик снова спросил:
– И крупно наследство?
– Я не меряла. А тебе, видно, не терпится, надо узнать?.. – Она головой покачала. – Каки мы все любопытные, ясное море.
– Да ладно уж, не рассказывай, – рассердилась вдруг жена старика. – Не сильно и просим…
– Почему? У меня нет секретов, все наследство при мне. А че везу? А везу я, милые мои, всякие бумаги, да фотокарточки, да кое-чё из одежды…
– Каки бумаги?! – изумился старик.
– Да так – всего помаленьку. А само главно – письма мужовы с фронта, и мои письма – ему, да, да… Я ведь писала ему, но только не отправляла. После похоронки дело-то было – тогда и писала… – Она тяжело вздохнула. – А как не писать, если это силы давало. В войну-то всяко пришлось – и голодали и холодали. Да на моих руках еще двоюродна сестра оказалась. Она у меня инвалидка с рождения. Ноги есть, но считай, что нет. Болтаются, как веревочки. Так что без костылей – никуда. Но я все равно сестру за няньку держала. Сынок-то мой едва ходить тогда начал, так что без пригляду нельзя… Ну вот и жили так: и вроде люди мы, а вроде уже не люди… Ох, милые мои, рассказать обо всем – не поверите. И никогда, ни за что!.. Однажды пришла с работы, а сестра-то моя ползат по полу – упала, видно, с кровати и голову сильно расшибла. И лежит, родная моя, вся в крови, а сынок-то мой, вы понимаете… Нет, не могу дальше…
Старик бросил взгляд на меня:
– Если уж начала, так доканчивай.
– А что доканчивать? Это ж горе мое, это ж надо понять: сынок-то, вижу, приподнять ее хочет, а она у него вырыватся, выпадыват. Да и силенок-то нет у него, кого еще – муравей… Я как увидела это, так и сама зашаталася. И за что, думаю, судьба треплет меня, за какие грехи. Вроде по всем правилам я живу. И на работе с утра до вечера и ничего лишнего для себя не просила…
– А вот это нехорошо, – включил свое слово старик. – Если кто не просит, тот гордый, сам себя возвышат. Ведь не зря в писании сказано, что всякий просящий получит и всякий стучащий отворит дверь.
Старушка вздохнула:
– Только проси не проси, а никто не подаст… А вот похоронку-то мне подали. Прямо домой ее принесли. Но я ей не верила, потому и писать начала…
– Бывает. Всяко бывает, – согласился старик, – чудят люди по-разному, и никому не прикажешь.
– Э-э, не то говоришь, – усмехнулась старуха, – я не чудила и ума не теряла, просто похоронке этой не верила – нет, ни за что. И писала ему как живому, давала отчеты. И про сына, и про себя маленько рассказывала, и про соседей… Кто помер да кто женился, да всяко разно, да, да. Я же грамотна была, разбиралася. А теперь не поверите? Возьму карандаш, а он выпадыват, язви его. Дрожат рученьки, как у воровки. А чё украла, не знаете? Вот и я не пойму. Да и памяти нет. Так што гонит к концу… Вот явлюсь сейчас к сыну и сдам все бумаги. Пусть потом поминат, и внучата с ним заодно. У меня ведь и фотокарточек много. Молодая все желала сниматься. Теперь вот собрала в узелок и везу…
– У тебя, слушай, есть голова? – неожиданно засмеялся старик. – Неуж писала мужу отчеты?
– А как же, писала. И стопочкой складывала. Думаю, вернется и прочитает про наше житье-бытье. А похоронка чё? Бумажка – не больше. Так што я ждала всю войну, да, да… А жили-то – госпо-оди-и! Ни одеть, ни обуть, и на столе крапивна похлебка. А ничего. Есть люди, которы не выдержали, а я ничего. Это потому, что письма писала, отвлекала себя… – Она затихла, к чему-то прислушалась. Наверно, колеса ее пугали, забирали внимание. Старик тоже замолчал, только носом посапывал. И жена его тоже не шевелилась, как будто уснула. А я снова начал смотреть в окно. Луны уже не было, наверно, скрылась за тучами.
– Давайте-ко спать. А завтра встанем поране, чайку закажем. Люблю, понимашь, чай… – Старик хмыкнул и выключил свет. Купе сделалось голубое, чудесное… Как хорошо! Как легко, непривычно… Свет надо мной качался, переливался, играла голубизна… Вот ехать бы когда-нибудь с сыном вот в таком же купе. И чтоб так же про лошадок рассказывали, и чтоб так же угощали вареньем, и чтоб так же за окнами стояла луна… Неужели это возможно, неужели такое будет когда-нибудь?.. Неужели я доживу?.. А потом бы выйти у моря и жить бы там долго-долго, пока не кончится лето, пока не позовут домой наши сосны, наши снега. Федя, Федор! Ты, поди, тоже не спишь сейчас, ворочаешься в кровати… Ну конечно, конечно, я слышу… А ты-то слышишь меня? И в этот миг заговорила душа: «Ну успокойся же ты, не надо. И не терзай себя, не тоскуй без причины. У тебя же все еще впереди, впереди… И здоровье, и силы, и новые дороги, и встречи! Не торопи только время».
А поезд все шел, и стучали колеса, и раскачивался вагон, и летело пространство. Оно было живое – я слышал, я мог даже потрогать руками эти равнины. Да что потрогать – я слышал даже их дыхание, их звуки, и если бы не колеса… Но все равно они меня уже не пугали, не злили, я знал, что мне делать. Да, я знал, я понял и убедил себя… Я буду жить у моря, лечиться, а по ночам я буду писать сыну письма. Большие, длинные письма-отчеты: и о своей жизни, и о прошлом и настоящем, о родных и близких, и о тех, кого уже нет на земле и никогда уж не будет… И о мечтах своих, о надеждах, о прощаньях и встречах, ведь у нас с сыном все еще впереди, впереди…
Я буду писать их и складывать стопкой. А потом их накопится очень много – целая книга… А затем пройдет еще лет десять-пятнадцать – и мой сын их прочитает! И я тоже доживу до этой минуты. Я доживу!.. Теперь я знаю, уверен… Но самое главное – побыстрее начать мои письма, решиться…










