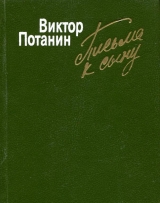
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
ПИСЬМО ПЕРВОЕ – О ШКОЛЬНЫХ ТЕТРАДКАХ
Дорогой Федор! Я решился – начинаю свои отчеты. Разве отчеты? Какое тяжелое слово! С удовольствием бы заменил его на другое. Но только зачем? Ведь от этого не утихнут мои волнения…
Да, я очень волнуюсь, переживаю – даже буквы выходят косые, неровные, как будто напугал их кто-то, прикрикнул. Но некому жаловаться. Никто же не просил меня, не приказывал, а сам я решился. И только об одном сейчас дума – поймешь ли меня, мой сын, или осудишь? Ведь я хочу рассказать тебе о самом близком, родном, неизбывном. Но это же трудно? Конечно, очень трудно, порой совсем невозможно. На исповедь нужны смелость, решимость, а я, наверно, не смелый. Я, дорогой мой, совсем обыкновенный, но это, конечно, не новость. Да и не всем быть в героях. И все же, сын, у меня есть тревога: в моих письмах будет много горя, печали, а молодые такое не любят. Им подавай праздник, бесконечную весну, ожидание. Счастливое ожидание. А в жизни-то, Федор, совсем по-другому. И надо будет привыкать к долгим зимам и трескучим морозам и к таким же долгим, невыносимым печалям. А радость, а ожидание? Но порой, сын, и ждать человеку-то нечего – все прошло уже, миновало, и осталось только одно – умереть… Но хватит, наверное, о печальном. Да и будут, обязательно будут в моих письмах и праздники, и надежда. Конечно, сын, все мы живем надеждой. Иногда даже смутной, неясной, похожей вон на то облачко у самого горизонта. Ты смотришь туда и все-таки не уверен – то ли есть оно, то ли отнесло уже ветром. Но все равно тебе хорошо, хорошо. А почему – сам не знаешь, не понимаешь. Да и зачем те вопросы. Вот и я сейчас размечтался. Представил, как однажды ты возьмешь в руки эти странички, а потом откроешь и прочитаешь. И пусть это случится раньше – в самом начале твоей дороги. Но если б знал ты, как я волнуюсь! А отступать уже некуда, я сам сделал выбор, решился… И вот уже беру весло, сажусь в свою лодку и отталкиваюсь от берега. Только рядом со мной не река, а море. И на море светло и ярко, как будто глубоко под водой горит электричество. Но это, конечно, мираж, обман зрения. Никакого там нет электричества – просто на воду падают прямые лучи, и вода от них горит и играет – невозможно смотреть, даже слепнут глаза. Но в этой игре есть загадка: лучи-то падают, а самого солнца нет. Его скрыли белые облака. И как будто из снега они, из чистого белого снега. И эта белизна пропускает лучи. Прямо нарисовал бы на память и сохранил… Как хорошо! А далеко-далеко это белое сливается с синим, и по этой черте продвигается длинный кораблик. Он похож на спичку, и эта спичка дымит сейчас, кого-то пугает. Но кого пугать – вокруг тишина. Сын мой, ты объясни: откуда она, такая огромная, такая непостижимая, сжимающая душу мою тишина? Хочется встать в полный рост и крикнуть. Но в последний момент одумываюсь – а зачем? Для чего? Да и отвлекает внимание ветер. Я замечаю его по движению деревьев. Они начинают чуть клониться, вытягиваться – вон кипарисы прямо на глазах у меня оживают. Ну конечно же, оживают – и в это сначала не веришь. Еще минуту назад они были какие-то каменные, уверенные. Кажется, стукни по ним топором, и сломается обух. Но, видно, и камень способен качаться. И все же к этому не привыкнуть. Смотрю на кипарисы, и мне печально. А почему печально – не знаю, не понимаю, может, вспомнилась наша береза. Ей бы тоже однажды добраться до моря, устроить бы праздник себе, развлечение, но, видно, не суждено… И в этот миг мои мысли кто-то сбивает. Но это ветер опять, тот же ветер. Он разметал надо мной обрывки старых газет, и они закружились, как птицы. Я поднял глаза и сразу зажмурился. В глаза ударило солнце. Его стало теперь так много, что оно закрыло все небо, да что там небо – оно закрыло и море. Откуда же столько солнца? Даже больно глазам – никак не привыкнуть. Наверно, скоро соберется гроза – вот перед дождем и гуляют лучи. От них теперь еще больше заблестела вода, почти закипела, и в ней замелькали какие-то тени – это, может даже, живая рыба. Как жаль, сын, что я не художник – у него ведь есть краски. А что я со своими словами – они порой скучны, как прошлогодняя травка. И поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о том же в какой-нибудь книге. Вот и сейчас я вижу такое – нельзя оторваться. Уже седьмой день я у моря, а никак не привыкну. Но, наверное, хватит пока о море. Давай посмотрим с тобой на другое. Вон глаза мои увидели стаю собак, и это меня развлекает. Собаки радуются солнцу и бегают по самой кромке прибоя. А что им… Их здесь много, посчитать невозможно. И они никому не нужны, я уверен, и в то же время нужны каждому вместо игрушки. Многие из отдыхающих кормят собак прямо с ладони, а потом… потом сразу о них забывают. И в этом – беда тех, несчастье, да никто не поможет.
Особенно среди них заметны щенки, потому что очень красивы. Любое детство и юность всегда красивы. Да, сын, это закон жизни, ты скоро узнаешь. Однажды знакомый парень показал мне фото своей невесты. Если б ты это видел! Он и она стоят у березы, и дерево это белое, снежное, и рубашка на парне тоже белая, яркая, и платье у невесты такого же белого, небесного цвета. И эта белизна, эта нежность прямо пронзили меня, спеленали. Я доже не знаю, не понял, что тогда нашло на меня, что случилось, – и только губы без конца повторяли, шептали: какие вы весенние, милые, как я завидую… И вдруг на обороте фото заметил надпись: «Мы не были красивыми, но были молодыми». И сразу же у меня испортилось настроение. Эх, парень, как ты ошибаешься! Тебе бы только два слова убрать, всего два слова. И тогда бы вышло: «Мы были красивыми, мы были молодыми…» Но я уж отвлекся, сын, полетел, как белка по дереву. И тебе трудно следить за мной, я понимаю. А потому обещаю тебе – исправлюсь, возьму себя в руки. А пока выпью свои лекарства и постараюсь заснуть. У меня для этого все условия: пока я только один в палате, а вторая койка пустует. Меня за что-то полюбил главный врач санатория. Да я знаю – за что. Ты представляешь – он оказался нашим, курганским. Приехал на юг много лет назад, но никак не привыкнет. Так что мы с ним вроде как земляки и родные люди. Видишь, сын, как повезло мне… А вот со сном не везет. Да и как здесь заснешь, если за окном солнце и рядом море. Нет, скажу по-другому, переставлю слова: за окном у меня сейчас море, а рядом – солнце. Да, я море ставлю на первое место, а что поделаешь – раз желает душа. Вот уже неделю живу в своем санатории, а все не верится, что в десяти шагах – море. Я постоянно о нем тоскую, и не проходит тоска. Это, может, смешно, непонятно, но я даже ночью выхожу на берег и слушаю волны или смотрю на ближний маяк. Его свет меня успокаивает, а это дороже всего. Ведь в моем возрасте самое главное уже – тишина. И в душе, и в мыслях, особенно в мыслях, желаниях. Наверное, я просто старею, а может быть, измотала болезнь, но кто ответит на эти вопросы, да и нужны ли ответы, если рядом море и кипарисы, – и я распахиваю окно. И сразу в палату заходят крики, это наши больные шумят на волейбольной площадке, и я улыбаюсь. Если кричат и резвятся – значит, они уже не больные. Вот бы и мне поиграть в мяч, услышать свое здоровье. А что, сын, разве не правда? Должен же наконец прийти этот день, когда я снова буду здоровым, веселым? Ведь я верю, что это случится. В прошлую ночь, например, я уже спал до пяти утра. Это же для меня – победа. Сказали бы раньше – ни за что б не поверил. При моей-то бессоннице да при моих нервах. И только засну – так сразу в глазах один тихий большелобый мальчишка. Я чувствую, что его знаю, даже уверен, а почему знаю – никто не подскажет. А мальчишка смотрит на меня, и глаза у него серьезные, с голубой поволокой, и со лба он очень-очень похож на бычка, которого только-только отпустили на волю. И отпустили и все разрешили, и вот он уставился с удивлением на первую же травинку, а дотом вдруг забор увидел, потом человека… И теперь ему страшно – что-то будет, что-то случится. Но ничего не случается, и я говорю ему тихо, как сыну:
– Ты почему испугался? Я же не обижу тебя, не выдам…
Но он молчит, а на лоб набежала морщинка. Откуда она, откуда? Неужели от забот уже, от усталости, а может, болезнь внутри у него? И я опять не выдерживаю, вызываю на откровенность:
– Ты почему такой серьезней? Я никому не скажу – признайся?
Но он снова молчит, и только глаза сейчас затаили обиду. Но кто его обидел – не знаю. И не понимаю, почему он не доверяет мне, не подпускает. Неужели я виноват перед ним и нет мне прощенья?.. И тогда я отворачиваюсь, я обижаюсь, но глаза его опять рядом, рядом! Глаза эти снова меня настигают, и они точно бы знают какую-то тайну. А что за тайна? И только хочу об этом спросить, допытаться, как он вдруг убегает. «Да остановись ты, не бойся!» Но он спешит все быстрее, быстрее. Какая обида! И тогда я решаюсь. И вот уже бегу за ним и почти догоняю. И в тот же миг мы попадаем с ним на какую-то улицу: кругом низенькие дома, огороды. Я смотрю по сторонам и не верю. Ведь это же мои дома, моя улица, моя родная деревня! А мальчишка все бежит от меня, не оглянется – и я за ним, как привязанный. И вот уж кончилась улица, и вот уж мы за деревней, а впереди река, а над ней – светлый, слепящий луч. Так это же солнце! От него я и открываю глаза… Но это недолго – какие-то секунды, минуты, а потом снова проваливаюсь в долгожданный сон – и вот уж снова этот мальчишка… Я вижу, как он косит сено, как возит копны на колхозной Серухе, как помогает ставить зароды – и все это от души, от желания. А потом в глазах совсем другая картина: я смотрю, как он провожает на выпаса корову. Манька мотает рогами, как будто гордится. И пусть гордится – она заслужила. Ведь от нее и молочко и теленочек, она в семье и за лошадь. Куда ни кинь – кругом Манька. Летом ее запрягают в телегу, а зимой – в тяжелые сани. И только-только вспомнил про зиму, как скрылось солнце и пришли тяжелые тучи. Они пришли с ветром, снегом и сразу набросились на моего мальчишку. И мне его жалко – он в снегу уж по колено, и вот уже по грудь, по горло, и вот уже только глаза виднеются наверху – они печально моргают. Я не могу этого вынести и бросаюсь на помощь. Хочу найти его руки, ладони, и вдруг сам проваливаюсь в сугроб. И сразу холод, а от него страх. А сердце прямо захлебывается от стука. И в этот миг просыпаюсь. Потом долго-долго лежу на спине и начинаю думать, спрашивать у себя: так чье же было все-таки сердце? То ли мое стучало и волновалось – то ли все же того мальчишки?.. А над морем стоит синее марево, и мне кажется, что оно живое. Ну конечно, живое – иначе бы оно не дышало, не двигалось, и в этом движении даже есть какая-то тайна. И тут я вспоминаю, убеждаю себя – а ведь однажды я уже видел такое море и такое марево. И такой же длинный солнечный луч стоял тогда над водой и резал глаза. Да-да, это было, случалось, но только сейчас – лето, а тогда только-только начиналась весна, и все вокруг оживало, играло, особенно наш Тобол. Он отяжелел от вешней воды и не входил в берега. Не река – море синее, океан. И по этому океану плыли мелкие льдины, коряги. А вверху неслись и неслись облака, какие-то веселые, бодрые, похожие на стаи белых гусей. А потом опускалась ночь, появлялась луна, и река начинала походить на длинное зеркало, а над ним – лунный свет. Да, сын, ничего нет лучше ночной весенней реки! И вот как-то на краю того зеркала сидел мальчишка и не мигая смотрел вперед. А вокруг тишина, слепое безмолвие. Ничто не вздрогнет, не скрипнет, точно все подо льдом. И так прошел почти час, и мальчишка начал расстраиваться, ведь он же здесь ради матери. Та почему-то опаздывала. Еще днем ушла на дальние пашни читать трактористам лекцию и наказала сыну встречать. А пашни были на другом берегу. И вот уже у мальчишки устали глаза, и уши тоже устали. А что слушать – тишина кругом, только песок под ногами похрустывает. И мне… и мне стало страшно, даже замерзла спина… Ну вот, сын, я и сознался, не выдержал. Конечно же, тем мальчишкой был я, и то моя спина тогда замерзла от страха, волнения. Тогда, чтобы немного отвлечься, стал разглядывать дальний берег реки. И там, где днем еще клубилась березовая роща, теперь возвышались холмы. Я принял их вначале за копны сена, и эти копны шевелились, передвигались, как будто живые. Но почему, почему?.. И не успел я додумать, как над холмами вырос огненный столбик. Он поднимался все выше и выше и тихонько покачивался…
Я смотрел и не верил. А столбик рос на глазах, выпрямлялся. И вот уж не столбик это, а длинная высокая свечечка. Она горела ярко, притягивающе и все продолжала расти вверх, продвигаться. Теперь уж она доставала до неба, но пошла еще дальше, а куда – я не знаю. И страх мой не кончался. Я смотрел вверх и не верил – то ли сон, то ли правда, то ли сам я на небе уже, а не на земле. Что было б дальше со мной – не представить, но свеча уже опадала и истончалась, и вот уж вместо нее – только испуг во всем теле и ожидание: что-то будет дальше, что-то случится?.. И в этот миг закричала мать. Меня разом точно подбросило, и я побежал искать перевозчика.
Что было тогда? Что за чудо? Я и теперь не знаю, не понимаю, откуда взялся над рощей тот огненный столбик. Может, это с неба был какой-то сигнал мне, предупреждение. Может, то душа моя летала в каких-то своих туманах – много ли надо детской душе, да и в жизни нашей еще много загадок, неясных тайн и предчувствий. Иногда только пожелаешь – и сразу случится, как будто кто-то караулил твои желания… А может, просто весенняя ночь смутила тогда мое сознание, и еще – лунный свет. От него и привиделся этот мираж. Но если честно, то он еще долго чудился мне и преследовал – много дней, много лет. И потом уже – в старших классах – я взял однажды ручку, открыл тетрадку и стал вспоминать. Мне захотелось тогда рассказать на бумаге и про весенний Тобол, и про тот огненный столбик, и про лунный свет над холмами, и про ту белую весеннюю ночь. И писалось мне легко и свободно, да и была цель – заслужить похвалу. Ведь на каждом уроке литературы мы писали такие сочинения – маленькие рассказы, воспоминания, мальчишечьи клятвы. Да-да, и клятвы, потому что в этих сочинениях мы были чисты, откровенны, как чиста первая весенняя травка, к которой и прикоснуться-то страшно – только бы смотреть и смотреть. Да и темы для наших сочинений тоже были свои, деревенские: о нашем колхозе, о школе, о недавней войне, о природе…
И вот я написал про тот огненный столбик, а учительница литературы взяла на проверку, через день вернула тетрадку и при всех похвалила. Я был, наверное, самый счастливый, потому что той учительницей была моя мать, потому что все мы ее очень-очень любили… И вот она похвалила меня, а потом, помолчав немного, добавила:
– Ты написал, наверное, правильно. Но согласись – маловато. В те годы ведь шла война, а в твоем сочинении об этом – ни слова. Только весенняя река, да огненный столбик, да всякие чувства, а где же жизнь наша, где же? Ты согласен со мной?
– Согласен… – сказал я, бледнея, потому что не ожидал такого приговора.
– Вот и хорошо, что согласен. А теперь напомню: в те годы в нашей деревне жили блокадные дети. Они были для наших ребятишек как братья и сестры. И для тебя тоже. Согласен?
– Конечно!
– Вот-вот… А потом мы их провожали домой, в Ленинград. Они радовались, смеялись, а у вас у многих в глазах были слезы… Так что даю всем задание: к следующему уроку написать сочинение на тему «Блокадные дети». А вторую тему озаглавим, может быть, так – «Войну мы не ждали…». Так что на выбор.
Ах, этот выбор, выбор… Я смотрел тогда в окно на пустую улицу и все размышлял: за какую же тему приняться? А потом вдруг догадался: наверное, наша учительница просто ошиблась. Разве можно такое страшное, такое горькое слово – война – делить на две темы? Да какие уж, мол, тут темы, если было столько горя, печали. Разве ты, мама, забыла нашу первую похоронку – вначале на отца, потом на моего родного дядю, потом еще и еще… Сколько же их было в войну, этих похоронок – на мою близкую и дальнюю родню? В деревне – через дом роднятся… А разве ты, мама, забыла, как по субботам да и в будние дни наш дом заполняли гости. Они приходили со всей деревни – постаревшие печальные женщины, – и даже из соседних деревень приходили какие-то люди… Они располагались рядком на лавке и громко вздыхали. И в этом вздыханье – просьба, великая просьба. Конечно, мама сразу догадывалась – и доставала ручку и листочки бумаги. Да и как тут не догадаться, ведь все они хотели, чтобы мама написала им на фронт письма. И чтоб хорошо написала, душевно…
И вот письмо закончено, и его дотошно все обсуждают, – и тот далекий адресат точно бы входил в наш дом и тоже усаживался на лавку. Ему наказывали беречься от пули, не забывать родных и малых детишек. Здесь и в любви клялись, и в верности, и прощали все старые грехи и обиды, и все это было сдобрено тяжелой бабьей слезой.
Слезы, слезы, печали, утраты… И все мое маленькое детское существо разрывалось тогда от боли и жалости. Мне так хотелось помочь этим людям. Я не мог уже вынести этих слез и рыданий… Постепенно у мамы затекала рука, и тогда я приходил на помощь. Мама передавала мне карандаш или ручку, и я сразу краснел от волнения, забывая обо всем на свете. Как я тогда гордился! Ведь мне доверили, меня оценили… Я выводил отдельно каждую букву, каждое слово, стараясь писать с красивым наклоном. Это были мои самые первые письма – и они уходили на фронт. И там, на фронте, их читали и ставили мне оценку. Но какую? Я так никогда не узнаю. Потому что почти все наши утятские солдаты не вернулись домой. Заходи, сын, почаще на сельскую площадь в нашей деревне. Там – знакомый тебе памятник, бетонная стрела. На ней – фамилии всех погибших в войну. Много-много фамилий…
Но я, сын, немного отвлекся. Я же начал о том, как учительница Утятской школы – моя мать – задала нам домой сочинение. Назвала две темы – на выбор… И вот я сидел тогда и смотрел в окно, и все думал, думал: с чего бы начать, какую выбрать мне тему? И было грустно, и голова болела уже от этих дум, от усталости, от бессилия перед чистым листочком… И вот сейчас я прервусь, сделаю остановку. Я не могу иначе, потому что очень волнуюсь, ведь все же опять повторилось. Ну конечно, все повторилось, и я снова, как в детстве, пишу свое сочинение. И так же трудно мне и беспомощно, и так же болит голова от усталости… Болит голова, потому что за эти странички тоже поставят оценку. И сделаешь это ты, мой сын, и оттого переживаю – какая же будет оценка. Да и поймешь ли, поверишь ли? Я порой и сам-то не верю себе. Да-да, бывает, нахлынет такое, что я спрашиваю кого-то, лезу на откровенность, неужели все мы тогда чуть не погибли от голода, холода?.. Неужели мой самый близкий друг Боренька Смирнов потерял тогда обе ноги?.. Но нет ответа на эти вопросы, и я опять кричу в пустоту – неужели все это было, было?
Эх, Боренька, Боренька… Мы все его так звали, потому что очень жалели, любили. Да и как не жалеть, если он напоминал нам деревянную чурочку: голова слилась с туловищем, а вот ног не видать. Но как их увидишь, представишь, ведь ног просто не было. Когда везли в эшелоне из Ленинграда, он их отморозил. И пока добирались до наших мест, началось воспаление, гангрена. И если б ноги не ампутировали – Боря бы умер. Врачи в больнице пообещали: «У тебя, мальчик, еще вырастут ножки. Вот пройдет года два, и они снова появятся. И ты побежишь на своих…» Это была ложь во спасение, потому я за это не осуждаю. К тому же Боря врачам поверил. Если жить хочешь – всему поверишь. А потом в школьной мастерской ему сделали тележку на железных колесиках. Я помню, как Боренька привыкал к ней. Но как привыкнуть! Вот если б с тобой, сын, случилось такое… Как бы пережил я? Нет, конечно, не пережил бы. А тогда мы даже веселились, смеялись, и громче всех – Боренька Смирнов. И вот мы садим его в тележку. И, чтобы не упал, привязываем к тележке тугим полотенцем. Теперь ему надо отталкиваться деревянными рычажками. Легко сказать – надо. А наш Боренька терял равновесие и валился на один бок, а сверху – тележка. «Господи, да пособи ты им», – кричала нам какая-нибудь старушка. Но бог нас не видел. Да и мы не отвлекались на пустые разговоры.
И все-таки эта тележка поехала: мы привязали к ней за самый мысик веревочку – и покатилась телега, поехала. У Бореньки сияют глаза – он же победил себя, победил. Но больше всего мы любили его таскать на руках. Прижмем его к груди, а сами бежим в лес или купаться – к Тоболу. Боренька лежит на руках беспокойно и громко дышит. Я и сейчас слышу, как на груди у меня бьется что-то горячее, жаркое… И слегка поскрипывают зубки от нетерпения. И сияют глаза. Как он любил лес и поле… Но еще больше любил спрашивать, пытать встречного человека: «Тетенька, посмотри внизу – у меня ножки не показались?» И если тетенька оказывалась умной, догадливой, то всегда отвечала: «Показались, Боренька, показались». И он сразу смеялся, бормотал что-то про себя, а глаза были счастливые, ясные. Святая, добрая душа. Где ты теперь? И жив ли?.. Но кто-то мне сейчас отвечает – едва ли жив… А я не верю. Нет, не верю! Как не верю и в тот самый страшный день. Самый страшный за всю войну.
И вот, сын, я начал уже рассказывать о той горькой, самой печальной войне. Ведь и Боренька Смирнов – это тоже война. Знаю, чувствую – тяжело тебе об этом читать. А как же мне? Ведь я обещал, что буду писать большие длинные письма-отчеты: и о прошлом, и о настоящем, и о родных и близких, и о тех, кого уже нет на земле. А их нет, потому что их тоже взяла война. Да, сын, во всем война виновата. И в моем голодном сиротском детстве, и в тех похоронках на всю нашу родию, и во многих-многих печалях. Да что говорить – лучше читай мои письма. Их будет много, я постараюсь… А сейчас я ставлю точку – опять болит сердце. Болит оно – и шабаш. И нет ни сил, ни желаний. Прости, сын, я, наверно, устал. Почти два часа просидел внаклон и даже не заметил, как пролетели часы. И вот уж темно за окнами, и там, где стояли мои кипарисы, – какая-то черная немая стена, а над ней – яркие, почти пунцовые звезды. Я смотрю на них, удивляюсь, потом немеют глаза от усталости – и вдруг я замечаю свою знакомую. Ну конечно, это луна. Она встает из моря, тяжелая, такая же яркая, и не обращает на меня никакого внимания. Я это серьезно, без шуток, потому что вдруг стало обидно, тоскливо, – и я снова чувствую себя какой-то былинкой, песчинкой, которую и на земле-то не видно, а с неба разве заметишь. И что я ей, этой луне? Что я? Маленький человек с пустыми желаньями или жалкий мечтатель?.. Да и что мечтать, напрасно надеяться, если письма эти – несчастный случай, и ты на них даже не взглянешь. Ведь так же, Федор? Сознайся?.. Но почему же, так не бывает? Да нет же – бывает, бывает! И не строй планы, не обольщайся! Да-да! И не спорь… Это снова ожил во мне тот лукавый ехидненький человечек, но я снова, снова не могу различить даже лица у него… А впрочем, зачем? И зачем мне лицо его, да и сам он зачем, если на меня навалилась опять тоска? И чтоб отвлечь себя, зацепиться за что-то, я начинаю смотреть на свет маяка. Он мигает на ближней горе. Мои знакомые по санаторию поднимались уже туда. Вот бы и мне однажды… Господи, о чем я размечтался. Но все равно мне теперь стало легче. Этот маяк успокаивает меня, завораживает, и делается как-то бездумно, покойно. Так покойно, как будто я сейчас в родной Утятке, а за окном у меня – вечерняя улица, а по ней бредет стадо. Коровы идут усталые, сытые, и в глазах у них – ожидание. Но ждать уже недолго. Скоро-скоро хозяйка откроет ворота и загонит в ограду. Скоро-скоро… Так и есть. И вот уж по всей деревне звенят подойники, и по всем переулкам пахнет парным молоком и лугами. Коровам дают свежую травку, чтоб они спокойней стояли в загонах. Но вот закончена дойка – и по деревне теперь тишина. Такая густая, огромная, хоть ложись в нее и плыви. Такая тишина стояла и той весной сорок первого года… Но нет, все-таки нет! Об этом я буду позже – в других письмах, в другие дни. А пока – здравствуй, маяк. Я смотрю на твой свет, и все заботы мои стихают и замирают, и мне кажется, что так же бьется сердце любого из нас. Остановится, вспыхнет, потом опять остановится, потом – снова толчок – бесконечный свет. И я хочу задержать его, задержать, но вижу снова провал, темноту, и вдруг радость – опять свет, яркий свет. Он и во мне, он и в небе, он и в надеждах… А что, сын? Мы же – мужчины! Мы же с тобой – самые сильные, крепкие люди! И потому долой все болезни! Долой все печали! И давай с тобой поторопим встречу… Я ведь уже соскучился по нашей Утятке, по нашим березам. А сильней всего – по тебе, мой сын, честное слово. И прости меня, что я на первых страничках расхныкался. Что делать, со всяким может случиться. А сейчас я только об одном мечтаю – чтобы во сне увидеть всех вас. И нашу бы деревню тоже увидеть, и того бы рыжего мальчишку с большими глазами… Он еще не надоел тебе, Федор? Когда надоест, я все равно узнаю, почувствую, я же вижу на расстоянии… Вот и снова в глазах у меня – пустая длинная улица. Ветер гонит сухие тополиные листья, полынку. А вверху – тяжелые тучи. Неужели дождь опять – какое несчастье. Промочит нынче насквозь мою Утятку, и не будет доброго хлеба, и с покосами запоздают. Навестить бы земляков в это трудное время. Но отсюда быстро не выскочишь. Сколько же, сын, между нами?.. Три тысячи километров, а может, побольше? И все-таки почему?.. Но я знаю, что ты про себя повторяешь: сдурел, мол, старый и стал заговариваться. Живет у моря, а сам рвется в какую-то сырую дождливую даль. А что делать, сын? Там же – моя родина и моя колыбель. А где родина – там и душа.








