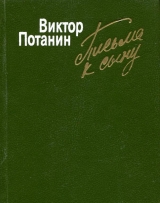
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
И вот она – елка! Я пришел тогда с бабушкой, а все равно – страшновато… Да и пугает сильная тишина. Людей много, но все молчат. Но вот патефон играет песню о Ленинграде – и нас приглашают в большую комнату. Мы входим туда и замираем: елка горит от игрушек, от блесток, на ней – различные фигурки из дерева, разноцветные шишки, шары. Говорят, что она была еще лучше, красивее: ребята наделали много бумажных цепей и покрасили их в разные цвета, но приехал инспектор из районо и распорядился все цепи убрать. Она сказала, что цепи – символ закабаления. Но и без цепей зеленая красавица хороша! И как кругом тихо, и мы почему-то даже боимся дышать. Но зато наши глаза! Они все видят, все замечают и следят за каждым движением хозяев. Они стоят пока почему-то отдельно. Вот они – целый ряд: впереди всех директор интерната Назарова Антонина Владимировна, рядом с ней воспитатели Фаина Ароновна Корман и ее сестра Раиса Ароновна. Рядом с сестрами мать Натки – Мария Никаноровна Долинская – учительница химии и биологии. А возле них, переминаясь на раненых ногах, стоит недавний фронтовик Илья Васильевич Батиков… А по другую сторону комнаты сошлись вместе директор школы – наша любимая учительница истории Иванова Варвара Степановна, возле нее учительница немецкого языка Анна Васильевна Котова и моя мать – завуч школы Потанина Анна Тимофеевна. А посредине комнаты, почти в метре от елки, стоят те, ради которых и намечается торжество. Здесь и Юра Юдин, и Лотта Корман, самая знаменитая отличница в нашей школе, а рядом с ними улыбаются два брата Николаевы со своей сестренкой Валенькой. Ей всего шесть или семь, а братья – постарше. Рядом с Николаевыми стоит вся пунцовая Валя Руденко, наша артистка. Ей много петь сегодня, и она очень волнуется. Чуть поодаль – Люся Епифанова, тоненькая, худенькая, как камышинка. А рядом с ней располагаются кучкой все деревенские – и ребятишки и взрослые. У многих на руках – даже грудные дети, совсем малышня. Их берут в надежде на дополнительный подарок. И вот все мы ждем и томимся. До открытия елки еще полчаса… Как это долго, невыносимо. И чтоб скоротать время, я наблюдаю за матерью. Ее глаза блестят и все замечают. Я не знал тогда, что она ведет дневничок. Да если бы знал, то не понял бы. А вот недавно, три года назад, перебирая старые фотографии, я нашел ту тетрадку. Открыл – и уж не мог оторваться. Ведь рассказывала тетрадка о таком родном для меня и близком! Мать писала, как в нашу Утятку приехали ленинградцы. Вместе с детьми прибыли и воспитатели – учителя из Ленинграда. Все смотрели на них, как на чудо, как на какое-то откровение: ведь они ходили по улицам, которые видели живого Пушкина, Блока. Они дышали воздухом Эрмитажа… Какие они счастливые! И какие несчастные, ведь им придется жить в наших снегах и метелях. Как им поживется да отойдут ли после тяжелой дороги?.. И вот в школу зашла Антонина Владимировна Назарова – директор интерната. Она просила за своего сына Толю. Его надо устроить во второй класс… А потом в школе наступила большая переменка, и все окружили гостью – и учителя, и ребятишки. Антонина Владимировна для каждого находила хорошее слово. Это выглядело – от души, сердечно и просто. Она и внешне понравилась всем, заворожила. Особенно запомнились волосы: они у нее под цвет спелой соломы и коротко подстрижены, чтоб не мешали. И глаза ее тоже всех поразили: они большие, открытые, с каким-то особенным блеском. А вот голос у Назаровой грубоватый, с мужской хрипотцой и твердыми нотками. И во всей фигуре тоже слышится какая-то неженская сила. Да и одежда на нашей гостье особенная: дубленый полушубок, на голове шапка-ушанка, а стеганые брюки заправлены в серые плотные валенки. Ни один мороз не возьмет. Так и надо по нашей погоде. Говорят, что до войны она была депутатом Ленинградского городского Совета. Антонина Владимировна этот слух подтвердила.
Вместе с Назаровой приехала Фаина Ароновна Корман. На вид ей уже лет тридцать, но можно дать и побольше. Причина, конечно, – война. Волосы, когда-то очень темные и волнистые, теперь совсем поседели. И глаза смотрят внимательно, исподлобья, и в них застыло что-то печальное, горькое. Глаза видят, как говорится, насквозь. Но бывает, что глаза у нее теплеют, оттаивают. В это время глаза смотрят на дочку. Лотта у нее – красавица, умница. С первых дней она стала гордостью школы.
Фаина Ароновна оказалась настоящим педагогом. Каждый день она бывает в школе. Часто присутствует на уроках в классах, где учатся ленинградские дети. С большим тактом потом разбирает уроки. Это, конечно, большая помощь местным учителям. Да что говорить! С интернатом у школы прекрасная связь. Мы живем, как одна семья. Как братья и сестры – один за всех, и все за одного…
Часто бывает в школе и завуч интерната Мария Никаноровна Долинская. Ах, какой это человек! – восхищалась мать в том своем дневничке. Ничем, мол, природа ее не обидела, а наградила с избытком. И душа, и лицо, и голос!.. Все бы смотрел на нее, любовался: высокая, слегка полноватая, с красиво подстриженными каштановыми волосами, а кожа на лице, как говорится, кровь с молоком! И всегда Мария Никаноровна веселая и смеющаяся: горе не горе, мол, и беда не беда. От нее постоянно идет свет доброты, сострадания. Даже не передать словами – надо видеть ее лицо… И голос – добрый, располагающий. Говорит она быстро, слегка запинается – и в это время сияют глаза, притягивают. Такой голос, такие глаза бывают только у очень добрых людей. Так и есть! Всех любит Мария Никаноровна и всех жалеет и всем хочет помочь. Такая же и дочка у нее – наша ненаглядная Наточка. Ее у нас знают и любят, и девочка платит тем же. Ведь она так похожа на свою маму.
А дел у Марии Никаноровны – целые горы. И любая работа у нее ладится, и со всеми живет в согласии. А для ребятишек – просто как мать. Много хорошего она сделала и для местных детей. К примеру, были сверху строгие указания – все списанные интернатские вещи рубить или даже сжигать. Но завуч пошла на нарушения – стала списанную одежду раздавать утятским ребятишкам. А те и рады, ведь ходят в школу в ремье…
Под стать Марии Никаноровне и Раиса Ароновна Корман. Ведь их двое сестер: старшая – Фаина Ароновна, а младшая – Раиса. Так вот, младшая – такая мастерица, такой организатор! Она и песни разучивает с ребятишками, и книги читает вслух… Она и художница, рукодельница. Недавно елки стали наряжать – так невозможно глаз оторвать от Раисы Ароновны. Она и куклы мастерит, и какие-то цепочки, кораблики… А елку привез из бору школьный конюх Карпей Васильевич. Настоящая красавица эта елка! И я очень хочу сейчас, чтоб и ты, сын, посмотрел на нее, чтобы побыл вместе с нами на празднике.
…И вот уже начался наш праздник. Варвара Степановна объявляет елку открытой. Мы хлопаем в ладоши, обнимаем друг друга. Какая радость! Какая елка! А потом объявляют концерт. И опять поют песню о Ленинграде, читают стихи. Меня тоже просят выйти поближе к елке – и я читаю стихи Пушкина о зиме. Читаю громко, до боли в горле, но мне кажется, что так и надо читать стихи. А после меня поет Валя Руденко. Это чудесно! Если б ты слышал, как она пела… Звенит колокольчик, звенит чистое серебро – и навевает всем сны. А Валя все поет и поет. Вот умереть бы однажды под такую бы песню. Все равно когда-нибудь умирать, а вот под такую песню не страшно, нисколько не страшно, а Валя Руденко не умолкает – и поднимается вверх, звенит и звенит колокольчик. У меня все еще в ушах эти звуки… Где же ты, Валя, сейчас? Где твое серебро-колокольчик?.. Многое бы я дал, чтобы знать.
И вот закончился наш новогодний концерт. А сколько он длился – не помню. Показалось, всего один миг… Все дорогое, счастливое продолжается всегда только миг… А время ведь уже позднее – надо домой. Школьный конюх Карпей Васильевич запрягает нашу Серуху и начинает всех развозить. Это дело серьезное, нужное. У многих из гостей на ногах нет нормальной обувки, а на дворе – мороз…
И вот доходит очередь до меня. Мы залазим с бабушкой в коробушку, Карпей Васильевич щелкает кнутиком – и вперед. Скрипят полозья, сверкают снега. Я смотрю на луну, и вдруг кажется, что там ходят какие-то люди, но мне не страшно. Наоборот, даже весело, хорошо, да и угостили нас ленинградцы на славу. Даже булочки были из настоящей муки. Да и концерт понравился, и самому пришлось выступить, и мне все хлопали, поздравляли. Как хорошо! Сверкают снега. А в горле – спазма от счастья, да и бабушка рядом. Она укрывает мне ноги шалью, а сама что-то шепчет. Может, молитвы за спасение тех, кто сейчас в ленинградских снегах. «Ты бы, Женя, горло-то свое потуже закутывал, а то мороз-то сильно хвататся…» А я слушаю бабушку и улыбаюсь. Ну какой же я Женя? Так зовут ее сына, на которого недавно пришла похоронка. И вот уж путает она нас, а поправлять не решаюсь… Но мне все равно хорошо. Да и ночь плывет тихая и протяжная, совсем новогодняя ночь…
И вот на этой ночи можно бы сейчас закончить, но мне трудно с ними расстаться. Да и чувствую себя виноватым. Я рассказал тебе, сын, о Бореньке Смирнове и о Натке Долинской, я вспомнил сейчас о Вале Руденко и других тоже вспомнил… А вот о Юре Юдине почему-то ни слова. Я и сам удивляюсь, и себя сейчас осуждаю – неужели я забыл про него, неужели подвела меня память… Но нет, сын, так не будет, я восстановлю справедливость. А она в том, что Юра был среди них самый смелый и самый добрый. В свои двенадцать лет он уже в Ленинграде дежурил на крышах и сбрасывал зажигалки. А это ведь – те же бомбы…
Он приехал к нам вместе с матерью, и та устроилась в интернате. Работа тяжелая – с утра до ночи на кухне. Она и за повара, и за техничку, а по ночам ухаживала за больными. Вот и сдало ее сердце, не выдержало… Да и как ему выдержать, когда прошло оно через блокаду. И вот однажды Юра проснулся, а мать не дышит. Он подошел поближе к кровати – не слышно дыхания. Он схватил ее за руку – ладонь была ледяная. И тогда, потрясенный, он закричал и кинулся к двери. Они жили на первом этаже интерната, и Юра выскочил сразу в ограду. Он выбежал раздетый, разутый, в одних тонких носочках. Он медлил, потому что принял решение. Но что было потом – я не знаю. Одно только помню, как он страшно кричал, как разбудил всю деревню. Его крики услышали в каждой избе, да и как не услышать!.. Часто говорят: у меня кровь, мол, застыла в жилах. Так и было тогда, так и случилось: у меня тоже кровь встала в горле и пришел страх. Такого страха я никогда не знал еще, не испытывал. И закричать бы тоже – но не могу… И этот страх приподнял меня с места и бросил на улицу. А там уже – вся деревня… Как будто пожар или кого-то убили. Но все бежали к Тоболу – на берегу что-то случилось. И мы тоже побежали туда, а потом толпа вдруг остановилась и наступила резкая, оглушающая тишина. И в ту же секунду я заметил впереди Игоря Плотникова. Он двигался нам навстречу, а на руках у него был Юра Юдин. Игорь нес его осторожно, как будто брел по воде, как будто у него заболели ноги. И по толпе прошел вздох облегчения. Кто-то уже узнал и начал рассказывать, что Игорь догнал своего дружка возле самой реки. Еще б миг – и тот бы, мол, бросился с берега, утопился. Но, видно, повезло парнишке – рядом погоди́лся Игорь. Только вот потерял все силы и обессилел. Такое бывает при сильных переживаниях. Потому и несли его на руках. Голова у Юры моталась, все время сползала набок, но сам он был живой, невредимый. Живой – какая это радость! А потом народ закричал: «Быстрее, Игорь, быстрее! Ты ж его застудишь!..» И тот прибавил шаг, а потом побежал бегом – откуда только силы у Игоря… Так на руках и занес Юру на второй этаж – и в интернате сразу зажглись огни и забегали люди. И только через час на этаже все затихло, но мы не расходились. Помню: было холодно, а в небе сиял блеклый, еле заметный месяц. Но скоро его скрыли тучи и посыпал дождь. И это как облегчение, как надежда. Народ еще потоптался немного и пошел по домам. Какое счастье – Юра живой…
Счастье? Какое оно? Да и есть ли оно на свете?.. Ведь через два дня мы хоронили Юрину маму. Маленький белый гробик пах смолкой и свежей стружкой. Так же пахли сосновые ветки. Мы их бросали себе под ноги. Шли за телегой и бросали. Лошадь шагала тихо и все время вязла в глубокой колее, но до кладбища было близко. И хорошо, что близко, а то опять дождь начался – холодные капли хлестали меня по лицу. Но вот и кладбище, вот и холмик земли, и свежая ямка… Юра в последний раз посмотрел на мать и упал на гроб. Он не кричал, он не плакал – наверное, не было уже слез…
А через несколько месяцев мы их провожали. Еще шла война, еще в мою деревню шли похоронки, а они, помню, смеялись, плакали и кричали. Но это были уже другие слезы и другие крики. И глаза у них: сияли счастливым огнем. Так значит есть оно – счастье! Значит, все-таки есть! Значит, оно в том, чтоб однажды после долгой-долгой разлуки вернуться домой. И хорошо, что он есть, этот дом, что он где-то есть…
Вот бы и мне, сын, побыстрее вернуться, все эти санатории, видно, не про меня. Честное слово – не про меня!.. Но хватит, не буду больше об этом, моя страничка кончается, а с ней и письмо. Да и маяк уже смотрит сквозь шторы. А если зажгли его – значит, близится ночь. И вот он вспыхнул, погас, потом снова нашел меня. И мне грустно – быстрей бы домой…
ПИСЬМО ПЯТОЕ – О ЗИМНИХ МЕТЕЛЯХ
Дорогой Федор! Сегодня на море снова тихо, просторно, и опять оно похоже на степь. А над этой степью висит большое желтое солнце. Уже октябрь, давно осень, а лучи играют по-летнему, и потому жара, как у нас в июле. Но от нее никто не прячется, не страдает. Наоборот, жара теперь как награда…. Да, сын, странные истории случаются с нами. Вот не заболей я, не попади в больницу – и не видать бы мне моря и этой награды. И не сидел бы я сейчас на горячих пляжных камнях и не караулил бы солнце. А может, и не стоит его караулить. Оно будет завтра и послезавтра, и через месяц здесь не кончится лето. Так бы и в нашей Утятке. Но чудес не бывает. Там, наверное, уже идет мокрый снег – самое гиблое время. «Кто октябрь переживет, тот и зиму протянет…» – часто приговаривала моя бабушка Катерина. «Но когда же это было? – спросишь ты. – Лет сорок назад или больше?» Так и есть, сын, это было лет сорок назад, но что из того. У каждого, видно, свое время и свои сроки. Я ведь обещал тебе, что буду писать о давнем и близком, и о тех, кого уже нет на земле, и о тех, которые рядом. И ты видишь, что я держу свое слово. Скажу тебе по секрету, признаюсь: я уже не представляю себя без наших писем. Они принесли мне облегчение, надежду. И не потому, что каждому отцу хочется выговориться перед сыном, а потому, что у меня, Федор, все повторилось: и жизнь вся, и печали, и радость. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, а я захожу и не жалею. А что жалеть, если все повторилось. Пишу вот, вспоминаю о детстве и становлюсь снова, снова мальчишкой. Пишу о войне, а сам вижу Бореньку Смирнова, и Натку, и нашего Карпея Васильевича со своей Серухой, и нашу корову Маньку – нашу кормилицу… И все они опять рядом – на моих страничках, – и я разговариваю с ними, я доверяюсь… Говорят, нельзя назад вернуть время, а вот мы с тобой возвращаем. И я рад, что есть эти письма. Что бы я делал без них – заскучал бы совсем, опустился. Ты улыбаешься, ты мне не веришь, а я говорю чистую правду. Вот сидят четверо и играют в карты. А рядом с ними парень наливает себе из бутылки. Он пьян уже, глаза ничего не видят… Я смотрю на них, и мне тяжело. Люди приехали к морю и тратят эти часы на вино и на карты. Или заводят вдруг пустую глупую музыку, и теперь хоть плачь, хоть затыкай уши, а спасенья не будет. Такой музыкой разбивать надо камни, а они ее слушают, закатывают глаза от восторга. И мне смешно, непонятно. Ведь приехали к морю, наверно, ждали, мечтали, а моря не видят… Но хватит об этом. Лучше взглянем опять на море. Что и говорить: праздники быстро проходят, и скоро я буду прощаться. И с морем, и с солнцем, и с этим синим бездонным небом. У нас в Утятке такой синевы не бывает. Когда вернусь, в моей деревне уже наступит зима. Но я не против нее, потому что с детства люблю сугробы, метели. Кругом бело, и за два метра не видно… Теперь уж таких ветров не случится. А почему так – не знаю. То ли меняется климат, то ли что-то другое, но только все уже в прошлом. Помню: закружит ветер, пригнет тополя в ограде, потом завоет в трубе разными голосами, а ты лежишь на печи и читаешь какую-нибудь книгу. А внизу, возле печки, теленочек в загородке. Я и сейчас слышу этот запах, немного дурманный и сладковатый – запах молока и сухого сена. Вот теленок хвост приподнял – и ты кубарем с печки. Тебе надо ковшик подставить под струйку, а то пропала подстилка. Так и лежишь: один глаз в книгу, а другой – на теленка. Только вот книжек у нас было мало. Стояли за ними в очередь, доставали обманом, но если уж достал – ты самый богатый… Но я немного отвлекся. Я начал о зиме, о наших метелях, вот о них и продолжу. К тому же я очень любил зиму, как и все мальчишки. У меня даже были самодельные лыжи: две досочки спереди заострил – чем не лыжи? А на крепления изрезал старый ремень: выдернул из штанов и пустил на дело… Недавно на чердаке нашел эти лыжи и глазам не поверил – неужели они мне служили верой и правдой все военные зимы? Неужели я хранил их как самое дорогое?.. Да, так и было: я бы не продал их и за миллион рублей. А куда его, тот миллион, – вот с горы покататься дороже!
Катался я днем, а вечерами сидел в одиночестве. Мать всегда в школе или в сельском Совете. Ее сделали там председателем, так что забот хватало. А бабушка по вечерам часто уходит к соседям – обменяться там новостями да повечерять за прялкой. В деревнях-то раньше все сами делали – лишь бы было из чего. Так что по вечерам я дома один – и за хозяина и за сторожа. Правда, воров у нас не было, да и что воровать?..
Бывало, сидишь – скучно станет, и задремлешь и не заметишь, как придет мать с работы. А то раздумаешься, разволнуешься и начнешь выдумывать разные страхи. Стукнет тихонько ставень, а тебе покажется, что какой-то разбойник крадется. Треснет, ухнет земля от мороза, а ты подумаешь – где-то пушки стреляют. Может, уж к твоей Утятке война подходит. Так и лезет в голову разная чепуха. А если метель в окна, то и вовсе терпения нет. Захочется куда-то на люди, на волю.
Особенно врезался в память один такой вечер. На улице тогда мело и кружило. И в избе стоял холод. Рамы у нас худые, да и в углах промерзло. Я сидел с кошкой и потихоньку ей жаловался:
– Все ушли, все нас бросили. Что будем, Мусенька, делать?
Кошка когтит у меня колени и равнодушно моргает. И это морганье вдруг вывело меня из себя:
– Брысь, Муська, ты мне не компания! – кричу ей и быстро натягиваю пальтишко. И вот уже на крыльце, а перед глазами вырастает стена. Она белая, снежная, и я смело в нее шагаю, а через минуту уже бегу. Но бежать-то мне некуда – на улице ни души. А ветер все сильнее, сильнее, и мое пальтишко продувает насквозь. И в этот миг решаю – пойду-ка я в сельсовет. Там мать сейчас, там, наверное, натоплено.
И вот спешу туда без оглядки, потому что замерз. Минут через двадцать я уже там. В сельсовете тепло, хорошо. В круглой печке-голландке дрова потрескивают, и докрасна раскалилась заслонка. У печки стоит моя мать и ворчит:
– Все дрова сегодня спалили. А завтра как? Бог подаст?
– Да ладно вам, не жалейте. К нам же сейчас люди придут, – уговаривает ее незнакомый седоватый мужчина. Он в военной форме, при кобуре и сидит на председательском месте.
– Вот придут и надышут…
– Ха-ха! – хохочет громко мужчина. Под верхней губой у него золотые зубы. Они сверкают, как угольки… И в этот миг он замечает меня:
– Чей такой конотоп?
– Это мой сын, Ким Александрович… Дома у нас всегда холодно, вот и пришел парень погреться…
– Ну хорошо. Только зарубите себе – не Ким, а Клим, Клим Александрович! Разве трудно запомнить? – сердится мужчина и берет папиросу из картонной коробочки. Мать краснеет и подергивает плечами. А в комнате уже вьется синий дымок. Мужчина курит и в упор разглядывает меня. Глаза у него кругленькие, как серые камешки, а рот большой, и губы все время в движении. После курения он их вытер платочком.
– Как тебя зовут, конотоп?
И мать с готовностью отвечает:
– Витей зовем, Витюшей. Муж настаивал на Борисе, а мне так понравилось. Вот и назвали.
– Победитель, значит, – смеется мужчина, – ну кого же ты победил?
И мать тоже веселеет и подходит поближе к столу.
– А мы пока двоечки победили. И с тройками успешно сражаемся, Ким Александрович…
– Да не Ким же, а Клим! – Мужчина нахмурился – и только сейчас я разглядел, что кожа у него на щеках вся в корявинках, а волосы тонкие, рыжеватые. Он чем-то похож на коршуна. Такой же сердитый, насупленный.
– А кем вы, дядя, работаете? – вдруг вырвалось у меня, и я испугался. Глаза, чувствую, защипало от пота. Мать увидела мой испуг и засуетилась и стала поправлять на мне рубашку, отряхивать.
– Ким… ой, Клим Александрович – начальник районной милиции. Он будет помогать проводить подписку на заем.
– А что значит заем? – опять лезу с вопросами, и мужчина хохочет.
– Вот так, председатель Совета, давайте выкручивайтесь. Объясняйте сыну, воспитывайте… – Он опять достал папиросу и постучал коробочкой по столу. – Эх, селяне, селяне…
– Да как же все-таки объяснить-то? – вздохнула мать.
– Ну-у, неумехи. Скажите просто, что дядя приехал распространять облигации.
– Не-ет, – улыбнулась мать – так он совсем не поймет. – Она вздыхает и хочет погладить меня по голове. Но я увертываюсь, и приезжий лукаво смотрит на мать.
– А я вот объясню ему в два приема!
– Как объясните? – вздрогнула мать.
– А вот так, по-нашему, по-военному… – Он сделал длинную паузу, потом громко скомандовал: – Конотоп, а ну быстро к столу!
Я подошел поближе и сел на стул.
– Бери ручку, пиши!
– А что писать?
Приезжий хмыкнул и пододвинул мне ручку с чернильницей.
– Пиши так: обязуюсь все свои сбережения отдать в фонд обороны… А если не напишешь, то арестую.
– Да у него и пяти копеек нет.
– А вас, дорогая мамаша, не спрашивают. Взводный знает, за что воюет. Ну как? Написал? – Он выгнул скобочкой брови, и я его еще сильнее боюсь. Ручка у меня в ладони дрожит, чуть не выпалывает. Он заметил это дрожание и снова повеселел.
– Ладно, прекратили репетицию. Скоро и занавес открывать.
Мать смотрит на него вопросительно:
– Что открывать?
– Ну, конечно, не бутылки, Анна Тимофеевна. – Он подмигивает мне и начинает что-то искать на столе. Мать стоит хмурая и растерянная, как будто заболела или что-то сейчас узнала. Я вижу, как она медленно поднимает голову и так же медленно говорит:
– Ким, фу ты, Клим Александрович, я людей пригласила на шесть, и у нас с вами еще полчаса. Так вот… Вы намекали недавно, что у вас будет какой-то личный вопрос ко мне? Сын мой не помешает нам? – Она выразительно смотрит на меня, и губы у нее неспокойны.
– Да ладно, не помешает, – говорит строго приезжий и прикуривает опять папиросу. – Я вот о чем, Анна Тимофеевна… – Он закашлялся от дыма, щеки налились краснотой. – Я вот о чем, да… Посиделки наши закончатся поздно, так что разрешите вас проводить? Метель, знаете, началась, но дело, конечно, не в этом. Вы женщина молодая и вдова, так сказать…
– Почему так сказать? Я в похоронку не верю, нет, ни за что! – У матери тоже краснеет лицо, и в глазах нехороший блеск, но приезжий ее перебивает и говорит решительным голосом:
– Верите, не верите – это личное дело. Да и чего мы с вами как на базаре. Вы женщина видная, так что я понимаю. А если уж откровенно – я давно мечтал сойтись с вами поближе… Я увидел вас как-то в районе – и все началось.
– Да что началось-то?
– А вы не сердитесь, послушайте! Я даже волновался, когда ехал сюда…
– Спасибо, спасибо… – усмехнулась мать. – Слова-то у вас какие, мы таких не слыхали. Но если уж прямо, по-нашему, по-военному, как вы говорите, то в провожатых я не нуждаюсь. Да и дом мой близко, через дорогу, – соврала почему-то мать и посмотрела на меня со значением – не выдавай, мол, сынок, не выдавай.
После ее слов он нахмурился и поднялся со стула. Немного прошелся по комнате, потом снова сел. И начал доставать из сумки бумаги. Губы у него шевелились, он что-то шептал. Я это видел, догадывался, а мать стояла у печки, как каменная. За окном шумела метель, а у нас было тепло, даже жарко – в печке все еще горели дрова. Приезжий кашлянул, и я повернулся к нему. Он подмигнул мне и дернул щекой.
– Сейчас бы неплохо чайку. А, конотоп?
– Заварки нет, – ответила мать. – Один кипяток. Не желаете?
– Плохо… – Он опять мне подмигнул. – Плохо живете, товарищи. И сахара, значит, нет?
– Да откуда?! – удивилась мать и взглянула ему прямо в глаза. – У нас и дети забыли про сахарок…
– Дети одно, а нам нужны витамины… – Он замолчал и повернул к окну.
– Метет-то как, боже мой… В общем, так, сейчас народ быстро пропустим, а потом я все-таки к вам. И со своим сахаром, а? – Глаза у него прицельные и лукавые, а правая ладонь стала поглаживать кобуру. Из кобуры торчит ручка нагана.
– Ну как мое предложение? Проголосуем?
– Нет, предложение снимается. У меня дома больной человек, инвалид. Он не спит по ночам – ему нужен покой… – Мать опять сочиняет ему, придумывает, а он смотрит куда-то в окно, улыбается.
– Значит, отказываете одинокому человеку? А я-то думал, провожу, мол, бедную женщину. У вас же тут бывают бродяжки…
– Да какие уж там бродяжки? – говорит тихо мать, и голос теперь лучше, спокойнее.
– А это мне, председатель, виднее. Да-да, на территории вашего сельсовета есть дезертиры. Зимой – где-нибудь в норе, а по весне начнут шалить по дорогам. И тогда к вам будут вопросы за укрывательство… – Голос у него злой, намекающий, а мать почему-то спокойная.
– А вы не пугайте меня. Я как-нибудь разбираюсь.
– Ну что же, так и запишем – председатель Утятского сельсовета во всем у нас разбирается. – Он хмыкнул и стал медленно разминать папиросу. Пальцы у него были длинные, белые, я засмотрелся на них, и он заметил мой взгляд:
– Курить захотел, конотоп?
Я покраснел, но в этот момент постучали. Зашел Павел Постников, старичок с Большой улицы. В Утятке тогда было две улицы – Большая и Береговая. Постников жил на Большой. Я его давно почему-то не видел и сейчас удивился его худобе. Старик снял шапку и поклонился матери в пояс.
– Тимофеевна, ты меня вызывала?
– Вызывала, Павел Иванович, вы нам очень нужны. Вот и Клим Александрович подтвердит…
– А этот откуда? Я такого не знаю… – удивился старик.
– Скоро узнаешь… – усмехнулся приезжий и вдруг стукнул кулаком по столу. – А по какому праву, ежкина мать, ты вопросы нам ставишь? Тебя предупреждали про заем? Нашу бумагу ты получал?
– Ты чё кричишь, я тебе не скотина. – Старик поднял голову и посмотрел на портрет Карла Маркса. – Кричать тут не надо бы. А то сидишь под иконой.
– Чего мелешь? – оборвал Постникова приезжий, но старик не сдавался.
– И тебя не пойму, Тимофеевна. Не затем мы тебя сюда выбирали… – Он немного помедлил, потом поморщился, как будто съел кислое. – Выходит, выкормили змейку да на свою шейку…
– Что вы говорите, Павел Иванович? – Мать шагнула к нему и хотела что-то добавить, но потом махнула рукой. Подошла к печке и стала греть ладони возле заслонки. Старик покрутил недовольно шеей. Она у него прямо вылазила из старой шубейки. Я заметил, что у шубы разные рукава – один длинный, черный, а другой рукав вдвое короче и какого-то неопределенного белесого цвета. Старик заметил мой взгляд и повернул лицо к матери:
– Извиняй тогда, Тимофеевна. Поди чё не так – извиняй…
Но мать молчала, и приезжий тоже молчал, и старик вопросительно крутил шейкой. На одном глазу у него белело бельмо, другой покраснел и слезился. Мне стало его жаль, а почему жаль – не знаю. Наверное, из-за этой шейки.
– Вот что, гражданин Постников, – начал опять приезжий, – бери ручку, расписывайся. Ставим тебе тыщу рублей. Это немного. Учителя вон подписались на две зарплаты.
– Да вы че, Еким Кондратьич, совесть хоть поимейте! – ужаснулся старик, шейка вылезла еще выше, и он стал похож на гуся.
– Екима тут нет, обознался… – Приезжий громко хихикнул и начал стучать карандашиком по столу, как бы призывая к вниманию. – Я тебе покажу Екима…
– Это поговорка такая, – объяснила мать и посмотрела на меня умоляющими глазами. – Витя, шел бы домой, а то бабушка потеряет.
– Пусть сидит, места хватит, – сказал громко приезжий. И вдруг опять подмигнул мне: – Не горюй, конотоп. Я покажу сейчас тебе мужскую работу… Ну, где наш Еким Кондратьич?
– Я туто, начальник, – отозвался старик.
– Где Марфута? Туто, туто… Может, не будем больше втемну играть? Вон ручка на столе – бери и расписывайся!
– Не-е, эстолько не могу. Куда же годно, начальник, мне не подняться. Хоть убей – не могу… – залепетал быстро-быстро старик, потом к матери повернулся:
– Че жо делатся, Тимофеевна? Осенесь заколол теленка-полуторника – заплатил налоги. Теперь в дому – шаром покати. А я кругом один – старуху схоронил. Да у меня ишо двое сироток…
– Хватит! – оборвал грубо приезжий. – Бери ручку и ставь фамилию. А я сумму сам проставлю…
– Сколько проставишь? – спросил с надеждой старик и стал зачем-то расстегивать свою шубейку. И пока расстегивал – голова все время тряслась, как будто ее дергали за веревочку. Я смотрел на него, не мог оторваться. Голова была голая, кругленькая, как яйцо, и только у висков поднимался белый пушок. А мать все еще стояла у печки, молчала. И приезжий тоже молчал. Потом опять постучал карандашиком.
– Ну что, Постников? Ты пишешь или не пишешь?
Старик охнул, задвигал губами. И еле-еле выдавил из себя:
– Не-е, милые. Эстолько не могу…
– А не можешь, поедешь со мной в район. И не таких, гадство, ломали. Ха-ха… – Смех у него сухой, как кашель. Может, в горле что-то застряло. Но старик – ни слова в ответ… И тогда приезжий медленно-медленно начал снимать кобуру. Потом осторожно, как бы любуясь своими длинными пальцами, достал наган.
– Значит, ежкина мать, ты бунтуешь? Тогда решим так… – Он положил перед собой листочек и взял карандаш. – Тогда мы запишем: Постников Павел Иванович пойдет у нас по другой линии – не по нашей.
– Как это не по вашей? – испугался старик, и опять затряслась головенка. – Да я за Советску власть награды имею!
– Если имеешь, то сымем, – сказал тихо приезжий. – Сымем, Постников, все до одной, потому что ты заодно теперь с немцами, в одну дудку играешь…
– Оборони меня бог…








