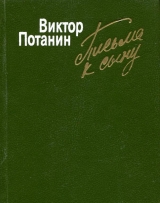
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
А в мое окно сегодня опять лезут звезды. Они тяжелые, крупные, как красные яблоки. И такие яблоки по всему небу. Я не верю, что на них нет жизни. Скорей наоборот: там ходят такие же люди, и такое же море плещется на звездной равнине, и такие же плывут корабли, которым светит маяк. И корабли говорят ему: «Здравствуй, наш друг и защитник, наш сторож, наш брат…» И я тоже повторяю за ними: «Здравствуй…»
ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ – О САМОМ ГЛАВНОМ НАРОДЕ
Дорогой Федор! А меня сегодня напугали врачи – нашли большое давление и аритмию. Приписали лежать в кровати и ни секунды – на море. А без моря очень одиноко, тоскливо. А еще мне тоскливо без привычных, любимых книг. Здесь есть библиотека, но книги – совсем не те. А точнее сказать – не для меня. Мои любимые остались дома, на этажерке, и сейчас о них тоскую, как о чем-то живом. Я говорю правду, не прибавляю, ведь есть книги, о которых тоскуешь так же сильно, как о родном человеке. И если они где-то далеко от тебя, то тебе все время больно и страшно, что с ними может что-то случиться – несчастье какое-то, пожар, наводнение… А встреча с ними – наоборот праздник, длинный счастливый праздник души. Кстати, что ты сейчас читаешь? Дошел ли уже до Толстого? Прочел ли его «Казаки»? Ведь сейчас это почти забытая книга. Сегодня спрашиваю у своего Николая:
– Ты читал повесть «Казаки»?
– Это какие казаки?.. Которые живут в Оренбурге?
Я смеюсь, а он продолжает:
– Я у этих казаков обитал после армии. Работал в Оренбурге на хлебовозке, а потом пиво развозил, а это надо понять. Всегда пьян и всегда при деньгах. Потом стыдно стало – пошел и уволился. Начальство смотрит на меня и в упор хохочет: ты что, мол, милый, от чего бежишь? Такая жизнь потом не приснится. А я отвечаю – стыдно мне воровать, ведь у меня дедушка старый коммунист, ветеран.
– Правда, что ли?
– А как же! Он и посоветовал мне поехать на Север. Там, мол, нынче настоящие люди. Так и оказался в Тюмени… Поработал на трассе двенадцать лет и попал в больницу. То ли простыл, то ли не климат. Мы же с дедом – куряне. В прошлом году его схоронил – так насчитал сорок венков да три автобуса с провожающими. Да пионеры пришли на кладбище…
– А кто сидел в тех автобусах?
– Ветераны, мой дорогой. Пора бы такое не спрашивать.
Вот и просветил меня Николай. А потом наконец-то оставил меня одного. Да напрасно я радовался. Как только образовалась возле меня тишина – так сразу и облепили тяжелые мысли. И о многом, сын, передумалось – и о болезнях своих, и о том, что многое еще не успел, и о том, что я в долгу перед вами, особенно перед своей семьей… А потом, как всегда, заворочалось в голове далекое, незабвенное. И многие дорогие люди поднялись в глазах. И стало мне еще тяжелей, потому что всех их уже нет на земле… Нет Павла Васильевича Волкова, нет и его жены Татьяны Самойловны, нет и Ивана Захаровича Шниткина, нет и Христины Петиновой. Какое горькое это слово – «нет», никогда к нему не привыкнуть, не осознать. Не привыкнуть мне, сын, и к другому – к тому, что мало, ох, мало мы еще ценим и уважаем наших стариков, ветеранов. И на мне тоже, наверное, есть такой грех, я ведь тебе еще ни словом не обмолвился о Нине Павловне Соколовой. А она дорого стоит. Да и есть ли на свете такая цена… Ну кто, например, заставил ее, знатную трактористку из села Прорыв, которое стоит с нашей Утяткой на одной дороге, принять и вырастить девять чужих детей? Ведь у ней и в поле-то всегда дел – с зари до зари… И вдруг принять столько детей! Это ж неслыханно… Я так и сказал ей при нашей встрече:
– Неужели девять приняли? Сказать кому-нибудь – не поверят…
– Ну почему не поверят? Я с ними приняла и отца ихнего – Анания Николаевича Соколова, фронтовика больного, израненного. Схоронил он жену свою так печально, внезапно, а на руках-то девять их. Хоть реви да хватайся за голову. Кто вынесет? И он бы не вынес, но я ему помогла – приняла его деток и его самого полюбила. – Вот так!..
Голос у нее, помню, был тихий, пологий. Это тоже немного смущало меня. Раньше почему-то казалось, что у всех больших знаменитых людей голоса должны быть широкие, горловые. Их хорошо слушать на улице, в зале, а у Нины Павловны голосок усыпляющий, материнский. Что-то милое, грустное поднимает он и несет, что-то самое дорогое. И меня мучает и томит вопрос: откуда все-таки сила ее, откуда? Ведь только подумать – девять их, да сначала – чужих, неродных.
– Это сперва чужие. А помоешь дитенка, обрядишь да за стол проведешь – ну и все, ну и пропала твоя головушка. Чего хотела, то получила – твоя кровь, твое тело. У кого детей нет, у того и горя нет. А нашему брату зачем без горя, тогда и радости не заметишь. Вот так, землячок… – сказала она с какой-то обидой: тоже, мол, придумал, чужие, неродные… Это была первая наша встреча. А потом были и вторая, и третья… И всегда, встречаясь, мы говорили о детях:
– Где дети наши, там и сердце наше. А если девять их, девять сердешных… Оно и рвется, родимое, на девять сторон…
– А вы с ними устаете? – спросил я однажды.
– Что ты! Даже забудь такие вопросы. Возле детей, как возле хлеба, разве устанешь?
– Но ведь девять их? Одного кто возьмет – люди, и то!..
– Что и то? Хвалят да до небес возносят? – Она сердится, хмурит лоб. – А за что? За то, что сердце имеет. А нам, деревенским, как же без сердца.
А голосок у ней и вправду – тихий и успокаивающий. Под него хорошо вспоминать и думать… Набираться надежд.
– Лет через десять напишу о вас книгу!
– Вот хорошо-то – я уж не доживу. – Она засмеялась, потом вдруг погрустнела. – А пожить бы все-таки надо. Ведь девять их у меня – это надо понять. И каждому мать подавай – не приведи никому сиротства… – Она глубоко вздохнула, задумалась. А мне опять с ней стало хорошо и покойно. И не хотелось никуда ни уходить, ни ехать: часто видишь – течет река, полны берега ее, и течение спокойное, ровное, как дыхание. Но поднимает это дыхание плоты и баржи, тяжелые пароходы. А сама река в спокойствии своем похожа на мать, и слышна в ней дальняя неторопливая сила. Она и зовет, притягивает человека. И возле этой реки замирают все тревоги, заботы, и опять ты счастлив, уверен… Да, похожа река на мать, только настоящая мать еще сильней и добрее.
– Заезжай к нам почаще. И поговорим, и чайку попьем. У нас варенье свое, в магазине не покупаем… – приговаривала она всегда, и я знал, что это искренне, она не может иначе… Но только однажды заехал, и домашние крепко расстроили меня: нету, нету, мол, нашей хозяйки, заболела сильно, и отвезли в санаторий… Да вы, мол, не печальтеся – санаторий-то рядом.
Так и вышло: санаторий – по соседству с ее селом. И стоит он в сухом и сосновом месте, потому и называется «Сосновая роща». С трех сторон окружают деревья, а в просвете сверкает озеро. Оно широкое, неохватное, прямо морской простор. Говорят, что на озере даже бывают шторма, выйдешь на лодочке – не спастись. Но сейчас – тихо, спокойно. Белые чаечки роются в теплом песке. Потом перелетают и опять роются и что-то кричат. Но кричат не так, как морские: у тех голоса громкие и надрывные, после них тревога в душе. А эти чайки все время попискивают и очень похожи на голубей. Особенно в воздухе, когда скользят над водой.
Нина Павловна спускается по лестнице, широко улыбается, видно, узнала меня. А может, ей уже позвонили из дома, предупредили. Заходим к ней в комнату. Из окна – вид на озеро. И мы снова разглядываем этих чаечек. Потом она спрашивает серьезно:
– А на зиму они куда? На юг улетят?
– Не знаю, куда они. – И я сам удивился, почему ничего не знаю про чаек.
– Значит, побывали у наших. А я вот сплоховала маленько – открылась болезнь. – Она улыбается, опять задумчиво смотрит на озеро. На воде лежит длинный золотой луч, и вода кажется розовой, только у самого берега темнеет слегка.
– Ох, тяжело! Скоро уборка, а я заболела…
Голос у нее с хрипотцой, словно бы простудилась. Я слушал, слушал ее, и вдруг вспомнилось, вдруг в глазах поднялась Анисья Михайловна Демешкина: такой же медленный, успокаивающий голосок. Даже внешне они как сестры – старшая сестра, младшая. В глазах такая же усмешка, лукавинка, чего, мол, нашли чудесного. Подумаешь, женщина на комбайне, на тракторе. Нынче и в космос пустили женщину, а на земле-то уж везде наша сестра… А я, знаете, завидую нынешним – школы да институты. А я ликбез закончила, а с двенадцати лет в колхозе. Вначале поваром была, на всю бригаду готовила: пекла, да варила, да стряпала, за день до шести столов выходило. Уставала? А как же. Только была я сильно к людям прибойная. Кто куда пошлет – бегу, прямо убьюся… Потом трактор пришел в бригаду. Первенький. Да как фыркнул да загремел – мы в разны стороны. А я полюбила сильно машину. Трактористам, конечно, повкуснее подкладываю. А сама смотрю – такие они люди или не такие. Вижу – хорошие. У меня уже было что-то задумано. Человеку всегда нужна цель. И знаете, легче жить, когда что-то задумано. Иногда говорим, говорим, а цели не ставим, а я вот все возле тракторов отиралася. Как солярочкой опахнет на меня – так и хорошо, будто ландыш голубой распустился. Правда, правда, не вру. Такое интересное приключалося, что и во сне на тракторе ездила. Кто на самолетах во сне, на коврах, а я на тракторе – да по полям, по черным-то, по весенним – езжу да езжу всю ночь, а утром встану, пошатываюсь. Натрясло на кочках-то…
Озеро стало темнеть. Чаечки улетели, отправились спать. Осталась на воде лодка: кто-то из отдыхающих решил посмотреть на закат. Лодка стояла посреди озера – ни туда, ни сюда.
– Бывало, и моя лодочка останавливалась, но я брала себя в руки. – Она, видно, о том же подумала, что и я. Но вот лодка покачнулась, пошла быстрым ходом по озеру. Не идет, а летит. И Нина Павловна точно обрадовалась, засмеялась над чем-то. И вдруг погрустнела, посмотрела долгим взглядом на свои руки и еще сильней погрустнела.
– Всю войну на ремках работала. Вот и сгубила рученьки, опухали, как булки. Да, бывали времена. Новой техники тогда не давали. Только на старье с девчатами выезжали. И прицепщиком у меня тоже – девчонка. А на комбайн пошли – за штурвального была сестра Шура. Пашни-то от дома далековато. Там и жили и спали. Иногда в баню надо, пойдешь пешочком. Время ночное, небо светлое, месячно. Идем с Шурой, досыта наговоримся, потом замолчим, опять что-то думаем, решаем. А сверху – звездочки, звездочки. И как-то холодно, нехорошо сделается. Не люблю с тех пор эти светлые ночи. Думаю, поди трудно кому-то, а я живу весело, по-хорошему. И все дети – ко мне, и я к детям. Работа тоже хорошая. А что? Неправда? – Она смеется, глаза молодые теперь, и лицо тоже ожило, осветилось. Она встала и шторой закрыла окно. Но последний луч все равно проходит сквозь штору, и в комнате от этого уютно, светло. Так проходит полчаса, час, потом в комнате на глазах темнеет. Это заходит солнце, надвигается вечер. И сразу же пропадает озеро. В сумерках не разобрать его, а там, где стояло, теперь поднялся туман. В санатории – музыка, в аллеях поют и смеются, где-то рядом стучит волейбольный мяч – и все эти звуки сливаются в один длинный праздничный звук… Только сосны молчаливы и строги, казалось, уснули навечно.
– Человек много может. И наград не надо. Конечно, хорошо, когда награждают. И душе отрада, и голова кружится, ей того и надо – голове-то… Перву награду я в тринадцать лет получила. Я уж рассказывала, когда поваренком была. Ну ладно. Приехал как-то на стан председатель Поляков Володя. Тоже молоденький, а начальство. Привязал лошадку за пряслице, подошел к нам, руку поднял: «Дорогие товарищи! Хочу нашу Нинку наградить от правления. Больно вкусно готовит. Согласны?» Загудели – как не согласны! И подал мне три кулька пряников да конфет. Нету теперь Володи. Убили на фронте. И мы в войну тоже старались. Теперь вот болят мои косточки, ни одной живой нету. И сюда, в санаторий, болезнь загнала, да отдыхать не дают – то гости, то ученики да подруги…
– У вас, наверно, много учеников?
– А как же! В войну вон сама еще девчонкой была, а таких же соплюх обучала. Я и бригадиром потом была, кем только я не была. А недавно я и вовсе отмочила один номерок… – Она замолчала и подошла близко к окну. Я вижу, что она только делает вид, что смотрит в окно, а сама где-то витает. И я не выдерживаю – лезу с вопросом:
– Ну и какой номерок?
– Какой? – Она зачем-то переспрашивает и вдруг улыбается. – А я, знаете, обратилась ко всем женщинам, на всю область через газету сказала – идите на трактора, смелее идите. И пусть говорит кто-то, что это не женское дело, а мы докажем, что женское. Ну а если дети есть, то и дети не помешают. Да и надо с пеленок, прямо с пеленок настраивать. Спичка от спички вспыхивает, дитя же – от матери. Крестьянство должно быть потомственно. Вот смотрите – семьи учительские есть? Есть! У врачей есть! А колхозников – чтобы в три поколенья?.. Аха-а, замолчали.
Но откуда силы ее, откуда? Длинна жизнь, и вся – в заботах, в волнениях. И редко праздники, вёдро, все больше дождь, непогода. И почему этот путь не согнул, не отчаял? Ведь она же была всегда первой в колхозе, в районе, она же получила орден Ленина и другие награды. Но откуда силы ее?
И нет мне покоя от этих вопросов… А может быть, у моих вопросов совсем нет ответов? Наверное, эти люди не могли жить иначе. Просто такая жизнь для них была как бы завещана с самого рождения. Так же, как течение у рек, как синева у неба, зеленый цвет у растений… Да и разве замечает человек, как он дышит? Разве знает птица, какая сила поднимает ее на крыльях?.. И все-таки знает!.. Помнишь, Федор, как в первых письмах я рассказывал тебе о нашей школе, о наших учителях, о твоей бабушке Анне, которая вела часто уроки в лесу, на природе. Ты снова не веришь? А ведь так было: уже цвела сосна в канун троицы, а на поляне – наш седьмой класс. И учительница рассказывала нам о русских писателях, читала отрывки, а потом мы сами декламировали стихи – любимые строки. И сочиняли рассказы о деревьях, о птицах, об облаках и звездах… Но педагогично ли это?.. «Нет, нет! – говорили в районо твоей бабушке. – Нужно, мол, работать по правилам, и сама педагогика – наука древняя, точная…» Но учительница возражала: у педагогического дела – мол, сотни вариантов, тысячи бликов и озарений… Да, тысячи! А может, и больше. Как раз столько – сколько вокруг нас мальчишек и девчонок. И твоя бабушка выстояла, не сломилась, а победила! Сейчас Потанина Анна Тимофеевна – заслуженная учительница РСФСР. Жаль одного, что признание пришло на закате дня. Как и у Анисьи Михайловны Демешкиной, как у Нины Павловны Соколовой. Но на закате ли?.. Нет-нет, я все же, Федор, не точен. Для таких людей нет заката и нет угасания. Для них солнце никогда не заходит, для них жизнь – всегда утро, всегда начало их бесконечных дел и надежд. А раз утро, значит, забудем глаголы прошедшего времени. И давай вернем себя опять в настоящее – на нашу знакомую утятскую улицу. И давай спросим у моих земляков-ветеранов: в чем видят они смысл своей теперешней жизни? Ведь им давно пора прислониться к теплой сильной спине сына или внука. И это так, это правда. Но тогда почему же они все еще в строю, на работе?.. А может, и у этих вопросов опять не будет ответов? Но нет-нет, зачем же так сразу. Надо повидаться с ними, поговорить. И давай, сын, заглянем, к примеру, в семью Брылевых. Я здесь часто бываю. И мне всегда рады, и я плачу́ тем же. Вот недавно зашел к ним и стал мучить хозяйку вопросами – о войне, о прошлом, о самых первых колхозах.
– Говорят, вы сами первые вошли в колхоз?
– Говорят, в Москве кур доят. Да ты не сердись. Зачем о себе-то я буду хвастать? – отвечает мне Татьяна Самойловна – самая старшая из Брылевых.
– Вы и в молодости здесь жили?
– А где же еще? Тут и жили. – Она отвечает не спеша, подолгу подбирая слова, как это умеют только деревенские люди. – Жили трудно, по-всякому, как придется… Ну а потом колхозы пришли. Я, к примеру, стала колхозницей в четырнадцать лет. И сразу приняла на ферме семнадцать коров. Семнадцать – запоминай!.. И к тому же скотников нам тогда не давали. Не положено, мол, нельзя. Ну вот – мы сами и доили, сами и навоз убирали. А это – сильно большие хлопоты. Но ничего. Пореву где-нибудь в уголке, повздыхаю да снова айда! И по два центнера, понимаешь, надаивала. От одной группы за один раз! – Она смотрит на меня, улыбается. И улыбка хорошая, со значением: слушай, мол, слушай, запоминай.
– По скольку трудодней тогда зарабатывали? – пытаюсь я углубить разговор.
– А у меня до войны бывало по девятьсот трудодней, даже по тысяче. Это надо понять, не плясали – работали.
– Выходит, с вас и начался колхозный род у Брылевых?
– Нет-нет, – поправляет меня хозяйка. – Я, считай уж, второй укос. У меня и мама была колхозницей. А теперь уж и я сама дослужилась до ветеранов. Недавно даже медаль вручили, пионеры цветы поднесли…
– Хорошее дело – медаль.
– Ясно дело – хорошее. А у меня уж она вторая. Одну медаль, значит, за войну присудили, а эту вот – за труды… – Она открыла шкафчик, взяла шкатулку, в которой лежит медаль «Ветеран труда». Я попросил ее падеть эту медаль, но хозяйка качает головой:
– В будний день не хочу. Вот будут праздники – и надену. – Она бережно укладывает медаль обратно в шкатулку. Руки у нее сильно подрагивают, и я отвожу глаза. Она видит мое движение и поджимает губы:
– Что, не глянутся мои рученьки?
– Зачем вы?..
– Ну вот – зачем, почему… – Она усмехается. – Я бы и сама на них не глядела. Как погода, как осень, так и крутит их, выворачивает. Они еще в войну у меня распухали. Не поверишь, даже доить не могла. Правда-правда, выпадали такие деньки. Да куда денешься – все равно ведь доила. Но особенно тяжело было у нас с водопоем… Ты бы про то время куда-нибудь написал? Они там, в окопах, сидели, стреляли, а у нас тут чем не окопы? Так что мою просьбу запомни.
– Напишу, напишу, – успокаиваю я хозяйку, и она согласно кивает, потом неожиданно хмурится и дотрагивается до моего плеча:
– Ну вот… Значит, гонишь коровушек на Тобол или обратно с Тобола, а на тебе все коробом смерзлось. И голяшки уж побелели, озноб… – Она остановилась на полуслове, прислушалась… Наверное, к сердцу, к дыханию. Потом снова заговорила:
– Ну а как? Ведь ни валенок, ни чулок мы не видали. Все для фронта – этим и жили… А весной нас, доярок, все время отвлекали на пашню. Я у Константина Осипова работала на прицепах. За день-то наездишься – на рычагах да на ухабах, а к ночи – снова на дойку. Кого-нибудь подменяешь. Вот и проворонила тогда свои рученьки. Не сберегла. – Она смотрит мне прямо в лицо и щурит глаза. И не поймешь: то ли смеются они, то ли плачут. И мне тоже тяжело – теснит горло тугая спазма. А в голове – разные думы…
Ну на кого все-таки они похожи?.. И вдруг неожиданно приходит ответ – да если они и на кого-то похожи, то прежде всего – на своих детей. И дети – тоже на них похожи! Вот, к примеру, Виктор Брылев. У него все от матери – и лицо, и ухватки. И даже голос такой же – неторопливый, пологий. Лишнего никогда не скажет, но зато уж каждое слово – в дело… Она точно слушает мои мысли:
– А я тебе все же хотела похвастаться сыном. Он у меня сильно дорого стоит. Мой Витенька тридцать лет уже за баранкой. И все – в одном колхозе и на одной ферме. Он самостоятельный у меня, надежный. – И мать улыбается, и я улыбаюсь. Радуюсь, что она прочитала все мои мысли и начала разговор о сыне.
– Про него в областной газете даже писали. И по радио говорили, и портрет рисовали. И в нашем музее, да!.. И в музее есть про сынка. Все правильно там, но только Витя мой еще лучше. Ты не думай, что я выхваляюсь. Он у нас член правления колхоза. Сейчас молоко отвозит на молокозавод. И всегда без задержки. Наш председатель Архипов им не нахвалится. И доярки его уважают. Он у них вроде как контролер. Только и покрикивает – промывайте, бабы, как следует фляги, чтоб ни одной соринки, чернинки. И доярки не обижаются, понимают… А ты мне вроде не веришь?
– Я вам верю, верю… – успокаиваю хозяйку. И она опять продолжает:
– А на работе его уж только по отчеству – Виктор Алексеевич да Виктор Алексеевич. И заслужил! Бывает, кто-нибудь скажет – что, мол, тебе, Алексеевич, больше всех надо? Ты, мол, и в правлении у нас, и на ферме, А сынок в ответ: «Колхоз-то ведь – это дом родной. И все мы в этом доме хозяева. Так что надо хозяйничать, а не глазами моргать. И тогда труд в радость нам будет». Да, в радость, значит, не в тягость.
…«В радость, в радость…» – стучит настойчиво у меня в голове. А это потому, сын, что еще не все так работают. Ой, не все. Для иных труд – все-таки обязанность, тяжесть, и от этой тяжести бывает усталость. И хорошо, что еще есть такие, для которых такой усталости как бы не существует. Для них труд – вечный праздник души и тела. И среди них – сын Татьяны Самойловны, Виктор Брылев. Среди таких и ее внук – Володя Брылев, колхозный механизатор.
И опять хозяйка точно читает все мои мысли, точно видит насквозь:
– А теперь я тебе про Володю, про внука буду рассказывать. Мы же его в армию провожаем. Скоро, скоро совсем, вот-вот и подскачет день. Но ничего, пусть послужит, поучится. В армии-то нынче обучают всему. А потом вернется домой, и все пригодится…
– Вернется обратно в колхоз?
– А как же! – Она даже обиделась. Немного пот молчала, а потом снова: – А как же еще! Мы ведь, Брылевы, – сильно будем колхозны… Я вот и сама бы еще старинкой тряхнула да снова на ферму. Да кабы не болели еще мои рученьки…
– А вы коров своих помните?
– Ну вот еще, насмешил меня! Да разве можно забыть?.. Помню, в сорок третьем у меня были любимцы – Маша-Машенька, Чистятиха да Дурочка…
– А что значит Чистятиха, я не пойму?
Она рассмеялась:
– А чего понимать? Это в честь доярки назвали – Чистякова такая была. А потом ее корову мне передали. Ну а Дурочка – сам понимай. Такая дурная ходила, ох, и дурная… Но, правда, молока хоть залейся!.. Но ты меня все-таки удивил. Да как же можно было забыть? Это как про детей своих мне забыть?!
А я смотрю на нее и опять думаю, перебираю тихонько в уме… Что они за люди такие? Ведь и война была, и голод, и холод… Ведь и на трудодни те ничего, считай, не давали. А она вон все равно выстояла, выжила и подняла такого знаменитого сына… Я подхожу к порогу и начинаю прощаться.
– Погоди, Федорович, не оболокайся. Я тебе хлебушка заверну. Вчера напекла…
Она завернула в полотенце белую булку.
– Ешь, поправляйся да наводи тело. Но сильно-то не ругай баушку Татьяну. То ли дрожжи не те попали, то ли уж руки не те…
Но я знаю: она наговаривает на себя.
– Ну ладно, не забывай, значит… – Она подает мне руку как-то неловко, топориком и крепко жмет мою, по-мужски…
А я опять, Федор, сижу сейчас за этим письмом и терзаюсь: ну почему эти люди не устали в долгом пути, не обессилели, не потеряли себя? И почему они всегда делали только добро, только радость, и только отдавали, только работали?.. И почему они знали, что все на свете можно осилить, преодолеть, подчинить светлой цели?..
Да, они знали, надеялись… Так же, как большая река надеется когда-нибудь выйти на большой простор, к океану… Так же, как надеется солнце завершить свой дневной круг, а потом снова подняться и понести людям свой свет… Так же надеялись и наши утятские солдаты дойти в ту весну до Берлина и вернуться с Победой. И они дожили и вернулись… В нашу память, в наши надежды, в нашу любовь… И вот на этих словах хорошо бы, Федор, закончить. Но я предвижу вопрос от тебя, даже обиду: зачем, мол, столько написал мне о земляках, о колхозе? Неужели думаешь, что я когда-нибудь сяду на трактор? А почему бы и нет, сын?.. Но дело, конечно, не в этом. Просто я хотел, чтоб ты понял, где наши с тобой корни, истоки. Ведь каковы истоки – таковы течение и глубина. И не важно, какой ты будешь потом – то ли обычный ручеек получится из тебя, то ли целая речка. Важнее другое, совсем другое – чтобы всегда чистой, незамутненной была вода…
А ведь я, Федор, уже еле-еле пишу, так я сегодня устал. Вначале я сидел за столом, а сейчас уже – на кровати. Положил под затылок подушку – так и пишу. Но больше всего отдыхаю. Закрываю глаза и слушаю, слушаю… Под окном у меня кто-то все время заводит магнитофон – и хоть плачь. Но не потому, что надоело, а потому, что грустно. «Мне уже многое поздно, многое не испытать. И к удивительным звездам мне уже не летать…» – поет тихий чудесный голос, а далеко на горе светит маяк… Чудесный голос и светит маяк, а я заканчиваю тебе письмо. И вот ставлю последнюю точку. А перед этим прошу еще об одном: помнишь ли, не забыл, что сказала мне на прощание старая доярка Татьяна Самойловна? Она сказала тогда: «Не забывай…» И я повторяю за ней: «Не забывай…»








