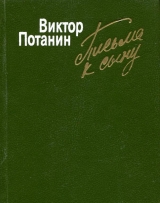
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Потом бабушка медленно шла за ограду и, наконец, опускалась на лавочку. И все это время Сокол был возле нее, наблюдал. Но вот она уже на лавочке, вот уж тросточкой чертит на земле какие-то узоры – и тогда он подходит к ней поближе. Он подходил к ней как-то боком, отчаянно виляя обрубком, точно бы извиняясь за себя, за свою решимость подойти к ней, поразговаривать. Он начинал тихонько поскуливать – все это я считал разговором. Наверное, так и было: ведь говорить как-то иначе Сокол не мог. Он поскуливал и поднимал кверху лапу. И вот опять, опять он своего добивался. Бабушка трясла эту лапу и что-то снова наговаривала, смеялась…
Так мы и жили: я, бабушка, Оля и Сокол. Раз в три дня к нам приходили письма из Анапы. Мама писала, что купается в море, очень скучает и рвется домой. Но ей надо было еще жить в санатории две недели. Но зато к нам скоро приехала Лена. Она училась тоже в педагогическом: я был филолог, а она – физик, но дело не в этом. Дело в том, что она была еще второкурсницей с розовыми смешными мечтами. Конечно, я только потом понял, какого цвета эти мечты, а тогда мне все, почти все нравилось в Лене. И как она говорила, как одевалась, и как она танцевала на наших студенческих вечерах. Но больше всего нравилось, как она читала стихи. Лена знала их множество. Скажешь любое слово, например «весна», – и она сразу продолжит: «О весна, без конца и без края…» Или скажешь «небо» – и она подхватит «Солнечный круг, небо вокруг…» Лена и песни многие не пела, а читала нараспев, как стихи. И не дай бог перебить – сразу фыркнет, надует губы – не подступись. А иногда и обзовет как-нибудь обидно и горько. Надо мной она всегда старалась командовать. Она считала, была уверена, что я влюблен в нее, что я давно страдаю и даже могу от этого умереть…
Она приехала утром, когда только-только начиналась жара. И мы сразу сели за стол и стали чаевничать. А Сокол в это время уже томился в ограде. Он ждал сигналов от Оли. Но вот он услышал сквозь стены, как она зашевелилась под одеялом и замычала, – у него встали уши. А Оля уже стала потягиваться, сама с собой разговаривать, – и он стремглав юркнул в открытую дверь и сразу – в комнату. Оля протянула ему руки – и он стал лизать их, стучать хвостом по деревянному полу.
– Ну ладно, хорошой, хорошой… – обратилась к нему бабушка, а гостья наша надула губы.
– Да вы что! Собаку надо из дома гнать!
– Пошто это? – удивилась бабушка и посмотрела на Лену внимательно. Но та уже была в комнате и ругалась на Сокола:
– Пошел вон! Грязнуля!
– Он, может, почище нас с тобой, девушка… – тихо сказала бабушка, и Лена не слышала. А через секунду ее голос опять звенел, надрывался:
– Уберите же отсюда собаку! Я не могу…
Сокол недоуменно взглянул на Лену, а Оля заплакала. И это гостье придало решимости:
– А ну пошел, пошел, пошел!
И Сокол, к нашему общему удивлению, поджал свой обрубок и вышел из комнаты. Бабушка сразу громко закашляла, а потом поднялась со стула, заохала:
– О-хо-хо, когда же смертна придет? Разе это жись – кажно местичко болит, никому не пожелаю. О-хо-хо…
Я знал, что такие слова она говорит, когда ей что-нибудь не нравится, когда ее обижают.
А через пять минут мы все-таки опять собрались за столом и стали пить чай. Но этот час был тяжелый, томительный. Всем хотелось что-то сказать друг другу, но никто не решался. Только я и Лена понемногу переговаривались. Я задавал вопросы, а она отвечала и все время исподлобья поглядывала на бабушку. И та тоже поглядывала на нее. Губы у бабушки были сухие, поджатые, они таили обиду. Я два раза выходил на крыльцо. Сокол лежал в ограде. Глаза его вопросительно моргали – кто это, мол, приехал? Такая сердитая?.. Я погладил его, и он немного повеселел.
А после обеда мы собрались на озеро. Сокол тоже засеменил за нами, но Лена нахмурилась:
– Не люблю собак. От них один запах.
Сокол сразу остановился, почуяв что-то недоброе.
– Пойдем, Соколко, пойдем! – ободрил я его, и Лена еще больше нахмурилась.
– А ты упрямый. Тебя в деревне испортили, – Лена рассмеялась, я ее успокоил:
– Да хватит тебе о собаке. Лучше почитай что-нибудь! Я так люблю…
И Лена сразу изменилась, как будто даже покраснела немного:
Идешь на меня похожий,
Глаза опуская вниз.
Я тоже была, прохожий…
Прохожий, остановись.
Лена продолжала читать, а Сокол понял эти стихи, как прощение себе. Дорога его опьянила. Он принюхивался к траве и к дорожной пыли, часто приседал на задние лапы и задирал морду. Посидев так секунду, вдруг срывался с места и летел, как пуля, за ним гналась Оля, но где же, где же. Он не бегал, он просто летал, кружился как птица. А его уши торчали вразлет и походили на крылья. У Лены дрожал голос и прерывался – на нее тоже действовала природа – и зеленая трава, и воздух, и небо. А я шел с щемящим сердцем – сейчас, мол, покажу ей озеро. Она на него посмотрит и… Но я даже не мог представить, что будет с Леной. Просто мне хотелось чуда, какого-то огромного чуда – и это ожидание уже было моим мученьем.
Озеро мы увидели еще издали, когда поднялись на пригорок. Оно лежало голубоватое, длинное и походило издали на мираж. Но вот мираж рассеялся, и мы вышли к воде. Берега у озера заросли клевером и таким густым конотопом, что я не признал его. А потом пригляделся – знакомая травка…
– Тебе нравится, Лена? – спросил я, весь замирая, но она промолчала. Я опять повторил вопрос и снова – молчанье. И когда уже я устал ждать, она сказала:
– Когда мы с тобой поженимся, то будем приезжать сюда на целое лето…
Я вздрогнул от ее откровенности и ничего не ответил. Я просто не ожидал таких прямых слов, я опешил. Лена покусывала травинку и смотрела вперед. Наверно, вспомнила чье-то стихотворение. А Оля стояла возле меня и бросала всякие палочки. Там, в воде, их ловил Сокол и выносил обратно на берег. Он только нырять почему-то не мог, а может, собаки вообще не ныряют…
Лена присела на травку. В мою сторону она не взглянула. И тогда, чтоб забыться, чтоб сбросить оцепененье, – я решил искупаться. Разделся я в две секунды и бросился в воду. А Сокол точно бы ждал меня, и мы стали плавать на пару. Лена теперь смотрела на нас, улыбалась. И у меня отлегло на душе. А Сокол плавал кругами, и все круги были возле меня – он скулил и хлопал ушами, а вода была теплая, почти что парная. Наконец я утомился и стал выходить на берег. Лена посмотрела на меня долгим-долгим взглядом с лукавинкой. Я никогда не забуду эти глаза и эту лукавинку. Глаза были такие же голубоватые, длинные, как наше озеро. И в этом голубом стоял зайчик. Он смотрел прямо на меня, не боялся:
– Вы мне не неприятны…
Лена иногда меня называла на «вы» и вот опять назвала. А я смутился, но сделал вид, что не расслышал. Я хотел побыстрей одеться, но почему-то не мог, не слушались пальцы. Да и боялся. Ох как я боялся, что она разглядит сейчас мои смешные незагорелые ноги, мою грудь, узенькую, как у грачонка… Мои руки в веснушках, точно бы в кляксах. И в это время она опять что-то сказала, я оглянулся, она повторила:
– Ну подойдите же ко мне! Какой вы неловкий…
Я растерялся еще сильнее. И тогда она сама подошла ко мне и попросила:
– Поцелуйте же меня! Да, да, поцелуйте! – Она нахмурилась, прикусила губы. А я так и не понял, то ли она пошутила, то ли сказала правду. Я, наверно, очень побледнел, растерялся. Лена сделала ко мне еще шаг и поцеловала меня сама. Оля, увидев это, захлопала в ладоши, и Сокол тоже обрадовался, стал бегать вокруг нас и поскуливать. Я видел, что Лене это не нравилось. Она то и дело косилась, поглядывала на собаку, и губы у нее нехорошо подрагивали, а щеки зарумянились, как от мороза. Она была теперь красива, как Жанна Болотова, а может быть, даже лучше.
– Какой ты все-таки смешной!.. Какой ты тихоня, – она опять перешла на «ты». – Я вот займусь тобой, переделаю… – Она усмехнулась. Потом опять приказала:
– Ну поцелуй же меня еще! – требовала она и смеялась. И я думал, что и озеро тоже смеялось. Вода то поднималась круто вверх, то падала вместе со мною. А может, это небо падало вниз, а совсем не вода. Но вот смех прошел, и я отдышался. Сердце мое стучало уже ровнее, спокойнее, но все равно что-то уже случилось, что-то было не так, что-то сломалось.
– Пойдем обратно, – сказала Лена, и в голосе была опять строгость. Она пошла первая, а я ступал за ней, как невольник. В висках у меня стучало, и было стыдно. Мне казалось, что Лена разрушила какую-то тайну, но что это за тайна – я пока не знал и не мог понять, догадаться. Но все равно чувствовал – была, была эта тайна…
Шли мы тихо, молчали. Только Оля чуть слышно похныкивала – она устала уже от жары и от озера, ей хотелось быстрей домой. Лена шла впереди, не оглядывалась. Она, наверно, сердилась, но за что, почему? Эти вопросы не отпускали меня, и я мучительно искал выхода, но его не было. Лена все еще не оглядывалась. Зато Сокол не унывал. Он во весь опор гонялся за бабочкой, а та играла с ним, как хотела, дразнила. На какой-то миг я увидел ее – она пролетела у меня над головой, крылышки у ней переливались, горели, это был маленький оранжевый лоскуток. Нет, не лоскуток даже – это была капелька солнца, настоящего солнца, потому Сокол и гонялся за ней. Как он не уставал? Бабочка то садилась прямо на нос к нему, то щекотала глаза, то снова взмывала вверх – и все это сразу, в одну секунду, – и у Сокола уже язык был наружу. Но как он веселился!
Мы шли теперь не по степи, а свернули в бор, где было кладбище с деревянной оградкой. Я специально повернул на эту дорогу – мне хотелось показать Лене могилу сестренки. У меня когда-то была сестренка, она умерла еще в войну, прожив на свете всего два года. Я и сам тогда чуть не умер. Но что поделаешь – вся наша деревня голодала, и мы – дети – страдали со всеми…
Я шел теперь рядом с Леной, а Сокол с Олей немного отстали. В бору стоял сумрак и было душно. Лена повернула ко мне лицо и спросила:
– Ты меня любишь?
– Зачем ты, Лена? Нас же услышат, – и я показал глазами на Олю.
– Что, девчонка услышит? Или, может, собака?.. – Она засмеялась. И этот смех почему-то обидел, и мне опять стало стыдно. И вдруг я понял, почему мне у озера было стыдно и вот сейчас опять тяжело.
Я вдруг понял, что мне все время мешала близость этого кладбища – близость сестренки. И когда я купался в озере, и когда мы целовались с ней, и когда я стихи слушал. «Да, это правда!» – подумал я и стал спешить. Мне хотелось быстрей, быстрей увидеть этот холмик, чтоб сестренка простила меня.
– Куда ты меня тянешь? – спросила Лена и замедлила шаг.
– Зайдем на кладбище, у меня здесь сестренка…
– О-о-о, господи! Какой ты забавный… – засмеялась она. – Знаешь, у Есенина есть строчки…
Но я отвернулся и не стал ее слушать. И она, наверно, почувствовала свою вину.
– Ты не сердись, не надо сердиться. После таких кладбищ я плохо сплю. Все время потом лезут в глаза какие-то веночки, оградки. Ты сходи один…
Но один я туда не пошел. Только дома я чуть-чуть успокоился. Да и обстановка располагала. На столе уже шумел самовар, и в вазочке переливалось варенье, а рядом с вареньем возвышалась горка с чайными чашками. И свежий хлеб был нарезан, и молоко в широкой стеклянной банке – это, конечно, Маруся принесла нам молока…
Бабушка нас встретила стоя, и в глазах у нее была большая обида:
– Куда же годно – ушли на озеро, и на весь день. Я уж думала да гадала – неуж с Олей че? А случись беда – меня бы, старую, завинили. Да где она, Ольга-то? – В этот миг моя племянница забежала, а за ней – Сокол, радостный опять, деловой. Бабушка на него посмотрела, прищурилась, что-то хотела сказать и поджала губы. Но Сокол все равно ее понял по-своему: он закрутил весело мордой, а с языка у него капала слюнка. И это заметила Лена:
– Опять тут этот! Скоро и на стул его посадите, и чашку дадите… – Она посмотрела с надеждой в мою сторону – ей хотелось, чтобы хоть я ее поддержал. Но я молчал. Тогда она зафукала на собаку. Сокол поджал хвост и медленно побрел к порогу. И пока шел, то все время оглядывался на меня и на бабушку. А в глазах плавал какой-то вопрос. Возле порога он лег и притворился, что задремал.
– Ишь ты, расстроился, хорошой-то наш… – сказала бабушка и стала покачивать головой. За столом наступила тягостная минута. Я решил ее сгладить и начал рассказывать что-то веселое. Потом взял у Лены чашку и налил ей чаю. Ей это понравилось, что я сам ей палил, и она томно скривила рот:
– «А по утрам они чаи гоняли, как будто для того и родились…»
Бабушка навела на нее ухо:
– Ты че-то интересно, девка, сказала? Хоть бы повторила, а то худо слышу.
– Это стихи, бабушка.
– Ну как же, я понимаю – все молитвы читать да молитвы. А собаку пошто-то гонишь…
– А вам она не надоела?
– Соколко-то? – переспросила бабушка. – Да он же у нас хорошой. А вот вы, товаришши, нехороши. Тут вам и варенье, тут и молочко свеженько, а вы – того не хочу да то не надо. Нонче все каки-то обкормлены. А я вон как-то мешочек из-под сахара считай что полгода лизала…
– Как это? – удивилась Лена и сделала большие глаза.
– А так вот, милая. В войну сахарку-то нет, а я чай морковный любила. Вот и лизала мешочек. Там и сладости-то один запашок, а все равно в роту хорошо.
– Надо говорить во рту, – поправила ее Лена и подмигнула мне.
– А старых-то учить – только портить, – бабушка почмокала со значеньем губами, потом обернулась к окну в сторону створки. Там, по улице, поднимая пыль, шло утиное стадо. Утки шли неторопливо, переваливаясь с боку на бок, покрякивая, постанывая, наверное, от жары. Бабушка вытянула шею и сказала про себя нараспев:
– Ох ты, уточка моховая, да где ты ночесь ночевала? – под мостом да под мостищем, под городом-городищем… О-хо-хо! Уточки вы да утятки. Не дают вам полетать наши охотнички. Только оперитесь да откроете глазоньки, а по вам уж из оружей палят. Да и собак на вас напускают. Она – чоп-чоп по воде – и вот уж схватила уточку за крыло и к хозяину тащит. Нет, ты, Соколко, не поддавайся. Тебя тоже за уточками скоро пошлют, но ты птичек этих ни за что не губи. Всем пожить охота, поплавать да полетать. Ну че ты, где ты, Соколко? – позвала она, и Сокол сразу забежал в комнату и встал возле бабушки. Она у него уши погладила, и он ей уткнулся в колени. В глазах у Лены мелькнул огонек:
– Да уберите вы эту псину! Как будто назло…
– О-хо-хо… – заохала бабушка. – Прямо гонит она тебя, а за че? Ты бы хоть, Соколко, сказал?
И снова над столом повисла тягостная тишина. Сокол смотрел на Лену. В его глазах опять встало что-то хорошее, человеческое. И сейчас хотелось мне, прямо до боли хотелось ободрить его, приласкать, но меня что-то связывало, опутывало. А может быть, Лена?.. Но все равно я уже себя ненавидел. А Сокол смотрел теперь на меня, и ресницы его покорно моргали.
– Вон каки глазоньки-то! – не выдержала бабушка и поставила свою чашку на блюдце. – Прямо знают че-то, не говорит. О-хо-хо… Если бы могли сказать наши собаки да кошечки. Сколько бы про себя мы узнали! Разных бы историй наслушались. А поди, больше плохих… – она головой покачала и переставила стакан с молоком поближе ко мне. Но не успел еще я из стакана отпить, как Лена заговорила. И голос громкий, с обидой:
– У вас тут только собаки да кошечки. А я за сто километров приехала. А вы только – Соколко, Соколко!
– Правильно, Лена, – поддержал я ее. – Не все же нам о собаке… – и не успел я докончить свои слова, как Сокол посмотрел на меня укоризненно и потихонечку побрел из комнаты. Он и в кухне не остался, а пошел на крыльцо. «Надо же – недотрога!» – подумал я с укором и начал пить молоко. Зато Лена без собаки развеселилась:
– Ох, ушел наконец. Как гора с плеч. Теперь можно поесть.
Она откусила печенье, потом за молоком потянулась. Бабушке это понравилось.
– Кушай давай, наводи живот…
– Ой живот! – засмеялась Лена. – У меня в городе есть знакомый мальчишка. Такой забавный… Валька. Четыре года исполнилось. Как-то пошел с матерью в магазин, а сам бегает, прыгает, не стоит на месте. Мать с ним измучилась, не удержать. А в это время им толстый мужчина попался, вот с таким животом, – и Лена нарисовала в воздухе какой-то арбуз. – Ну вот, Валька увидел мужчину и кричит: мам, а почему у дяди большой живот? Мать смеется – а потому, мол, сынок, что он много прыгал и родителей не слушался. Валька как услышал, так и перестал дуреть. Ну вот, идут дальше. А навстречу им – беременная женщина. Плывет, как гусиха. Валька сразу в ладоши захлопал: мама, смотри, тетя тоже много прыгала, да? – Лена засмеялась от всей души, а бабушка нахмурила лоб:
– Нехорошо над тем хохотать.
– Да ну вас! – обиделась Лена и встала из-за стола. Бабушка посмотрела на нее внимательно и ничего не сказала.
Потом я с Леной вышел на крыльцо. Она стала искать свои босоножки. Одну нашла сразу, а вторая – как провалилась. И вдруг мы увидели Сокола. Он бегал весело по ограде и что-то подбрасывал. Зубами схватит с земли и подбросит. Я не сразу понял, что в зубах у него была босоножка. И не успел я опомниться, как Лена уже сбежала с крыльца и стала вырывать босоножку. Сокол мотал головой и не отдавал ее. Он, поди, думал, что с ним играют. Лена потянула изо всей силы, но он заворчал. И тогда она ударила его по морде второй босоножкой. Сокол и теперь ничего не понял. И тогда она стала хлестать его изо всей мочи – лицо у нее покраснело, точно кумач, и на этом багрово-красном сверкали глаза. Сокол уже давно выпустил эту злосчастную босоножку, но Лена все еще хлестала его, избивала. Он почему-то не убегал, а только визжал. Почему он ей не вцепился в руку – я просто не знаю. Ведь зубы у него были крепкие, молодые.
И в эту минуту вышла на крыльцо наша Оля. Она увидела, что бьют Сокола, и закричала. Этот крик и остановил Лену, и отрезвил. Она дышала тяжело, запаленно, как будто это ее только что били, а не собаку. Потом подняла голову, перевела глаза на меня:
– Ну что, Коля, доволен?.. Тебе собака дороже! Вот и сиди с ней… – Она еще что-то хотела сказать, но не смогла, разрыдалась. Я хотел ее успокоить, положил ей ладонь на плечо, но она вырвала плечо и забежала в дом. Я даже не успел ничего сообразить, а она уже стояла передо мной с дорожной сумкой.
– Не провожай меня! Я сама… – и сразу же хлопнули воротца. Я даже не пытался ее догнать, потому что знал, что она не простит.
Так и вышло, что не простила. И в то лето я ее больше не видел. Я мучился, обвинял себя, но через день пришло новое горе – заболел сильно Соколко. Хозяйка его, Маруся, сказала, что он поел у них старого супа и отравился. Она пробовала его полечить, давала какие-то таблетки, но таблетки не помогали. А Маруся не отступала. Она решила влить ему в горло топленого масла. Сокол сжимал крепко зубы, и ложечка с маслом стукалась о зубы, как о преграду. Вот тебе и леченье. Зато воду он пил охотно. Наверное, в теле у него стоял жар.
Я пришел к нему на следующий день. Он лежал в сенях на старом одеяле. Я хотел приласкать его, но он оскалил зубы и посмотрел на меня, как на врага. «Так мне и надо! Так и надо!» – подумал я с раздражением, потому что уже ненавидел себя, да и болела душа. Если б в тот день пришлось мне умереть, я б ухватился за это, как за спасенье. Но я не умер, со мной ничего не случилось. Зато через три дня не стало Сокола.
Я никогда не забуду, как это случилось, как мы узнали… Хотя за час до этого бедой и не пахло. Да и день начинался какой-то особенный, мягкий. Такие дни случаются часто в августе. И это самые чудесные, благословенные дни. Мы попили за завтраком чаю, а потом вышли на лавочку. Оля рылась в песочке и строила пирамидки, а у бабушки тоже было хорошее настроение. Она радовалась, что уехала Лена, что ее любимый внук лишился невесты и теперь опять будет принадлежать только ей, только ей одной. Она чертила тросточкой какие-то фигурки, а сама посматривала на меня. В глазах ее мелькали веселые светлячки. И голос вышел такой же веселый:
– Че-то, внучок, нас Соколко забыл?
– Он же болеет.
– Хватит, поди, болеть. А кто за него будет лаять-то? Денежки свои зарабатывать?
– Какие денежки?
Но бабушка не ответила. Она смешно хмыкнула и замурлыкала песенку:
У нас денежки ведутся,
Как водичка в решете-е-е…
Я засмеялся, прервал ее:
– Богатой стать хочешь. Ну-ну…
– И не говори. В богатеньких-то я никогда не была, а вот поись-покушать любила… А че – я не хвастаю. Я правду говорю… Вот сейчас сижу, размышляю – так бы и свекольничков испекла!
– Каких свекольников?
– А неуж не знаешь?
– Не знаю, – признался я.
– Ну, я тебе расскажу, – она положила тросточку рядом, на лавочку, и начала бодреньким голосом:
– Это пирожки, Коля, так называются. Но сперва надо достать добру свеколку. А потом помыть хорошенько да изрезать на дольки. А их тоже надо в печку – да высушить. А потом ломтики истолочь и смешать с ягодным отваром. Ох хорошо будет! Сильно вкусна выйдет начинка! Я еще в детстве ела да не забыла. Ох и хорошо! Каждый раз прошу твою мать – давай сделаем таки пироги! Но че-то не могу допроситься. Так и умру – пирожков не попробую.
– Ты, бабушка, еще двадцать лет проживешь! – утешил я ее, но она на меня рукой замахала:
– А не болтай! Я уж с печи – а ветер встречи. Мне бы хоть еще пару годиков… Это сколько же будет дней?
– Зачем вам?
Она любовно погладила свою тросточку и положила в колени.
– В старости, Коленька, каждый день выходит за год. Вечером вот в постелю ложишься, а душа замирает: то ли проснешься утром, то ли, мол, нет… А вот покушать – не отопруся еще. Я бы и доброй солонинки попробовала. Как ты, Коля, на это?
Я не ответил, как будто прослушал. А у самого в голове засело – зачем она спрашивает про всякую ерунду. И вдруг понял я, догадался – она же отвлекает меня, отвлекает… Чтобы я про Лену не думал, не мучил себя. А бабушка опять гудит мне на ухо:
– Ране-то как мы солили! Теперь уж не солят так – все время нету да недосуг. А у нас было время, – она вздохнула глубоко-глубоко. – Сперва, бывало, посолишь огурчики, а на них слой капустки положишь да придавишь кирпичиком. Капуста-то из огурчиков возьмет весь сок…
И в этот миг открылись соседские ворота. Вышла Маруся с опущенной головой. Увидев нас, подошла к самой лавочке:
– Соколко-то у нас умер… Горе на горе и горем покрыло. Вчера еще пять гусят потеряла, а сегодня – собака. Да хоть бы он старый, а то совсем не старый… – она замолчала и села рядом со мной.
– Ты бы, Николай, им занялся.
– А что надо?.. – спросил я тихо, потому что сжалось дыханье.
– А надо бы унести на степь… Прибрать к земле надо, – сказала она о нем как о человеке и сразу заплакала. Бабушка тоже засопела, поднесла платочек к глазам. А Маруся повторила: – Так я надеюсь на тебя, Николай.
Так я получил это задание, но лучше б не получать… Мне было стыдно и тяжело. Я же ведь Лену во всем обвинял и себя вместе с Леной. Отхлестали, мол, оскорбили его, и вот он умер с расстройства.
– Так ты уж постарайся, – сказала опять Маруся. – Не сохранили дак. Эх ты, Соколко, Соколко…
Часа через два я зашел к ним в ограду. Сокол лежал в сенках на том же месте. Мне вначале показалось, что он спит, но когда потрогал – он был как чугунный. Я хотел поправить у него лапы, но они тоже не гнулись. Я завернул его в старое одеяло и положил в картонную коробку, а коробку стянул бельевой веревкой. Так и понес его на руках… Так и понес…
Когда я был уже за оградой, ко мне подошли бабушка с Олей.
– Ну че, Соколко, прощай давай. Все там будем, да не в одно время… – бабушка еще хотела что-то сказать, но ее душили слезы. Наконец переломила себя.
– Ты, Коля, его в сухое место зарой. Не приведи господь – в мокроту… Потом и меня так же, Коленька. В сухой песочек положьте… – Она опять задохнулась, мешали слезы.
– Ну прощай еще, Соколенок. Мало пожил ты, да много сделал… – она покачала обессиленно головой и оперлась на тросточку.
– Одни уж, Коля, идите. А у меня ноги че-то отказывают. Идите…
И с той минуты я жил как во сне. Я не помню, как прошли мы деревню, как оказались у самого бора. Я не помню, как вырыл на степи ямку, как положил его туда, как забросал землей. Я не помню, что делала тогда Оля. Но вот что-то спросила она, и я очнулся. Передо мной был дом и наша ограда, а за спиной уже кричала Маруся. Я видел, что она кричит, но понять все равно не мог. Тогда она подошла поближе:
– Николай, зайди к нам на минутку. Мой-то муженек проснулся и тебя требует. Какой-то разговор есть…
Я пообещал. И только повернул к их воротам – у меня отказали ноги. Они все слышали, чувствовали, но шагать не могли. Я еле-еле добрел до лавочки и почти упал на нее. Сердце колотилось, выскакивало.
– Николай, да где ты? – кричала Маруся. – Мы ждем тебя! Заходи-и…
Но я не отозвался. Я ничего не мог делать. Я не мог говорить. «И не будет тебе прощенья, не будет!» – металась душа. И везде чудились мне глаза его. Я поднял голову, а на небе туча, дождь собирается. Но нет, нет, это не туча, а это Сокол бежит по небу, это его уши, его морда, глаза… Но меня отвлекли:
– Колька, сколь ждать тебя! – Это кричал сам хозяин дома. Михаил стоял на крыльце, очень высокий, сердитый. Он смотрел на меня и точно не видел.
– Нету его, – сказал он кому-то и повернулся спиной.
– Нету его. Нету Соколки… – повторил я за ним и зажмурился. Мне совсем не хотелось жить.
Но я не умер, а умерла моя бабушка. Маруся говорила, что это Соколко ее туда утянул. Одна душа, мол, другую окликнула, вот она и ушла.
…И все мы тоже уйдем, но будет ли встреча? И где ты, Сокол, сейчас? Где ты, бабушка? Где же ты, сестренка моя, где отец? И будет ли встреча наша, соберемся ли на том берегу…
Собака лаяла торопливо, захлебываясь. И я опять погрозил кулаком – дурная, мол, ты, безмозглая, разве можно лаять на дождь… Но прошла минута – и у меня отлегло… Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкусит сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего. И ты, Соседка, тоже лай, веселись, пока можно. И я улыбнулся, опять пожалел ее. Стоит сейчас, наверное, вся мокрая и взъерошенная… Но в это время раздался звонок.
– Вот и мы. Сейчас будем лекарство пить и выздоравливать… А ты почему какой-то другой?
– Да вот Соседка расстроила. Стоит и лает часами. Из-за нее, наверное, и дождь идет.
– Из-за нее! Конечно, из-за нее! – смеется жена. И в глазах у нее что-то мелькает, что-то торопится… И все любят эти глаза…
– Ну так будем лечиться? – Глаза смеются, играют. Они так на кого-то похожи, эти глаза. И я опять вспоминаю о Соколе.








