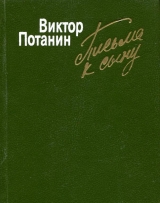
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ – ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ
Опять над морем плывут белые и синие облака. Можно бесконечно смотреть на них и о чем-нибудь думать. Так я и делал сегодня. Лежал на теплом песочке и загорал. Врачи мне запретили подолгу бывать на солнце, на я нарушаю… Вот и сегодня я лежал у самой кромки прибоя и, можно сказать, блаженствовал. И дышалось легко, летели брызги прямо на грудь – и ничего не болело. Но пришел Николай и все испортил. Я уже писал, как меня выводит из себя его бесконечная болтовня. А сегодня он рассказал мне про свою тетку Наталью – больную старуху. Она жила в леспромхозе возле Тюмени. И было у нее четыре сына и одна дочь – Татьяна. Я и имя ее запомнил, но сначала – про сыновей. Они договорились, что у каждого из них мать будет проживать ровно по месяцу, а потом перейдет к другому. И там – тоже месяц, и у третьего – месяц. А брать насовсем побоялись. Кому же нужна старуха? Да еще больная да маломощная. На нее же и стирать надо, и в бане мыть, и горшки подставлять. Ну вот: расписали очередь, распределили родную мать. Незаметно промелькнуло четыре месяца, и старуху теперь переправили к Татьяне – пусть, мол, и сестра походит, помается. Но у сестры вышла осечка. Муж ее тещу стал прогонять – и пахнет, говорит, и квартира мала, и вообще он – не брат милосердия. Как-то Татьяна ушла на работу, а он в это время и вцепился в старуху – иди, мол, откуда пришла. Чтоб твоего духу тут не было! У тебя вон – четыре сына! И молодые еще, прокормят… Вот и пошла эта Наталья, а куда – сама не знает, куда. И глаза совсем не видят, и в ногах силы нет. А на улице еще ветерок начался да со снегом, с морозом. Этот ветер и понес старуху – весила-то она не больше перышка. Так она в лесу оказалась – сосны-то начинались за последними огородами. Тут Наталья и увязла в сугробе. Упала, а поднять старую некому. Только метель выпевает да сосны гудят. Вот и конец, сын, этой горькой истории… Нет, еще, наверно, не самый конец. Потому что пришла с работы Татьяна и сразу к мужу – где мать? Нет же ее? А муж отвечает – она к старшему сыну пошла. Ну дочь и успокоилась. И только через неделю хватились старухи. Стали искать, в милицию заявили. Но не нашли. Да, видно, не сильно искали… А по весне вытаяла она в сосняке. По одежонке на ней и опознали старуху. Вот оно как! А потом сыновья откупили кафе и сделали поминки с размахом. И все было нормально: закусили, выпили, помянули погибшую душу. И все бы действительно для них обошлось, но с младшим сыном старухи что-то случилось. Начал в церковь ходить, ставить свечки, а потом стал сочинять стишки. И все время мучается, на себя наговаривает: из-за них, мол, родных деток, мать-старуха погибла. Они сами ее в землю вогнали, убили самое дорогое. Начались головные боли, и им занялись врачи. Теперь племянник Николая уже на инвалидности, живет в каком-то особом интернате, и зимой и летом ходит в пимах. Разум-то сейчас – с кулачок… Вот какую историю мне рассказал Николай. Но лучше бы молчал – все настроение мое сразу пропало. И день померк, и море надоело, и я побрел в свою комнату. Тяжело мне стало, прямо жизнь не мила. Потому и решил с тобой выговориться и сразу сел за письмо… Откуда же люди такие? И почему их носит земля, почему у них не слепнут глаза от стыда? Не знаю, не понимаю – только боюсь… А боюсь я одного, Федор, что, когда ты вырастешь, таких вот сынков будет еще многовато, и они могут отравить твою жизнь. Но не падай духом, держись за настоящих людей. Их очень много – особенно на твоей родине. Вот написал я последнее предложение и сразу же вспомнил Архипова. Этот человек очень дорогой для меня. Редкая у него душа и всегда готова помочь. Ты замечал, сын, как в осеннюю глухую распутицу, на тяжелую грязь выпадает чистый белый снежок. Посмотришь на него, как он оседает и кружится, какой он тихий, чистый, пушистый – и сразу поднялось твое настроение. Так и Архипов на меня действует. Да и все наши деревенские его уважают. Именно с ним и связаны наши колхозные перемены. А случились они именно в те дни и в те месяцы, когда на центральной усадьбе колхоза появился новый дом с большими светлыми окнами. На доме не было, конечно, таблички, но каждый в колхозе знал уже, что здесь поселились приезжие. Да и зачем табличка, ведь в этом доме стал жить наш новый председатель Виктор Федорович Архипов… Как часто в книгах и особенно в фильмах видим мы такую картину: приехал в слабенький отстающий колхоз новый человек – агроном или председатель, – прожил там месяц или даже недели две, и дела в хозяйстве сразу ринулись в гору, пошли вперед. И повеселели люди, и увеличились урожаи. И прибавили молока коровы, и выросла зарплата. Одним словом, было дерево почти засохшим, пропащим – и вдруг расцвело… Но ведь это же, сын, неправда, обыкновенная ложь, потому что сельские дела идут всегда медленно, постепенно. По крайней мере за один месяц, даже за год не поправишь колхоз, не выведешь из прорыва. И причина такой медлительности даже не в людях, а в самой нашей природе: заметь, как тихо, неприметно для глаза поднимается ввысь, а потом зреет и наливается хлебное поле, так же тихо растет трава на лугах и продуктивность молочного стада. И потому председателю колхоза, кроме ясной и умной головы, необходимо еще и терпение. То терпение, которое всегда было в цене у крестьянина, за которым всегда стоит любовь к земле и к родному дому. Так значит – снова любовь!.. Вот мы и опять, сын, вернулись к этому слову. Но почему все-таки в нашей Утятке сразу полюбили Архипова? Почему сразу его выделили и возвысили, почему о нем родилось столько народной молвы: он, мол, и добрый, и справедливый, он, мол, и знающий агроном, и хороший отец… Он, мол, и рыбак, и охотник, он и ребятишек любит, и стариков уважает, у него и у самого детей полон дом… И еще много-много говорили хорошего. И все-таки почему его сразу выделили, почему его принял душой наш строгий утятский народ? Не только строгий, но и настрадавшийся…
Помню, в нашей деревне лет двадцать назад работали два колхоза: один колхоз объединял полдеревни, и другой – полдеревни. И председателей тех тоже помню. Среди них были и свои, родные и кровные. Попадались среди них и приезжие. Их присылали к нам прямо из города, и они гордились, что едут на укрепление. А может, делали вид, что гордились. Попробуй разберись в них, если их так часто меняли. Текучка была большая, но пользы не получалось…
Многие из них прибывали к нам без семьи – с одним чемоданчиком, в котором лежали мыло, чистое белье и две-три брошюрки с агросоветами. И обладатель этого сиротского чемоданчика селился где-нибудь у одинокой старушки – в боковой тесной комнатке. И жил от тоже просто и сиротливо, как бобыль какой-нибудь или вдовец… А по ночам он обычно не спал – все писал и писал какие-то тезисы. А по утрам этот председатель собирал в правлении разные планерки, собрания, и на этих собраниях всегда кого-нибудь распекал и отчитывал. А под конец заглядывал в свои тезисы и ставил задачи на неделю вперед и на месяц. Так, в криках и спорах, проходил его день, а под вечер он плелся домой, усталый и выжатый, а на лице стояла гримаска обиды: зачем я приехал? Здесь живут одни старики да лентяи! Так зачем же, зачем?! И семью в эту дыру не потащишь, и сыновей не отдашь в эти классы… Да и какие здесь педагоги в этой, с позволенья сказать… И он придумывал такое слово, такое, от которого сам же и содрогался… Так повторялось и на следующий день, и через неделю, и он страдал, худел и копил злость на кого-то. Правда, иногда облегчала душу бутылка. Но все равно через полгода он уезжал. Но это место сразу же занимал новый страдалец. И опять его посылали на укрепление, и снова круг замыкался. И снова этот новенький чувствовал себя черным лебедем среди белой стаи. Так почему мне так не везет? – вздыхал обреченно приезжий. Ведь там, где-то в городе или в райцентре, он был в славе, в большом почете, а здесь люди не признавали. Но иногда самые умные, самые практичные из приезжих закрывали на это глаза. Будем жить в этой Утятке как в командировке! – решали они. И так они и жили. А потом, конечно же, уезжали. И там, дома, за все эти мучения их часто ждало продвижение по службе или награды. Или на худой конец удивление: смотри ты, целых полгода там выдержал. Молодец!..
Ох, и устал наш колхоз от этих командированных. И у народа пропала вера – чего уж, мол, ждать, если заявляются на житье с одним маленьким чемоданчиком… И вот опять – новенький! Интересно, с чего он начнет?..
А начал приезжий с постройки нового дома. Он заложил его по всем правилам – на сухом и высоком месте. И стены возводил не из бетона и кирпича, а из крепкой сосны. И скоро-скоро поднялись стены и крыша. А рядом сразу появился пригон для коровы и крытый курятник. Загородили и огородик очень аккуратным зеленым штакетником, подняли скворечник. И скоро в ограде уже бегала очень веселая рыжая Варька. Собака чему-то все время радовалась и точно смеялась. «Ну, этот приехал надолго. Раз уж дом строит – значит, надолго…» – пошли по селу разговоры. Но, как говорится, ведь на каждый роток не накинешь платок. Но говорили люди о приезжих все больше хорошее, доброе. В деревне, если полюбят, то уж лет на двадцать вперед, с солидным авансом… Помню: забежала к моей матери в дом соседка. Лицо у нее какое-то особенное, как будто тысячу рублей нашла:
– Ну вот! Повидала его, посмотрела, – а у самой зрачки так и бьются в глазах, играют.
– Кого повидала? – не понимает мать.
– Да председателя нового!.. – И она опять задохнулась, потому что хочет быстрее сказать, а слова запинаются.
– Мы на тракте стояли. В район надо, а автобус ушел! И вдруг легковая подходит, и дверца открылась: «Садись, народ! Места хватит, подвинемся…» Потом мужчина вышел и всех приглашает. А мы мнемся что-то – да нас же, мол, четверо – не войдем. «Вот и хорошо, веселее доедем…» Так мы и познакомились с нашим Архиповым.
– Молодой он? – пытает мать.
– Не говорите! Прямо студент… И голубоглазый, красивый. И всю дорогу расспрашивал да рассказывал. А потом в райцентре развез всех по домам. Сам на совещание опоздал, а нас всех развез… – И опять глаза у нее засверкали – так понравился председатель, поразил своим поведением…
Вот тогда я и услышал о нем впервые. Услышал и почему-то насторожился. Может, слова соседки вывели меня из себя – молодой да красивый, голубоглазый… Ну раз, мол, молодой, значит, резвый, мобильный. И начнет, мол, молодой этот в нашем колхозе все кроить, перекраивать, а если не получится, то помашет ручкой, уедет…
Но вот и пришла моя первая встреча. Он заехал за мной на машине.
– Ну что, тезка, собирайся со мной на луга. Такая весна кругом, а мы отстаем… – Он сказал это весело, запросто, как будто старому другу. И у меня сразу, сразу же потянулась к нему душа.
И мы поехали. Земля только-только освободилась от снега и теперь дышала облегченно, свободно, вбирая в себя теплые лучи, кислород. Метрах в ста от дороги бежал Тобол. По весне он был широкий, наполненный, одним словом, река как река. А рядом, в пойме, блестели озерца. Их было теперь много в середине апреля, и все они играли, переливались, как кусочки стекла. А высоко над ними кричали чаечки. Такие белые, белоснежные чаечки.
– Скоро улетят они, отлетают… – сказал председатель и грустно-грустно посмотрел на меня.
– А почему? – Я не понял, не догадался.
– Работать надо с поймой – вот почему. А теперь, смотри, все запущено. И озерки эти пересохнут в июле. А многие из них уже не поднимутся… Ну вот погляди внимательно. – Он показал рукой и вправо и влево. – Вон сколько их, пустых, бочажек и впадинок. По ним раньше вода текла, а теперь один ил затвердел да земля… Эх, поднялись бы те старики да спросили отчетик!
– А при чем тут старики?
– А при том, дорогой! – Он уже давно со мной перешел на «ты». – А при том, при том – неужели не видишь?! У них же тут сотню лет назад была целая система, своя ирригация. Каждое озеро соединено было с малым озерком, а то с другим да с третьим, с десятым… И по этим канавам в половодье шла вода из Тобола. И потом хватало ее и для карася, и для птицы. А трава тут в пояс была – запомни… И не смейся – в пояс, в пояс, застревали литовки… – Мы далеко отошли от машины, и он мне все показывал и показывал эти овражки со столетней историей. А я слушал его, поражался – да как же я, как же я? Вроде вырос здесь и родился, вроде знаю здесь каждую кочку, а вот не догадался, не понял я, что это все наши деды и прадеды! И копали вручную – одной лопатой да ломиком, и даже не лопатой – своею настырностью, потому что болело у них сердце за каждое озерцо, малое, безымянное. За каждую былинку болело на родных моих утятских лугах. И, точно бы читая мои мысли, председатель прищурился:
– А теперь и трактора у нас, и бульдозеры, а до чего довели. Горе-хозяева… Нет, ты скоро этих лугов не узнаешь! – Он сказал это и сразу замкнулся. И лицо как-то сжалось, осунулось. Я понял: председатель что-то задумал:
– Как ты предполагаешь, нынче будет большая вода? – спросил неожиданно и посмотрел мне прямо в глаза.
– Вряд ли большая-то. Не те сейчас времена. Это раньше…
– Это мы знаем, знаем… – повторил он несколько раз и вздохнул. И опять мне показалось, что он что-то задумал…
Так и есть: на другой день по утятским лугам уже ходил «Беларусь» с экскаваторной малой лопаткой, а в кабине сидел лучший механизатор колхоза, большой друг природы – Коля Комарских. Целую неделю Коля вел рвы и канавы по старым, столетним отметинам. И всю неделю эту работу придирчиво проверял сам председатель. А иногда он брал прутик и что-то подолгу чертил им по теплой сырой земле. Его чертеж понимал с ходу Коля Комарских и вот уж снова гнал свой «Беларусь» куда-то в ложбинку. А потом Коля получил и подмогу – пришли трактора и машины…
В те дни я и встретил председателя в нашем клубе. За длинным-длинным столом – через всю стену – сидели ветераны войны и знатные люди. Вот они, наши солдаты, наши герои: Иван Сергеевич Иванов и Алексей Михайлович Баженов, Иван Иванович Волков и Василий Александрович Нетунаев… Как их мало уже осталось, как их надо хранить нам, как самое дорогое… О многом уже было сказано за тем столом – и про Берлин, и про Прагу. И вот теперь они сидели молча, и кое-кто из них плакал. Ах, эти слезы, скупые мужские слезы! И как забыть вас, как пережить!.. А рядом звучала музыка и тихий бархатный голос выговаривал давно дорогое, знакомое: «С берез неслышен, невесом слетает желтый лист…» – какая светлая, какая возвышенная печаль! Под нее прошли и детство мое, и юность, и мне всегда казалось, как-то неотвратимо казалось, что лучше этих звуков и нет ничего. Ведь такая сила, такая печаль… А рядом, рядом совсем – надежды… И пусть проходят годы и годы, и пусть время несет утраты и расставанья, и пусть никогда-никогда уж не встанут солдаты из тех глубоких братских могил, но все равно однажды вернется радость, а вместе с нею придет и жизнь… И эти звуки опускались в тебя и отнимали дыхание. И потому у многих были мокры глаза… Сидел тут и Виктор Федорович Архипов – наш председатель. Он давно уже всех поздравил и ро́здал от правления подарки. А теперь сидел молча, о чем-то думал.
– Ты што, Федорович, опечалился? Народ тебя принял у нас, доверился, – сказал ему кто-то из ветеранов. – И ты хорошо повез нашу телегу, а мы уж возле тебя…
– Хорошо, да не совсем. – Он закусил губу, прищурился.
– Ниче, ниче. Ты хрестьянин, и мы с тобой по-хрестьянски…
– Вот-вот! – Он улыбнулся и вдруг в упор посмотрел на меня.
– На лугах уже был? Только честно?..
Я смутился. Он застал меня своим вопросом врасплох.
– Я вижу, что не был. Вот тебе задание – побывай.
И на другое утро я пошел по его заданию. День был теплый, и парила, чутко дышала земля. Но через час я уже все забыл, растерялся. У меня в глазах вдруг встала такая синь, что застучало сердце. Я смотрел, смотрел – и не верил. Передо мной расстилалась сплошная водная гладь, по которой зелеными зыбкими родинками разбегались небольшие островки, возвышения. Что за чудо! Нет, я не ошибся: это сияли вешней водой, тянулись к небу, к веселым птицам наши луга. Но откуда столько воды? Вроде и наводненье-то нынче не больше прошлогоднего. Но воды было много! И птиц тоже много – целые тучи!.. И дикие утки, и чайки, даже залетели откуда-то дикие лебеди. Я смотрел на это белое чудо – видение, и все во мне замирало и зябко сжималось: вот и повидал наконец шипунов, повстречались… А когда это было в последний раз? Наверно, в детстве было, конечно же, в детстве…
Но что лебеди? Хотя это здорово – лебеди!.. Зато в то лето столько накосили сена, что хватило его на план и на обязательство, да еще и на личных коров осталось. Сено и стоговали, и завязывали в тюки, прессовали. Я сам был на одном из воскресников. Запомнилось мне, надолго осело в душу то веселое настроение – и песни, и купание в Тоболе, и особый чай на вишневых корешках и на травке. Но больше всего мне запомнилось, как радовался тогда, ликовал председатель: он и сгребал сухие валки и подавал на зарод, он и шутил больше всех и смеялся, он успевал везде, и всем он был нужен, и все его звали к себе, – и чтоб стоять только с ним, только с ним. И чтоб только его голос слышать, дыхание… Как я ему завидовал… А вечером председатель пригласил меня домой: приходи, мол, на огонек, поговорим по душам.
И вот уж я в гостях: сижу в большой светлой комнате и смотрю на них, а они – на меня. За широким длинным столом сидит вся семья Архиповых и пьет чай. Вернее, пьют только старшие, а младшие Архиповы увлекались сказкой «Несмеяна-царевна». Они расположились рядком на диване, и Андрюша неторопливо читает: «Как подумаешь, куда велик божий свет! Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно…» Голосок у него то поднимается кверху, то переходит в громкий тревожный шепот, то совсем-совсем опадает. Может, так и надо читать наши русские сказки. Конечно же, так! Иначе бы не сияли глаза у сестренок – у Наташи и Олюшки!..
И так проходит час, а может, и больше. А я все сижу среди старших. Мы потихоньку беседуем и так же не спеша попиваем очень крепкий чай с густым молоком. Оно такое густое, что сверху в чашке стоит янтарная пленочка. Но чай все равно хорош – он веселит меня, успокаивает. Да и разговор меня успокаивает: мы говорим о грибах, о рыбалке, о наших озерах. Ну и, конечно же, о колхозных делах. Потом замолкаем надолго и о чем-то думаем, вспоминаем. Затем опять выходим из своего одиночества, и вот уж снова – снова спешим друг к другу с вопросами, – и даже горячимся теперь, не дослушиваем… И вот опять замолкаем надолго, и только голос Андрюши что-то вещает о Несмеяне. Наконец хозяин нарушает молчание:
– Крестьянское дело должно быть потомственным! А иначе – все прахом, каши не сваришь… – Он посмотрел на меня недоверчиво: почему, мол, молчишь, не согласен? Но я с ним согласен, очень согласен. И жена Люда с ним тоже согласна. Она – верный друг его и помощник. Она в колхозе «Россия» – главный экономист.
И вот уж он переводит глаза на нее, и глаза его ждут поддержки, сочувствия, и поддержка приходит:
– Правильно, Витя, согласна я. Нужно хранить в семьях наши традиции… На земле нужны крепкие люди – хозяева. А то языком-то порой мы работаем, а как до дела – сразу уселись…
В ответ на ее слова он усмехается, но усмешка не злая, а добрая. И в глазах – тоже свет, добрый свет, И все-таки не выдерживает:
– А как хранить – ты подумала? Ведь город рядом – такой насос… Не насос, а целая водокачка.
И прав хозяин. До города всего тридцать два километра. А дорога – чистый, ровный асфальт. И уезжали всегда по этому асфальту только самые молодые, самые лучшие. А кто их осудит? Им хотелось белый свет посмотреть, да и себя показать. А некоторых сами родители отправляли: давай, мол, сынок, поезжай, собирайся! Ищи в городе свое положение. А у нас кого – все нехватки да недостатки. И того нет, и другого. А когда направится все – нам еще не сказали…
И уезжали навсегда те сынки и любимые дочери. Оставались одни старики с тяжелыми думами – нам, мол, ехать уже в город не надо, нам уж только в борок, на покой… Оставались, конечно, и молодые. Но это были все люди с профессиями – трактористы, комбайнеры, шоферы. У них на руках уже были машины – значит, и заработок. И вот это держало…
– И такой насос работал безостановочно, – продолжает свою мысль председатель. – Он и теперь работает, как часы…
– А почему? – Я оборачиваюсь на хозяина дома и чувствую, что волнуюсь. – Почему и теперь иной смотрит на назначение в деревню, как на страдание… как на несчастный случай, на горе?.. Почему тебя оставляли в аспирантуре, а ты все же поехал?
– Ну, я – это я, – смеется хозяин.
– Мы – люди особые, – уточняет жена. А сама хитро щурится, и брови сходятся у переносицы. Глаза у нее длинные, синеватые, очень похожие на продолговатую сливу. Какие-то нездешние, конечно, глаза. Но Люда родилась в соседнем районе, а свадьбу сыграли, когда учились в Курганском сельхозинституте. И вот уж трое детей у них, а ведь каких-нибудь шесть лет назад супруги Архиповы еще стояли на комсомольском учете. И на молодежные вечера ходили, на танцы… Но мои мысли перебила хозяйка:
– Да, мы с Витей особые. Мы же – крестьяне! И у нас – где хлебушек, там и душа. А хлеб-то в городе не растет… – Она смеется и смотрит долгим взглядом в окно.
Там и душа, там и спасение… И еще она там у женщины, где дом ее и где дети. И где тополек под окнами, посаженный дочкой Олюшкой… И еще там она, где огород, где мычит корова, где зеленеет береза на теплой колхозной земле… А раз так у женщины – у жены, значит, так и у мужа. Потому, наверное, и начал председатель свою жизнь у нас с постройки большого дома… Но мои мысли вдруг перебивает детский голос. Это Андрюша громко читает: «Жили-были старик со старухой: у них был сын, по имени Иван. Кормили они его, пока большой вырос, а потом и говорят: «Ну, сынок, доселева мы тебя кормили, а нынче корми ты нас до самой смерти…»
– Как все просто! – смеется старший Архипов. – А нынче корми ты нас… В этом же – мудрость вся, честное слово! Мы, мол, на тебя тянулись, переживали, а теперь ты нас до смерти дотягивай. А где взять эту кормежку? Да ясно же где – на земле надо работать. И чтоб с утра даже и дотемна. Значит, нет у младшего выбора, нет второго решения. Раз ты крестьянин-хозяин, то и крестьянствуй… У меня вот тоже не было выбора. – Он задумчиво морщит лоб, потом медленно отпивает чай. – Да, не было выбора… И мать моя всю войну не слезала с колесника, а отец был комбайнер. Даже дед Капитон Филиппович – и тот вечный крестьянин… – Он задумчиво улыбается, потом кладет мне ладонь на плечо. – А если серьезно, то и я бы мог куда-нибудь на завод, а то в медицинский… А если уж вовсе серьезно, то это было бы горе для меня, поражение…
– Почему?
– Не приняла бы душа. Как моя жена говорит: мы же особые. Мы же – крестьяне. Вот отними все это… – Он махнул куда-то вправо рукой. Но я и без слов его понял, я догадался.
– Отними – и жизнь, считай, кончена. Летальный исход, сосновая крышка. Потому порой и обидно…
– За кого?
– За нашу школу, к примеру, за учителей… Вот кричим везде, призываем – на фермы идите, на фермы! А в жизни что: какая-нибудь девчонка двойку получит, ее сразу же и учитель стращает – «с твоими знаниями только в доярки…». А с парнями – хуже того. У нас тут одному мальчишке прозвище дали – скотник Вова да скотник Вова… Так этот Вова чуть в петлю не залез. Нет, милые, так дальше нельзя! – Он точно бы пригрозил кому-то, и лицо его побледнело. – Эти дела надо вместе: и чтобы школа, и чтобы родители… – Но докончить он свою мысль не успел, потому что вошла Люда, с большой стеклянной банкой в руках, а там – молоко.
– Пока вы тут сидели, я уже подоила нашу доену. – Она разливает молоко по стаканам и предлагает мне:
– Пейте, пейте молочко – будете здоровы. – Она смотрит то на меня, то на мужа своими длинными сияющими глазами:
– Пейте, пейте, не обижайте хозяйку. А мы сами-то привыкли к парному. А вот Андрюша все время отодвигает. И Наташу с Олюшкой не заставишь…
И я беру из ее рук теплый, почти горячий стакан. А в ушах все не стихают ее слова: «…и Наташу с Олюшкой не заставишь…» И я пью молоко очень маленькими глотками, а душа опять шепчет, завидует: счастливые вы, счастливые… И все у вас ладится, и все на виду: и работа, и дети, и сами вы больше всех на виду. Потому и любят вас, уважают… И мне бы встать теперь, попрощаться, но почему-то не могу, не решаюсь. И чтобы оправдать себя, опять придумываю вопрос:
– А как же ты время планируешь? Ведь день короткий, а колхоз твой – большой…
– А мы по солнышку живем… По-хрестьянски… – Он улыбается. – А разве можно у земли по часам? Ей не делового давай председателя, а приводи к ней влюбленного. Тогда и земля покажет себя… Нет, нам, крестьянам, нельзя по часам. Не придумали нам такие часы. – Опять посмеивается хозяин и вдруг неожиданно замолкает. Потом смотрит на меня долгим внимательным взглядом.
– Вот шучу, а это же жизнь моя и судьба. Недаром ведь под словом «хлебороб» подразумевается целый уклад. Тут и спокойствие души, тут и сила, терпение. Тут и дети – будущий день…
– Вот ты о детях, – замечаю ему, – а твои кем будут – и Андрей, и Наташа, и Олюшка?
– Вырастут, сами выберут. Но полагаю, что останутся у земли. – Он прищурил глаза: – Они будут лучше своих родителей. Мы не успеем – они успеют. Мне уж вон полетело за тридцать… Но сынка мы еще народим! Правильно, жена? Обещаем?!
– Обещаем, куда же денешься?.. – засмеялась Люда и поправила свои волосы. А во мне опять все вздрогнуло от волнения: счастливые вы, счастливые… Как у вас хорошо все, согласно.
…У него и с матерью и с отцом было согласно. С десяти лет они отправили его работать на пашню. И мать наказывала: «Иди, сынок, укрепляй себя. Рыбам – вода, птицам – воздух, а нашему брату – вся колхозная работа…» И он выполнил этот наказ. С этих лет он помогал и на току, и на ферме – в родной деревне Верхней Алабуге. И после семилетки не выбирал – пошел сразу в Куртамышский сельхозтехникум. А когда наступила первая практика, то попросился в родной совхоз. А хлеба стояли в тот год наливные, богатые. Не успевали их косить, подбирать. Очень запомнилось это лето, да и как не запомниться – он работал на комбайне, который ему доверил отец. И потому его переполняли гордость и веселое настроение. И все-таки директор совхоза на него частенько поглядывал. И однажды не выдержал: «А ведь тебе, парень, надо учиться. Институт по тебе плачет, зовет к себе…» Так он и стал совхозным стипендиатом. И пришла самая дорогая пора. Но те годы быстро летели и пролетели, и вот уж в руках у него – красный диплом с отличием. А раз с отличием, то предложили аспирантуру. Но он не захотел, потому что решил ехать в дальний совхоз «Спутник» главным агрономом. И хорошо там работал – его хвалили и выделяли. Потому и вызвали однажды в райком партии и предложили возглавить колхоз имени Ленина. Так он стал самым молодым председателем в далеком от Кургана Частоозерском районе… Ему только-только исполнилось двадцать пять, и он работал тогда как одержимый. И дела в этом колхозе переменились к лучшему, и люди тоже полюбили его, поверили… Но тут случилось совсем непредвиденное: молодого председателя потянуло на родину. Туда, где жили когда-то родители, туда, где бежит Тобол, где собирал мальчишкой землянику на вырубках. А раз задумал ехать, то и поехал. И вот уж он в наших краях, и вот уж мы сидим с ним и беседуем:
– В чем главная твоя боль? В чем сомневаешься?
– А мне нельзя сомневаться… – Он лукаво посмотрел на жену, и у той тоже заблестели глаза. – Нам работать надо с главным экономистом, очень крепко работать! – Он сжал губы, нахмурился. – Надо поднимать авторитет колхозника на всех уровнях. Да-да – на всех! И чтобы доярка гордилась своей профессией! И чтобы скотник гордился. И чтобы бригадиры поняли наконец, что главней их – нет никого. Что они самые главные здесь хозяева.
– Да они уж и так поняли, Витя. Скоро подчиняться тебе перестанут, – смеется громко жена и зачем-то убегает на кухню. И детей тоже не видно. Они давно ушли в детскую комнату, и оттуда раздается неясное бормотанье, как будто тихо-тихо журчит вода. Я прислушиваюсь к этому ласковому журчанию, потом вижу, как он внезапно вздрагивает, напрягается. Но потом… потом светлеют его глаза, и спадает с них тонкая, усталая пленочка. Что с ним, да что это?.. Но через секунду догадываюсь: на пороге стоит жена, и он смотрит на нее и любуется. А в руках у Люды какие-то банки и баночки:
– Мы еще медом не угощали вас. У нас и варенье свое, моченые ягоды…
А я смеюсь про себя, улыбаюсь: вот ведь горе какое, не угощали еще… И вот мы снова придвигаем поближе стулья и садимся к столу. И опять появляются чай и свежее молоко. И мед, и ватрушки, и пироги с рыбой и с ливером, и еще что-то – не хватит памяти.
– Ешьте, ешьте досыта, поминайте хозяйку… Да вы берите прямо руками, руками…
А потом мы стоим на крыльце и прощаемся. Теплый ветерок бьет прямо в лицо хозяину, и он его жадно вдыхает и, чувствую, не надышится.
– Ты почаще в нашу ограду заглядывай. Только не вздумай про нас в газету…
– Не вздумаю.
– Вот и ладно, договорились. О нас-то зачем? За какие шиши? О ветеранах наших надо рассказывать. Они – главный народ. Не согласен?
– Согласен, поддерживаю! – смеюсь я и подставляю ветру лицо. Он теплый, мягкий, бесконечный какой-то и обволакивающий. Он дует прямо с ближних полей… С наших родных утятских полей…
И вот сейчас, сын, я опять почувствовал на щеках этот ветер. Ты не веришь? Честное слово! Как будто снова я стою на том высоком крыльце, а далеко-далеко у дальних берез темнеют поля. Но поймешь ли ты меня, поймешь ли?.. Ты не забыл, как я говорил тебе, что мои странички будут исповедью, на которую понадобится смелость, решимость. И вот я решился – написал уже много всего, но волнение мое не убавилось. Наоборот: я сейчас еще больше переживаю – чувствуешь ли ты мои мысли, надежды? Конечно, я понимаю, что из большой реки я зачерпнул только каплю, всего только каплю. Но мне хотелось, чтобы в ней отразилось и мое прошлое и настоящее, моя душа и мои признания в любви. Да, сын, когда часто болеешь, нужно спешить с этими признаниями, а то будет поздно. И прав был председатель Архипов. Нужно успевать рассказывать о самом главном народе. Но кто он – этот главный народ? Может быть, наши ветераны? А может, мы с тобой, сын, или твоя мать с бабушкой Анной?.. Но об этом поразмышляю в другом письме. А теперь я прощаюсь. И пойду закроюсь на ключ, а то мой друг Николай повадился стучать даже ночью. Правильно говорят: простота хуже воровства. Ты не согласен?.. Но я все равно полюбил этого Николая.








