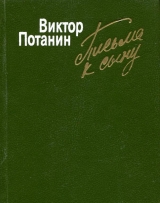
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ – О НАШИХ ИГРАХ
Дорогой Федор! На побережье у нас дожди, и это – настоящее наказание. Не выйти к морю, не прогуляться. Мы все по комнатам, как арестанты. И развлечений мало – только домино, шахматы да беседы. Поговоришь с человеком – и вроде полегче… А у меня здесь друг появился – шофер Николай из Тюмени. Он больной совсем – резаный, как говорят, перерезанный – и доверчивый, как дитя. А разговорчивый, рта не закроет. При первой же встрече он мне сообщил по секрету:
– Я сына в прошлом году потерял. Как на Север уехал – так и обрезало. И ни писем, ни самого.
– А в милицию, – спрашиваю, – заявляли?
– Кого она, милиция. У них и так много всего.
– А может быть, он живой?
– Может, и живой, а может, и мертвый… – говорит он тихо и доверительно, а глаза веселые, добрые, как будто говорит о приятном. Этот же Николай вчера мне сообщил:
– Когда я первый раз женился, так народу у меня было два «пазика» да три «уазика».
Смешно, сын? Но он на этом не кончил:
– А когда жена померла, то всего был один «уазик» с работы. Да соседей еще трое пришло. Вот оно как. Живешь – и всем нужен, а помер – тогда никому…
А сегодня утром Николай принес ко мне в комнату большой отрезок стекла. И говорит:
– Давай поиграем?
Я ничего не пойму, а он снова:
– Скучно что-то. Давай поиграем. – Потом лезет в кармашек пиджака, достает смятую тряпочку. Развернул ее, а там – галька какая-то.
– Что это? – спрашиваю. Он хохочет и крутит головой:
– А вот сразу не догадаешься. Ну ладно – не буду тянуть резину… Это, понимаешь, камни из почек. Хирург резал меня и нашел это золото. А потом на столик положил – возьми, мол, на память…
– И ты взял?
– А как! Они же, смотри, как стеклорез. – Он чиркнул камешком по стеклу, и оно разломилось.
– Охо!
– А что охо? Давай еще поиграем? Куда время девать?
– Нет, Николай, потом. – Я стал его уговаривать. Он собрал осколки стекла и ушел недовольный. Дите – прямо дите. Такой же у нас был Герка Герасимов. Его никто в Утятке не мог переиграть. Ни в бабки, ни в «чирка»… Сейчас уж так не играют. А напрасно! Я в этом уверен. Без этих игр не может быть детства, а без детства какая жизнь… Так что потерпи, Федор, я расскажу сейчас про наши игры, забавы. Может, и пригодится. Я уверен, что ты полюбишь… А как же иначе?
Так вот: вначале о бабках. Всю зиму мы их хранили за печкой или в кладовке. Они там подсыхали и становились, как камень. И вот наступала пасха, появлялась первая зелень, первые сухие пригорки. На одной из таких полянок и делали игрище. Бабки ставили на кон в два или в три ряда. Потом играющий брал биту – небольшой кусок из свинца. С этой битой отходил на десять-пятнадцать метров и сбивал этой битой кон. Если мазал, то ставил штраф – с десяток бабок по уговору. Если попадал, если разваливал целый кон, то собирал все бабки в мешок. Это трофей, это награда! Кто больше выиграет – тому и почет… Но были у нас и другие игры. Чаще всего мы играли мячом – в «бить-бежать». Сейчас тоже про это забыли, а игра была интересная, даже очень. А начиналась она очень просто – вначале выбирали двух маток. Сказать проще – начальников команд. А потом нужно было составить сами команды. Это очень простое дело: все разбивались попарно и отходили от маток подальше, чтоб не слышны были переговоры. Отходили и договаривались, какой у каждого будет пароль. Например, один говорил, что он будет называться капитаном, а его напарник брал себе имя – матрос. И вот подходит эта пара к маткам и обращается скороговоркой:
– Матки, матки, чей допрос? Капитан или матрос?
Можно говорить и не в рифму – кто как сумеет. И вот одна из маток отвечает: матрос! Выбор сделан: матрос направляется к одной матке, а капитан – к другой. Потом подходит другая пара. И другая матка тоже делает выбор. Так возникают две команды. Потом матки тянут «долги-коротки». То есть одна из маток зажимает в кулаке две спички разной длины, а другая матка вытягивает одну из двух спичек. И если выпадает короткая спичка – команде галить, а другой команде бить. Затем определяют место, где будут бить лаптой по мячу, и то место, до которого пробившему по мячу надо добежать, а если повезет, то и вернуться обратно. И вот один из игроков бьет по мячу, и пока мяч в воздухе – бежит до условной черты. А если ему удается, то бежит и обратно. Конечно, обратный путь очень трудный, коварный. Здесь его поджидают игроки из другой команды, которая галит в поле. И каждый из них старается попасть мячом по бегущему. И если попадет – роли у команд сразу меняются: те, которые галили, получают право бить по мячу. И такое длится долго – иногда часа три подряд. Мячей резиновых у нас тогда не было – мячи делали из коровьей шерсти. Собирали шерсть во время линьки коров. А для прочности скатанный мячик обшивали кожей. И хорошо!..
А надоест играть в мяч – играли в игру под названием «чирок». Игра эта очень веселая, очень азартная, нисколько не хуже, чем игра в мяч. Вот я хвалю ее, сын, но ведь про этот «чирок» люди тоже забыли. Как будто и нет его, как будто и не было никогда. Конечно, грустно все это, непоправимо. А может, и поправимо. Потому, Федор, прошу тебя – прочти внимательней эти странички…
Так вот: чирок – это брусочек из дерева длиной в несколько сантиметров. Его заостряют с обоих концов. И получалось так, что на той и другой стороне образовывался как бы утиный носок, приподнятый от земли. По этому носку и ударяли широкой битой – чирок подпрыгивал вверх – и этой же битой выбивали его подальше. А тот, кто галил, должен был бежать на всех рысях за чирком. А потом нужно было попасть чирком в специальную лунку, вырытую в земле. Конечно, бросали всегда только с места приземления. И если попал в луну – сразу менялись ролями. Тот, кто бил, теперь будет галить. А тот, кто галил, теперь берет биту в руки… В эту игру играли чаще вдвоем, но можно было играть и компанией… И вот однажды играем, смеемся, и вдруг слышу крик:
– Витя, Витя!
Я поднял голову, смотрю – ко мне спешит Павел Васильевич.
– Ты чё тут заигрался? У вас дома-то обыск!
Меня сразу как подрубили. Старик увидел мое состояние и стал успокаивать:
– Ты чё, парень, переменился? Все ведь живые у вас – никто же не помер… – И еще что-то старик говорил, но я уж не слышал, не понимал. Потом он взял меня за руку и повел домой. Возле ограды отпустил руку:
– Мне к вам нельзя. А если зайду – все равно прогонит агент…
– Какой агент?
– Сейчас увидишь… Да следи хоть за матерью. А то расстроится – и шабаш. – И вот я уже на крыльце. Через дверь слышу, что в доме кричат. Но делать нечего – захожу. Посреди комнаты стоят двое. Один из них – как потом узнали – был Детков, работник райфинотдела. А вторая была женщина по прозванию Тулуп. Как ее имя – не знаю и фамилию тоже не помню. Просто – Тулуп да Тулуп. Наверно, прозвали так из-за внешности. Она была высокая, черная, густые черные брови оттеняли цыганистые глаза. Встретишь такую где-нибудь в переулке – сразу пригнешь голову, испугаешься. А ее и так боялись сильнее огня. Она работала в нашей деревне налоговым агентом, но подчинялась только Глядянке.
Эта черная и кричала больше других:
– Я вам говорю: открывайте сундук!
– Так я же ключи потеряла… – Это бабушкин голос. Он почему-то даже веселый. И это сразу понимает Тулуп:
– Что такое? Насмешки? Я покажу вам, где раки зимуют.
– А мы и так, матушка, знаем. Где раки ваши, а где будут враки… – Бабушка смотрит в упор на нее и продолжает: – У меня дитенка убили, да сверх того – зятя. Да и самой уж седьмы десятки. Так что, матушка моя, мне военный налог не положен.
– Нет, гражданка, положен! – Детков спрыгивает со стула и включается в спор: – А если не уплатишь – опишем имущество.
– Да какое у нас имущество! – защищается мать. И вдруг распахивает перед ним наш сундук.
– Смотрите, любуйтесь! На сколько тут тысяч…
Детков подходит поближе и заглядывает на дно:
– Н-да… Не густо у вас.
– А что да! – кричит бабушка, и глаза у нее сверкают. – Забирай все ремки, описывай.
– А самовар чей? А зеркало? Это что, не имущество? – спрашивает Детков и начинает что-то помечать у себя в блокнотике. Мама стоит рядом с ним, бледная, как полотно. Потом говорит тихо, но все равно слышно всем:
– Кто вас послал сюда? Только честно?..
– А вы на нас не кричите, – предупреждает Детков. – За оскорбление власти будет по три года тюрьмы.
Но мать даже не смотрит в его сторону и продолжает:
– Если сейчас же не уйдете, я возьму палку – и прямо вас палкой. А потом сообщу в райком…
– Райком будет за нас, – перебивает ее Детков. И тогда мать толкает его прямо в грудь. Губы у ней трясутся:
– Вон, вон отсюда! Поиграли и хватит… А вообще-то ваше место на фронте! Куда смотрит военком…
И тут случилось для меня поразительное: Детков съежил плечи и медленно пошел к двери. За ним следом посеменила Тулуп.
Они ушли, а мы еще долго сидели и молчали. Потом бабушка заругалась на мать:
– Чё жо так, Анна? Надо бы с ними повежливее. Еще тебя завинят. Умней власти не будешь.
– Не бойся – не завинят. Я догадываюсь, кто их сюда послал. Наверняка Клим Александрович… У него была тут одна игра. Да не вышло. Вот и злится и сводит счеты… А ты, сынок, не обращай на это внимания. Вот кончится война, и снова будем людьми.
– А когда она кончится?
– Скоро, Витя. Теперь уж недолго ждать…
Но мама ошиблась. Впереди еще была длинная тяжелая осень и такая же длинная зима. А потом пришел апрель, и грянул победный май… Но об этом, Федор, в другом письме. А пока делюсь радостью: я вижу, прямо в окно вижу, как на небе мигают звезды. Значит, конец нашим нудным дождям. Значит, завтра пойду на море… А вот и маяк обозначился – как хорошо! Опять слышу на щеках его свет, и это как праздник, как надежда на новые светлые дни. А они будут, обязательно будут, потому что скоро придет наша встреча, а это для меня – дороже всего.
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ – О НАШЕЙ ПОБЕДЕ
Дорогой Федор! Как и предполагал – я сегодня с утра на море. День стоит теплый, безоблачный, и даже не верится, что были дожди. И только на асфальте кое-где блестят лужицы. Но они высыхают и тают прямо у меня на глазах. А на пляже уже много купающихся. И неудивительно – везде солнце, и ветерок дует горячий и обволакивающий. Мне даже подумалось, что пришло какое-то чудо – вернулось лето. Слава богу – вернулось!.. И еще я подумал, что на свете буквально все возвращается: и наши прошлые дела и волнения, и наши надежды. И даже тот далекий победный май – он тоже… тоже к нам возвращается. Но только в памяти, только в воспоминаниях. Только в памяти!..
Кстати, Федор, кто-то из великих сказал, что память детства похожа на ветер и еще на море. Она сильна и упряма, как ветер, она глубока, как море… Но все-таки как красиво у меня написалось – ветер, море, а ведь я хочу рассказать не только о радости, но и о боли, об испытаниях…
И все же как мы его ждали – этот День Победы! И в школе, и в деревне, и в детском доме, который вырос по соседству с нашей школой… Но что-то, наверное, сын, забылось, не удержалось в памяти: я, например, не знаю, какая была в то утро погода – то ли солнце, то ли тучи ходили по небу. И что мне снилось в ту ночь – накануне, – я тоже не помню, не знаю. И когда я проснулся – тоже все было по-старому: бабушка стояла возле печки и варила нашу нехитрую похлебку. Мать сидела за столом и проверяла свои тетрадки. И вдруг в дверь постучали, и стук нетерпеливый и суматошный, как будто дом у нас загорелся и надо спасать. А через секунду на пороге стояла уже Иванова Варвара Степановна – наш директор школы. Помню, глаза у нее блестели и волосы разметались:
– Товарищи мои! Война же закончилась. Сейчас позвонили мне из райкома…
Бабушка моя схватилась за стул, но стул ей не помог – она повалилась на стену. А мама издала какой-то звук – не то стон, не то всхлип – и закрыла лицо руками. Потом медленно-медленно стала его открывать, но руки не подчинялись. И вот сейчас я стараюсь вызвать в памяти это лицо, но все старанья напрасны. Оно как-то сжалось, это лицо, и стало уплывать, уплывать от меня, уменьшаться… Так свивается, погибает берестка на сильном огне. Один миг, другой – и вот уж одна зола только, один прах, воспоминанье…
– Анна, я жду тебя в школе. – Это голос Варвары Степановны. И сразу скрипнула дверь, и наступила долгая звенящая тишина, от которой у меня пропало дыханье. Еще б миг – и лопнуло бы мое слабенькое сердчишко, но тишину эту смяли крики. Это закричали мать с бабушкой, обе сразу, как будто сошли с ума. Они схватили друг друга в беремя и зарыдали. Эти рыданья-то и выходили, как крики… Даже сейчас мне тяжело. Так тяжело, что не могу писать, да и слова, чувствую, получаются жиденькие, не те. Впрочем, сын, в этом я даже не одинок. Как часто, читая в некоторых книгах о Дне Победы, то и дело натыкаешься на такие фразы – люди бросались друг другу в объятья, целовали первых встречных и незнакомых, громко пели, плясали, а машины подолгу сигналили беспрерывными шальными гудками, и вверху, далеко в небе, кружились над крышами такие же счастливые птицы. Наверное, так и было в больших городах и селеньях. Но это все-таки не вся правда. Потому что этот великий день напомнил и об утратах, и о горе, и о тех, кто никогда уже, никогда не вернется…
А потом в нашу дверь опять постучали. И это было как избавление, как выручка из беды. Мать с бабушкой сразу пришли в себя, да и зачем посторонним показывать слезы. А в избу уже к нам входили старички Волковы – Павел Васильевич с Татьяной Самойловной. После них забежала Елена Васильевна Мерзлеченцева, собрались все наши соседи – и скоро уж табуреток у нас не хватило… И все гости смотрели на мать: давай, мол, Тимофеевна, расскажи, что случилось. Чудаки! Они думали, раз мать учительница, то она просто обязана знать какие-то подробности… А их, подробностей-то, и не было: война закончилась – вот и все! А потом мама пошла в школу, а я – на улицу. И вот теперь-то я начал жить в каком-то чудесном сне. Началось с того, что я заблудился. Я смотрел по сторонам – и ничего не узнавал: та же улица, но вроде не та. Я никогда не видел столько людей. Неужели это все наши утятские! А толпа прибывала и прибывала. И все шли быстрым шагом в сторону клуба. Здесь, на большой поляне, и собирался стихийный митинг. У ограды клуба табунились мальчишки, я тоже примкнул к ним и стал озираться. И опять я не узнавал своих, деревенских: вроде бы давно знакомые люди, а лица стали другие – на них и радость, и торжество, и сиянье… Они не шли, а как будто летели. Так и было, наверное, душа у них приподнималась на крыльях. И все мы, мальчишки, присмирели и точно б сжались в комочек: что же будет дальше, что же?.. А люди все шли и шли… Вот к самой ограде клуба приближается целая колонна наших утятских женщин. Впереди всех – Христина Августовна Петинова. Она несет в руках фотографию сына. Голова у Христины немного приподнята, а глаза не мигая смотрят вперед. В них – горе и слепая решимость. Она как будто что-то задумала, ведь фотография – это все, что осталось от сына. Да еще дома лежит похоронка, после которой Христина чуть с ума не сошла. Рядом с ней идет Нина Игнатьевна Сартакова, и ей некого ждать с войны. На ее мужа Петра, нашего председателя колхоза, тоже была похоронка. Чуть поодаль, шагах в двух от них, – Мария Ивановна Родионова. Она тоже потеряла на фронте мужа. Плечо в плечо с ней шагает Луканина Евдокия Ефимовна. Она осталась вдовой с пятью ребятишками на руках. Тут же и Менщикова Парасковья Егоровна, потерявшая на фронте двух сыновей – Ивана и Анатолия. Рядом с ней – Шевалдышева Антонина Ивановна. Она осталась с пятью сиротами. Здесь же и Чистякова Мария Александровна – тоже вдова… Да разве всех их сейчас перечислишь. Женщины шли и рыдали… Вот уже сорок лет минуло с того дня, а плач этот все еще живет во мне. И я знаю – он будет со мной до последнего моего часа.
…Вдовы шли босые, с непокрытыми головами. Одежонка на всех ветхая, изношенная, а ведь по возрасту почти все они были молодые, тридцатилетние. Но выглядели как старушки. И шли они как-то боком, с усилием, как будто шли против ветра. Есть у знаменитого художника Питера Брейгеля картина «Слепые»: там идут люди и смотрят вверх, а сами натыкаются друг на друга. И в пустых глазницах – мольба и страдание. Так и было у наших – что-то похожее. В глазах у всех – слезы, потому и не видно глаз. И шли они, сильно наклоняясь вперед, как будто на ногах были гири. У многих в руках – самодельные флажки или красненькие косынки. А некоторые просто держали кусочки красной материи… И руки у всех как но команде то поднимались, то опускались. Они точно бы кого-то встречали или с кем-то прощались. Так и было, наверное: они встречали Победу, они прощались со своими мужьями и братьями. А потом открылся наш митинг.
Первой говорила директор школы Варвара Степановна. Говорила она всегда умно и зажигательно, а тут превзошла себя. Слова ее падали в душу, как горячие угли на живое тело – и женщины опять зарыдали. Эти рыдания переходили в крики и всхлипывания. Я ничего не преувеличиваю, может быть, даже преуменьшаю. Слышал ли ты уже, Федор, видел ли ты, как мать кричит над свежею могилкою сына? Мне, например, не представить тяжелее картины… И вот уже все с кладбища ушли – и друзья, и близкие родственники, и вот уж день клонится к вечеру, а мать все не оторвать от могилы, не оторвать. Она выждала свою, самую главную минуту, – и стала разговаривать с сыном, точно с живым. Но тот молчал – и теперь слова все стали ненужными, и мать от бессилия закричала, точно крики могли пробить этот толстый сырой песочек и вернуть самого единственного, ненаглядного…
Но вот уж Варвару Степановну сменила Христина Петинова. Она подняла вверх обе руки, сжала кулаки и произнесла проклятие Гитлеру… А после Христины говорили уже все по цепочке.
И в школе в тот день была тоже торжественная линейка. И все мы, школьники, пионеры и комсомольцы, дали клятву верности своим отцам и братьям, погибшим на фронте. От этой линейки осталось ощущение радости и тревоги. Было такое чувство, что война еще не закончилась, что скоро-скоро и мы, мальчишки, тоже поедем на фронт. Но вот уже – все на улице… Мы строимся в одну большую колонну и выходим на большую улицу. В руках у нас флаги и портреты Сталина, многие из нас взяли в правую руку пионерские галстуки и поднимали и опускали их, в галстуках трепетал ветерок, и они вздрагивали, как живые. А колонна наша все росла и росла. Из каждой ограды выходили к нам люди и вставали в строй.
И это был очень счастливый и горький путь. В колонне смеялись и плакали, пели песни и играли на гармошке… И вот сейчас, Федор, я вспомнил даже погоду. Когда мы шли, то ярко-ярко светило солнце и дул теплый весенний ветер. А мы поднимали вверх флаги и красные галстуки и кричали: «Ура!», «Победа!» – и еще что-то кричали – наверное, каждый свое. Ветер натягивал флаги… Эх, ветер, ветер. И теперь, вспоминая тот день, те часы, те минуты, я все время вижу эти рвущиеся к небу красные галстуки в наших ладонях. На кого же они походили? То ли на птиц… То ли на наши надежды…
Надежды! Какое хорошее, бесконечное слово! Когда они есть – и человек счастлив, и жизнь продолжается… А если нет их – значит, и жизни нет, и самого нет человека… А если и устоит он на земле, то все равно начнет шататься и гнуться, как слабенькая травинка, у которой все корни давно подрезаны. И сколько ни жалей ее, а не спасти…
Так и случилось с нашей семьей. Этот день 9 Мая подвел для нас многие итоги, решил многие уравнения. И нам стало ясно, что отец теперь уже не вернется, не вернется и мой дядя Женя – родной брат матери, не вернется и много другой моей дальней и близкой родни. Я уже написал в первых письмах о том, что в центре нашей деревни стоит скромный бетонный памятник и на нем выбито свыше ста фамилий. И среди них – много Потаниных…
И вот закончился тот день, и пришла ночь. Сколько же их было всего за войну. Но это особенная, конечно, ночь, – война-то закончилась. Закончилась, закончилась… А нам некого ждать. Некого, совсем некого… За окном – тяжелая тишина. Хоть бы собаки залаяли. Но о чем же я прошу? В деревне давно нет ни одной собаки, даже забыли про них. До собак ли нам было – самим-то есть нечего, самих-то качает от слабости. Но как часто в фильмах и особенно на полотнах некоторых художников, посвященных тем незабываемым майским дням 45-го, – видишь совсем иную деревню, не деревню, а просто идиллию: на улицах много цветов, много ярких платьев, на лавочках сидят веселенькие старички и старушки, а возле них прыгает и летает разная живность: и собаки, и кошки, и гуси, и куры… А на заборе непременно голосит петух, и какой-нибудь мальчишка едет на велосипеде… Все это, конечно же, ложь, полуправда, от которой только обида и боль.
…Да, я хорошо помню всю эту ночь. И помню, как мать ворочалась, как вставала и пила воду. Наверное, болело сердце… Хорошо помню и все свои думы. Господи, какие же у мальчишки думы! Но они были, были. Точнее – не думы, а скорее мечты… Я лежал тогда и мечтал с упоением, самозабвенно – поехать куда-нибудь в большой город и там остаться жить навсегда. Как мне хотелось поехать! Я ведь нигде еще не был, потому я и мечтал о Кургане или даже Свердловске. Я хотел жить в этих городах и хотел стать музыкантом. И мне хотелось, чтоб меня кто-нибудь научил там играть на гармошке или даже на скрипке. Правда, скрипку я видел только в кино. Но звуки понравились, поразили меня. Вот и тогда – только закрывал глаза, и они звучали во мне и напрягали нервы, вытягивали… Хорошо бы побыстрее уехать, говорила, шептала кому-то душа…
Прошла ночь, и я действительно поехал. Но только не в город, а в ближайший лесок за жердями… А началось с того, что утром в наше окошечко постучал сосед Павел Васильевич Волков. А потом и сам зашел:
– Хозяева-то есть? А то стучу – к окну никто не подходит…
– Есть. Живые еще мы, проходи, – откликнулась бабушка.
– Вижу, что живые. – Глаза у старика лукаво посмеиваются. – А мне самых молодых надо хозяев.
– И молодые дома, – говорит тихо бабушка и помаленьку подталкивает меня поближе к соседу. Тот гладит меня по голове. И вдруг откидывает быстро ладонь, точно на голове у меня какие-то угли.
– Вот что, парень, хватит тебе реветь-то. Сейчас сам будь за мужика. Давай собирайся, поедем со мной за жердями. Вам надо жердей-то? – Сосед смотрит строго, в глазах настыла тусклая пленочка.
– Надо. Как же не надо, – так же сердито отвечает бабушка и стучит на плите кастрюлькой.
И мы поехали. Это было первое утро после Победы…
Телега была старенькая. На каждой кочке что-то поскрипывало в ней и постанывало. Лошадь тоже была в годах – бока запали, вместо хвоста торчал окомелок.
– Но-но, пошевеливай! – торопил ее Павел Васильевич, но она не обращала на него никакого внимания. А вокруг нас просыпалась, освобождаясь от ночи, земля. В полях уже было совсем светло, только над сосновым борочком, который садил Федот Сартаков, поднимался слабый туман, и над ближним озером Окулинкино летали белые чайки. Они были совсем белые, снежные, точно умытые.
– Смотри, парень, лед-то нынче на озере потонул, весь истлел. За два дня как не бывало. К чему бы это? А? Не знаешь? А я знаю. Жди снова тяжелый год. У вас картошка-то еще есть?
– На семена есть.
– Ну и хорошо. Ты на демонстрацию-то вчера ходил?
– Ходил.
– Вот и хорошо. Такую войну свалили – не приведи больше бог. А вы с отцом-то, поди, попрощались, не ждете?
– Не ждем.
– А как же так? Раньте времени смертну рубаху?.. Это нехорошо. И после похоронной, бывает, что приходят. Где-нибудь по госпиталям прокантуются, а потом машину для них подгонят – и по домам.
– Какую машину?
– Да не на лошади же отец твой приедет. Неуж не дадут для такого солдата машину! А? Молчишь, парень? Не ждали, не ведали, а прикатил…
– Хорошо бы! – соглашаюсь я, а сам все смотрю и смотрю по сторонам. Вот уж и показались первые колочки. Над ними кружат грачи и кричат.
– Птицы-то, птицы! – смеется Павел Васильевич. – Тоже, поди, радуются, что войне конец. Они, эти грачики-то, все слышат про нас, понимают. А ты, поди, парень, не знал?
– Не знал.
– Большой будешь – узнаешь…
А мы почти у цели. Возле дороги раскинулся густой высокий осинничек. Тут и растут наши жерди. Мы остановились и распрягли лошадь.
– Пускай погуляет Гнедко, немного отмякнет. Далеко-то все равно не уйдет. Где уж – старый стал, боязливый… А я тебе, парень, топорик сделал. Как нарубим жердочек, так и заберешь домой. Считай, что подарок это. На День Победы тебе. Уяснил?
– Насовсем, что ли?
– А как? Подарок ведь… Насовсем.
Я залюбовался топориком. Маленькое острое лезвие, аккуратненький обушок. Даже не верится. Старик перехватил мой взгляд.
– Значит, глянется. Вот и ладно. Сейчас нарубим да наготовим – у меня у лесника-то выписано. Ты не бойся, мы не воруем, свое берем. У меня за эти жердочки-то и лыко сдано, да и так по мелочи леснику помогал…
– А я и не боюсь, – отвечаю ему тихим счастливым голосом. Топорик пришелся мне как раз по руке!
– Вот и хорошо. А сейчас давай поработаем. Разомнем свои косточки.
И мы поработали – нарубили жердей. А через час уже ехали обратно. Павел Васильевич посадил меня прямо на воз, а сам шел рядом, только вожжи держал в руках. Мне было стыдно – я еду, а он идет. Я запросился вниз, но он замахал руками: «Нет, нет, сиди там, как на именинах. Такую войну вынес – ты заслужил…» Он снял с себя пиджак и подстелил под меня. И опять загудел рядом его медленный густой голосок:
– Сейчас обгородим ваш огород да картошки насадим. И у нас нарастет ее сто пудов. А? Не согласен? – И он смеется, а мне легко. И душа моя уже летает выше самых высоких осинок, не летает даже – парит. И праздник мой все не кончается, не кончается. Да и солнце бьет прямо в глаза. Скоро можно и на рыбалку. А там уж – каникулы. Быстрей бы наступили те дни.
– Скоро, парень, солдаты поедут с фронтов. Кому нужны сейчас эти фронты – фашиста-то в яму загнали да крепко засыпали. Вот и поедут наши ребятки – встречайте! Глядишь, и твой папаня прикатит. А мы их встретим, поклонимся в ноги. Как было бы хорошо!
…Но не прикатил мой отец, никто из моей родни не приехал. Но все равно я благодарю судьбу свою за ту поездку в весенний лес. Ведь и жерди-то были только предлог. А поехал сосед только ради меня… Ради меня одного! Пусть, мол, будет праздник и для этого мальчишки – для сироты… До сих пор звучит в моей памяти этот щемящий до боли – густой голосок: «Как было бы хорошо… Хорошо…» И я с ним согласен – как было бы хорошо, чтобы в нашей жизни были одни только праздники, они только встречи, свидания. Одни только весны, счастливые длинные весны. Как было бы хорошо!
Но время – вода. И попробуй, сын, останови, задержи его… Ничего не выйдет и не получится – только будешь смешной. Но зачем шутить над собой и смеяться – над своей кровью нельзя шутить… А время, конечно, не остановишь. И вот уж давно нет на свете нашего соседа Павла Васильевича, и Ивана Захаровича Шниткина тоже нет. И моей учительницы Чистяковой Павлы Михайловны уже нет на земле, и того одинокого однолюба дяди Вани тоже давным-давно нет. Нет и моей бабушки Катерины Егоровны…
Да, Федор, давно уже ушла от нас моя бабушка. Сколько всяких историй, рассказов услышал я от нее – и все сохранила моя душа… Да, так и есть, сохранила, запомнила, а я передам тебе. И пусть так и пойдет: от бабушки к внуку, а потом снова и снова – пока жива наша память – наша родная кровь.
А время неумолимо. И вот уж многих тех женщин-солдаток, наших утятских вдов, тоже уже нет на земле. Но почему нет, почему? Я все равно вижу их всех как живых. И это правильно, справедливо, потому что живет, сын, продолжается наша с тобой родина – наша родная Утятка.
Да, здесь моя родина, все мои корни и продолжения. Здесь родились мои первые большие мечты и признания… Да, и признания. Я ведь намекал тебе в самом начале, что на моих страничках будет много объяснений в любви и признаний. И моя главная любовь – моя родная Утятка. Она и снится все время, сторожит меня и преследует… Вот и сейчас, только-только прервался, отдохнул от письма – а она опять рядом, моя Утятка. Да, Федор, поверь мне. Только закрыл глаза – и сразу вышел на нашу Береговую улицу. А здесь уже – вечер и сумрачно, а в небе, над самым бором, зажглась первая голубоватая звездочка, и свет от нее томящий и как будто живой… Вот уж и в домах огни появились, и далеко, у самой поскотины, лает собака, но лай какой-то ленивый, подавленный. И такая же лень, благодать в самом воздухе, и дыши им, и режь на кусочки – и я дышу этой тишиной, благодатью. Потом сворачиваю на нашу главную улицу. А в голове опять далекие картины, воспоминания, и очень хочется встретить теперь чье-то родное лицо. Встретить бы – и поговорить бы, довериться… И что загадал, то и сбылось. Навстречу мне идет моя давняя знакомая Нина Алексеевна Родионова. Она сразу узнает меня, улыбается, – и я тоже рад этой встрече и крепко жму ее упругую сухую ладонь.
– Что-то редко в наших краях?
– Все некогда. Да и болел нынче… – начинаю зачем-то оправдываться, но она опять улыбается, смотрит прямо в глаза.
– Нехорошо земляков забывать. А то однажды приедете и не узнаете своей улицы. Мы нынче много строим, а плохое ломаем. Вот и школу колхоз построил новую, двухэтажную. И детский сад заимели новый, скоро за дороги возьмемся… – Сообщает мне громко, торжественно, и глаза ее сверкают от какой-то тайной внутренней радости, и я вижу, как ей все любо здесь, дорого, как хочется ей новых перемен, новоселий, как хочется поднять у всех настроение. И у меня ей тоже хочется поднять настроение, и она сообщает мне все деревенские новости – у кого были свадьбы, крестины, кого наградили, возвысили, кого поместили на Доску почета. И о новом председателе колхоза «Россия» Викторе Федоровиче Архипове тоже рассказывает… А я перебиваю ее, улыбаюсь – да какой же, мол, он новый. К нему уже здесь все привыкли, поверили… Да и сам я хорошо знаком с нашим председателем. Уже пришлось мне с ним поработать и на нашем сельском субботнике, и у костра посидеть, и ухи рыбацкой попробовать возле нашего озера Окулинкино, и о жизни поговорить, и о колхозных заботах. Но я все равно слушаю ее, не перебиваю. А потом она говорит мне об уборке, и опять в голосе большое волнение:
– Уборка снова была тяжелая. Да и бывает ли она у нас легкая? Но все равно выстояли, не поддались непогоде. Попадались участки – по двадцать пять центнеров брали с гектара! И больше было, это надо понять!.. И опять часто наши утятские водители выручали – и Николай Петров, и Виктор Брылев! Всем пример подавали. Каждый год впереди – это ведь тоже надо… И Коля Ловыгин не подкачал. И Николай Комарских хорошо постарался. Не парни, а золото! Да вы же о них в газету писали, рассказывали… – Она смотрит мне опять в глаза и все время называет почему-то по имени-отчеству, а мне от этого стыдно, неловко, не по себе. И вдруг хочется остановить ее взглядом, каким-то хорошим словом: «Давай, Нина, поговорим просто так, повспоминаем…» Потому что знаю, давно знаю я эту хлопотливую женщину, еще с раннего детства. И в школе мы вместе учились, и вместе в колхозе работали в тех послевоенных школьных бригадах, и много горького тогда пережили, много тяжелого, но многого тогда и достигли. А самое главное, наверное, – закалили характер для всей своей будущей трудной жизни. И про Николая Петрова и про Виктора Брылева я тоже знаю. На моих глазах приехал Николай из Свердловска с молодой женой и маленьким сыном Юрой. Врачи посоветовали ему сменить климат, потому что мучило кровяное давление. Теперь Николай забыл про все свои болезни и вырастил сына. Знаю я и Николая Комарских, горжусь им. Вместе со своим отцом Анатолием Васильевичем Николай относится к разряду незаменимых. Каких только профессий нет у отца с сыном! Они и трактористы, и шофера, и печники, и механики, и плотники… И еще я мог бы перечислить целый десяток профессий, да боюсь, что ты, сын, мне не поверишь…








