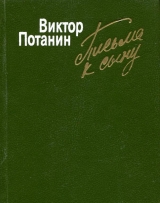
Текст книги "Письма к сыну"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ – ОПЯТЬ О ВЕСНЕ…
Дорогой Федор! Я сегодня не был на море. Продолжаю болеть и глотать пилюли. Завтра поведут на прием к знаменитости. Есть тут такая. Ездит по побережью, а завтра, говорят, будет у нас… Так что на море смотрю из окна. Вот сейчас вижу, как далеко-далеко тащится пароходик. Он такой маленький, как катерок. Да, катерок… Однажды точно такой же катерок прибыл по весне в нашу Утятку. Для ребятишек начался праздник: Тобол разлился в ширину на два километра, и по этой глади ходил пароход. А у меня в те дни была свадьба. Ну конечно, свадьба, может быть, громко: просто я с твоей мамой пришел в Утятский сельский Совет, и здесь нас расписали. А потом секретарь Зоя Мухина пожала нам руки и сказала: «Желаю вам сына…»
Точно с таким же пожеланием я обратился недавно к Людмиле Архиповой. Но у них родился не сын, а дочь Таня. Теперь у них четверо: Наташа, Андрей, Оля и Таня. Но в канун этого рождения мать Тани пережила самые незабываемые и счастливые дни. В те дни Людмила Николаевна побывала в столице.
– Значит, в Кремле позаседали?.. – спросил я ее при первой же встрече.
– Не говорите! Не забуду этого никогда. Всю жизнь мечтала, вот и сбылось. Объявили перерыв, зовут чаю попить, а мне времени жаль на чай. Хожу по Кремлю, а в голове только одно: «Да за что же мне эта честь!»
– За работу вашу, Людмила Николаевна, – говорю ей.
Куда там! Уверяет, что на Всесоюзное экономическое совещание могли бы поехать более лучшие, а она, мол, это не то…
Да, самые достойные – всегда самые скромные. Но вот в одном мы с ней решительно сходимся: сегодня экономическая служба в колхозе – самая главная! Экономист в хозяйстве сегодня – первый руководитель! Он в чем-то даже главнее председателя или директора.
Сходимся мы с ней и в другом: главный экономист – это не только бумаги и цифры. Это прежде всего личность, достойный образец – и в большом, и в малом.
– Конечно, с этим все соглашаются. Но нужно не только согласие, нужен, если хотите, сильный поступок. Она на секунду задумывается, уходит в себя и снова говорит тихо, медленно, как будто бы что-то решая, обдумывая:
– Конечно, такие поступки берут много сил, но потом все окупается: начинаешь уважать себя и верить, что сможешь и больше.
И снова задумывается. И теперь я знаю о чем. Я чувствую, я просто слышу, как она вспоминает жатву 1982-го. Жатву хлопотливую и тревожную… Впрочем, тревоги все шли от себя, от своих беспокойных дум: как сдержать слово, как получше направить дело в их бригаде комбайнеров? А бригада эта была особенная: женская, молодежная. А возглавила ее она сама, главный экономист колхоза.
– Как вы решились на это, Людмила Николаевна?
– Хотелось проверить себя. Хотелось… как вам сказать…
– …поступка?
– Не только. Откровенно, я всегда завидовала комбайнерам: они ближе всех к хлебу, к земле. Многие, конечно, в нас не верили, – улыбается Людмила Николаевна. И я знаю, что ей радостно вспоминать о тех днях, когда их бригада стала победительницей областного соревнования на жатве. А потом им устроили торжественный прием в областном комитете партии, а потом в колхоз «Россия» зачастили журналисты и механизаторы из соседних колхозов… Пришла поздравительная телеграмма от космонавта Светланы Савицкой. Все это было, было. Потому, наверное, и светло в ее глазах и спокойно.
– Трудно сейчас экономисту в колхозе?
– Трудно, конечно, и хлопотно. Все шире внедряются коллективный подряд, хозрасчет.
– А что дал подряд колхозу?
– Дал крылья! – Она смущенно краснеет, потому что не любит громких слов и, метафор. Потом лицо делается строгим, серьезным. – Вы мне не верите? Но надо поверить. У нас теперь три бригады и пять звеньев, работающих на конечный результат. И люди тоже в себя поверили. Конечно, на многие вопросы ответит и эта весна. Пойдемте выйдем, послушаем?
– Кого?
– Да весну! – Она смеется, идет к двери. И вот мы снова на том высоком крыльце. Отсюда далеко видно. А почти рядом с домом стоят березы, а чуть подальше – сосняк, и на деревьях темно от птиц. У грачей уж давно гнезда, и потому крики у них какие-то спокойные, умиротворенные. Но рядом с этими криками поднимается новый звук – очень плотный, протяжный. И я вслушиваюсь, смотрю в небо, по сторонам.
– Неужели гром?
– Гром… – Она смеется, а потом начинает не спеша, нараспев: – «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром…» – И неожиданно добавляет: – Да это же наши машины!
Весна набирает силу. А потом пройдет и она, минут лето и осень, а потом снова – стынь за окнами и метели…
Да, Федор, как это грустно: наши весны проходят, и самые дорогие люди всегда уезжают. Вчера получил из дома письмо, а там печальное сообщение – Архиповы переехали в Куртамыш. Виктора Федоровича сделали директором сельскохозяйственного техникума, и для них началась городская жизнь. Как они там – не знаю, не представляю, а в нашем колхозе новый председатель – Виктор Анисимович Худяков…
Да, идет время, летит, как ветер. И хорошо бы, чтоб он всегда был теплый, весенний. И хорошо бы, чтоб над нашей Утяткой всегда стояла весна, а вместе с ней и надежда…
– Но ведь все зависит от наших усилий. А сила любого из нас – в труде, – вдруг прерывает мои мысли голос Ивановой Варвары Степановны. Он звучит издалека, он нашел меня через время… Но о чем же он? Ну конечно – об этом, об этом… Моя учительница смотрит мне прямо в лицо и щурит глаза:
– Жизнь – это книга с чистыми листами. И человек должен записать эти листочки добром. И если запишет – будет счастливым. Ты не согласен?
– Согласен, трижды согласен!..
Но чей же это голос? Напрягаю память. А голос снова и снова:
– Ну почему ты забыл меня? Почему же?..
И вдруг я увидел мальчишку. Он рыжий, серьезный, задумчивый. Он смотрит на меня откуда-то сбоку, с той высокой горы, с самого неба… Но как же? Там ведь маяк… Но я не ошибся. Да что уж! Я же отчетливо вижу его глаза, его длинную костлявенькую фигурку. И глаза – большие и вроде с обидой. Но кто его обидел – не знаю. И не понимаю, почему он вглядывается в меня, изучает, точно знает какую-то тайну. А что за тайна? И только хочу об этом спросить, допытаться, так сразу он убегает. «Ну куда же ты? Подожди!» – кричу вдогонку ему, умоляю, а он бежит все быстрее, быстрее. И вот уж вместо него только свет, пустота, потом снова – сияние. И я спешу на этот свет и почти догоняю. И в тот же миг мы попадаем с ним на какую-то улицу: кругом низенькие дома, огороды. Я смотрю по сторонам и не верю. Ведь это же мои дома, моя улица, моя родная Утятка. А мальчишка все бежит от меня, не оглядывается, – и я за ним, как привязанный. И вот уж кончилась улица, и вот уж мы за деревней, а спереди – река, а над ней – светлый, слепящий луч… А рядом, на берегу, стоит Павел Васильевич, а вокруг него – Боренька Смирнов, и Вовка Адалечкин, и еще кто-то – такие же родные, знакомые. Ну конечно, конечно, я их сразу узнал – это же Володька Верхотурцев и Герка Герасимов… И все они рядом – живые и мертвые. И только хочу вглядеться в них, что-то понять – как уж меркнет луч, исчезает, теряется, и вместо него – снова ночь, пустота… И вдруг – свет маяка и твое лицо. Но где же те, где же? И почему мне так холодно, сын?.. И почему трудно дышать?.. Хоть бы пришел Николай! Я медленно открываю дверь, на что-то надеюсь, но в коридоре пусто – все уже спят. И тогда я сажусь к столу и хочу успокоиться. Но мне мешают часы на руке. Я их снимаю, и тяжесть уходит. Потом смотрю долгим взглядом – туда, на высокую гору. Маяк мой – живой, он посылает сигналы… И вот опять, опять я чувствую, что за спиной у меня тот мальчишка. И сразу его голос и свет в глаза:
– Не забывай меня, не забывай!
И я повторяю за ним – «не забывай…».
РАССКАЗЫ
ВОСПОМИНАНИЯ О СОКОЛЕ
У каждого из нас что-то не сбылось в жизни, не вышло, но только эта история совсем не об этом. Но о чем она – я и сам не отвечу. Может, она о любви – самой первой, самой нежной, печальной. А может, моя история – обычный случай, каких тысячи в каждой жизни. А может… Но в этот миг меня отвлекли.
– Я ухожу в аптеку. А ты вскипяти чай, подогрей бульон. Когда вернусь – будем ужинать и будем выздоравливать… – это голос моей жены. И вот скрипнула дверь – она ушла за лекарством. А болею я сам – третий день подряд. И болезнь какая-то странная: с утра держусь еще на ногах, а под вечер – температура, озноб и какие-то тяжелые, монотонные мысли. Эта монотонность, наверное, от дождя. Он идет уже всю неделю, и я думаю, что он будет идти еще месяц, а потом продлится еще на год… А потом – еще на несколько лет, и на земле начнется всемирный потоп, от которого погибнут люди, машины. Но это меня совсем не печалит. Даже хорошо, что наконец-то погибнут машины. Я их давно ненавижу. Мне кажется, они знают об этом, потому все время мучают меня и поддразнивают. Вот и сейчас они гудят веселыми нахальными голосами. Я подхожу к окну и хлопаю форточкой – теперь я от них избавлюсь. Но все напрасно – они гудят уже через стены. И тогда я решил лечь на диван и закрыть глаза – покориться. Будь, мол, что будет. И в этот миг ко мне явилось чудо – спасение. Я не успел даже дойти до дивана, как услышал пронзительный лай собаки. Это и было спасением. Собака лаяла торопливо, захлебываясь, она сразу же заглушила гул машин и троллейбусов, она даже шум дождя заглушила. Я подошел к окну и раздвинул штору. Из-за плотного дождя ничего не увидел, но знал, что это лаяла наша Соседка. Я давно уже выделял ее из всех знакомых собак, хотя внешне она – настоящая замухрышка. Но что внешность – лишь бы душа была, а у этой собачонки она, конечно, была.
Я впервые увидел ее года два назад. Она бежала по тротуару, маленькая, желтобрюхая, на тонких упрямых ножках. И мордочка у нее была такая же тоненькая, хитренькая, но хитрости, если признаться, у нее ни на грош. Наоборот даже – собачонка была прямолинейна, как карандаш. Каждое утро, еще до солнышка, она выбегала за ворота и начинала лаять заливисто, без разбора, как будто выполняя чей-то приказ. Она лаяла на машины и на прохожих, она лаяла на обрывки старой бумаги, которые шелестели, катились весело по асфальту, она лаяла просто на дождь и на ветер, а ночью она лаяла на луну. Но это случалось редко, потому что ночью ее хозяева закрывали.
Я уже давно придумал ей простую и легкую кличку – Соседка! Наверно, у ней было и настоящее имя, но я про него не знал. Да и что в этом имени – раз она такая шумная, глупая. Но согласитесь, ведь и у глупости тоже бывает душа. Вот почему я любил эту собаку, а еще больше того, жалел.
Вот и сейчас я опять пожалел ее – она, наверно, уже вся вымокла, но все равно стоит у ворот и храбро лает на дождь. Я стал грозить в ее сторону кулаком – дурная, мол, ты, безмозглая, разве можно лаять на дождь. А она лаяла все громче, настойчивей, как будто злила меня, испытывала. Но я не сердился. Наоборот, я стоял возле окна и представлял ее там, мокрую и взъерошенную, с кривыми тонкими ножками, как у паучка, и мне делалось все сильней и сильней ее жаль, а как помочь – не поможешь.
Но зато машин стало поменьше. Они, конечно, боялись Соседки – облает ведь, не пропустит, – потому и объезжали наши дома стороной. А вот дождь ее не боялся. И какой дождь! Я стоял у окна и смотрел, как льются с неба бесконечные густые потоки. Голова моя слегка кружилась, туманилась – может, снова температура. Вот Соседка, наверное, никогда не болеет. Я позавидовал ей и улыбнулся. Потом глаза прищурил, прислушался – и вдруг с собакой моей что-то случилось. Она почему-то раздвоилась, распалась напополам, и стало их две, целых две собаки. И лаяли теперь две, тоже две собаки, но только тот, другой, лай был послабее, потише. Это и не лай даже, а как будто поскуливанье, но я сразу узнал, да и как не узнать. Я бы от тысячи голосов отделил его, ведь так мог лаять только Сокол – мой далекий Соколко. Бедная Соседка, да что ты наделала?! Я тебя слушал, жалел тебя, а ты мне Сокола привела. И вот он бежит, большеухий и рыжий, а за ним – моя память, короткими шажками, короткими… И быстрее нельзя ей, потому что это больно, невыносимо. Так больно, что я закрываю глаза. Но все равно уже не могу удержаться. У меня еще сильнее кружится голова и очень ломит, теснит в груди. Как будто кто-то мучит ее и всю распирает. Вот так же, знаю, на речке теплым апрельским днем: лед на ней уже станет слабым, непрочным, а под ним начнет греться, густеть вода. А потом проходит еще день-другой, и ломается, погибает лед, и освобожденная вода заливает сразу все луга и ближние пашни. А потом мчится дальше, все дальше… Так и со мной, вначале стал думать о Соколе, а потом уж – дальше, дальше, все больше. И вот уж зашумела в голове эта вешница и понеслась, прорвала все запруды – и мысли мои тоже понеслись, понеслись… И вот уж принесли они меня в одно далекое-далекое лето, в мою родную деревню, на материнский порог…
А было мне тогда двадцать лет. Только-только исполнилось, а я уж стыдился своего возраста – такой, мол, ослопан, а что толку. Ведь ничего еще в жизни не сделано, и ничего-то со мной еще не было – ни большой любви, ни надежд. Правда, надежды, конечно, были – я даже в театре играть собирался, но это, наверно, от зависти. В ту пору я завидовал многим актерам, особенно очень красивым, талантливым. А сам я учился в педагогическом, переходил уже на четвертый курс. И вот тогда-то и решил его бросить и уйти в театральный. Посмотрел фильм с участием замечательной Жанны Болотовой и сразу сказал себе – я тоже буду актером! Но дело, ясно, не только в этом. Дело в том, в том… что даже стыдно признаться: я полюбил тогда Жанну Болотову и решил, что она станет моей женой. Я даже собрался в Москву за ней, но друзья – спасибо – отговорили. Куда, мол, ты собрался, деревня несчастная. Она же артистка, она же красавица, ее же вся страна знает, а может, подальше. Но я стоял на своем, а они убеждали снова, посмеивались: ну какая, мол, из нее жена, ты подумай. Да при первом же случае изменит тебе твоя Жанна, убежит, мол, с таким же красивеньким. И не будет у тебя ни семьи, ни детей. Насчет детей получилось у них убедительно, потому что мне хотелось тогда не столько жениться, сколько иметь своего сынка – какого-нибудь толстенького и рыженького мальчишку. А рыжего потому, что у меня у самого волосы горели как медь.
Прошло месяца два, и я стал забывать свою Жанну. А в театральный уходить мне мать запретила. Разревелась однажды, заумирала – ты один у меня, на тебя вся надежда. Такую, мол, войну пережили, отца с тобой потеряли, а ты в театральный… И я обещал тогда матери: ладно, мол, забуду про театральный. Но все равно мать после того точно бы подменили – она стала болеть, истончаться. И началось у ней: то сердце, то нервы, то ноги ноют перед дождем. Может, не только я был причиной. Все-таки она тридцать лет отбухала в школе – и война за это время случилась, и похоронка на мужа, и дочку схоронила, и голодуха тоже была – одну мороженую картошку ели с крапивой… Да что там! И железо бы тут согнулось, а не только она – моя мама… Но вот пришел праздник и для нее – мать послали лечиться в Ялту. Вначале мы не поверили – учителям в те годы редко давали путевки. Но верь не верь, а вот уж и чемодан уложен, вот уж и прощаться надо – и мать простилась, поехала. А я с бабушкой домовничать остался. Наступал август – у меня были каникулы.
Эх ты, бабушка, моя бабушка! Почему же ты мне не сказала, что живешь последнее лето?! Ах, если б знать, если б чувствовать… А может, и хорошо, что не знал. Порой знанье – хуже беды! Вот сказали бы любому из нас, когда он умрет – в такой, мол, день и в такую минуту. И тогда бы жизнь стала мученьем.
А лето в тот год было жаркое, пеклое, только ночами спадала жара. Но мы с бабушкой жили весело и почти не замечали жары. Она стала, правда, плохо слышать, но все равно еще любила пошутить, посмеяться с соседками, но уж со мной-то всегда была ласкова, ведь я ее единственный внук. И только одно меня пугало, расстраивало – она путала меня со своим сыном. А чего бы путать – он погиб в первый год войны. И даже была похоронная, но бабушка той бумажке не верила. Потому посмотрит на меня и скажет тихонько: «Женя, принеси-ка водички в ковшике, а то внутре все сгорело». Я кричу ей, машу руками, что не Женя я, а меня зовут Николай! Но бабушка только головой покачает и снова – Женя да Женя…
А под вечер жара спадала, и мы выходили за ограду, садились на лавочку. У бабушки сразу веселело лицо. Она любила поговорить, порасспрашивать, да и дом наш стоял на главной улице, так что все видно, все слышно. И вот уж солнце заходит, начинает смеркаться, – и в эту минуту появляется стадо, коровы выступают медленно, вперевалочку, а рядом с ними шагают овцы, телята, а за телятами тянутся гуси. Бабушка посмотрит на стадо и вздохнет тяжело: «Вон че какое войско. А у нас с тобой, Женя, ни гусей, ни баранов. Даже коровушки мы не нажили. А тоже называемся людями. Нет, Женя, каки же мы люди. Нет, видно, мы не люди – мы жители…» – она опять вздохнет и прищурится. А я опять кричу ей в ухо: «Да не Женя я, бабушка! Меня зовут Николай». Она глаза откроет и усмехнется: «Да какой же ты Николай! Ты же Колька еще, и не взбуривай! Давно ли ты в качалке лежал да пустушку просил, а тоже мне – Николай…» А потом она начинает вспоминать – какой я был в три года, в четыре… И так переберет лет десять-двенадцать. А потом к нам соседи придут, и бабушка теперь опять оживает – она любит людей. И соседи ее тоже любят за доброту, за приветливость. Но особенно любят ее за сочувствие – за то, что каждого успокоит, подаст надежду. А человеку это дороже всего.
Чаще других с нами вечеровала Маруся Сорокина. И разговор у ней – только о муже, о своей несчастной судьбе. Подойдет к нам и сразу:
– Ой, бабушка, бабушка, мой-то опять шары нараспашку. По ограде бегат, зауголки пинат. Еще дом уронит, а ниче не скажи.
– Ты б ушла от него, Маруся, – говорит ей бабушка подавленным голосом и начинает гладить ее по плечу. А у той уже слезы и голосок вот-вот перервется:
– Ой, бабушка! Ты для меня как родна… Ты жалешь меня, я понимаю… Но куда я уйду? Ведь дети! Да кабы не дети…
– Ну, крепись тогда, милая. Может, и найдет на него добрый ум.
– Нет, бабушка. Ждать устала, сильно устала я. Так ведь обидно! И че только на мне не было. И горшки, и ухваты… Он бы и в печь меня бросил – мой Мишенька, бросил, бросил бы… А за че?! И детей ему наносила, и с мужиками не обманула ни разу. И чистоту веду – круглы сутки мою, стираю. Он у меня всегда уж – на чистой простынке да на подушечке. А все равно – пусты мои хлопоты. Не угодила ни разу, добрых слов не сказал. Да еще как-то одумалось ему ревновать. А это уж совсем пусто дело – кого же меня ревновать. Я уж вся выроблена, как береза дуплиста…
– Нет уж, нет уж, Маруся! – возражает ей бабушка. – Ты еще сойдешь за молоденьку. Да и мужик, чую, твой переменится. Прийдет день, прийдет час.
– Ой, не придет! Нет, нет, нет! Раз у него дороже человека вино. А я еще полагаю, что это – болезнь…
– Не пойму тебя, Маруся, кака же болезнь? – Бабушка смотрит на меня, а в глазах удивление. – Да кака же болезнь?
– А такая, такая. Я давно за ним замечала. Как-то гости от нас ушли. А время ночное было – я уж задремала. Но если честно вам, то притворилась, что сплю. А мой-то Миша сидит на стуле да нервничает да на стол все косит. Потом на меня, а я уже сама не своя. И че-то чувствую, слышит кровь. А он опять на меня, а я сильнее того зажмурилась – ну и пошло. Ну и пошло да поехало. Он давай бутылки со стола хватать да в один стакашик сливать. А потом взял стакашик да разболтал его – и в себя! С одного маху, как молочко. И ведь даже, стыд какой, не поморщился. Да, бабушка, так неуж не болезнь?
– Так ты, Маруся, с ним разведись. – Бабушка хмыкает и покачивает головой. – У вас ведь, не наше дело, – полный дом всего. И коровки две, а там куры, овцы да гуси. Да и в горнице есть на че посмотреть. Вот и поделись с ним – пускай уходит. А ты успокоишься, поживешь…
– Бабушка-а! Да куда же он денется? Кому надо тако добро? Ну вот скажи? Ты бы его, к примеру, взяла?
– Я уж, Марусенька, старая, мне уж не до мужей. Один был, да и тот в первую германскую потерялся. Все говорили – без вести пропал, ждите – может, дождетесь. А мы и теперь ждем. Вот и вышло, что пропал навсегда…
– Ясно дело, – соглашается соседка и задумчиво говорит: – А только мне Михаила, полагаю, не сбыть. Ой, господи-и! От себя бы еще отдала коровешку в придачу, да всю бы сберкнижку положила, только б берите его, забирайте!
– Неуж отдала бы?! – смеется бабушка и вдруг цепко смотрит вперед: – Ойеченьки, кто это? Какой-то лохматко бегат, честно слово – лохматко! – и она опять ойкает и смотрит вопросительно на Марусю.
– Это наш, бабушка. Вчера сестра привезла да оставила. Они, видишь ли, горожане, купили билет да поехали в Крым. А собачку сюда.
– У нас тоже хозяйка уехала. Ох оно море, да что оно за море!.. – улыбается бабушка. – Пусть отдохнет, покупается, а мы с Колей домишко покараулим… Нет, Маруся, я не могу. Кака дельна твоя собачка!
– А у ней имя есть! – веселеет соседка. – Сокол, Сокол, пойди сюда!
Собака высоко поднимает морду, и теперь я вижу ее во всей красе. Но лучше бы не видел, лучше бы не смотрел. Потому что передо мной стояло чудо или лучше того. Таких часто рисуют, фотографируют и ставят на стол. И сразу веселеет, смеется комната – и в ней больше света, больше тепла. А если зайдет сюда посторонний, то не оторвется уже от рамки и забудет, зачем пришел. И забудет, и заволнуется, потому что в этом портрете, все хорошо – и шерстка, и морда, и уши. Но особенно уши! Они висят как два полушария, как два лопуха..
– Сокол! Сокол! – снова зовет Маруся, и он кидается к нам со всех ног.
– Ты у нас – лохматко, лохматко? – шепчет счастливо Маруся, а собака бодает ей мордой колени, и соседка смеется. А собака уже лижет ей ладонь, слюнявит, и та еще сильнее смеется, взвизгивает, и бабушка тоже смеется и тянет руку вперед. И вот рука находит собаку и начинает гладить ей уши.
– Ну вот и встретились, познакомились. А ты, вижу, добра собачка. А где ты жила? – И бабушка откидывает голову, и опять ее душит смех.
– Ох, Маруся, родная моя! Я уж давно не хохотала так. А он ведь – чистый лохматко и все понимает, оправды! Вон че скулит как, насказывает! Давай, Коля, погладь его.
И я подчиняюсь, начинаю царапать у Сокола за ушами. Шерсть у него сухая, темно-коричневая, а на ощупь как шелк. И в это время раздался крик:
– Эй, вы, товарищи-граждане! Отпустите собаку на покаянье!
Я вздрогнул и поднял голову. Напротив нас, за воротами, стоял высокий белобрысый мужчина. Он был в сапогах и в фуражке, несмотря на жару. Через секунду он уже был возле нас и разминал задумчиво папироску.
– Ну че, Соколко, покурим? Покурим давай, посмолим…
Собака на него косит желтым глазом, но не отходит от нас. И тогда он делает шаг вперед и командует:
– Соколко, за мной! Кому говорят – худо будет!
Но собака опять не подходит.
– Миша, не выступай! – просит мужа Маруся, а тот смотрит на меня долгим взглядом. И неожиданно говорит:
– Почему студенты на воле? Почему не в колхозе?..
Но я молчу и только глажу Сокола по гладкой горячей коже. Он благодарно моргает и стучит по земле коротким хвостом-обрубышем. Я хочу понять, почему у него такой хвост, – и вдруг понимаю, догадываюсь, – да он же у нас спаниель. Ну, конечно же, он – породистый! А мужчина кричит опять:
– Соколко, домой! Я три раза не повторяю.
– Миша! Да хватит уж. Иди отдыхай… – просит его Маруся жалобным голосом. А ему это не нравится, он нервно курит и все время дергает головой, как будто над ним комары. Потом все-таки не выдерживает и уходит. Сапоги у него громко поскрипывают – и не поймешь, то ли случайно они, то ли он специально их сделал скрипучими. Но скоро я забыл про него, да и Сокол отвлек. Он стал легонько поскуливать, точно призывая к себе. Я наклонился пониже, и он сразу протянул лапу, и я ее крепко сжал. И вот оно случилось, и вот пришло… Я знаю, я чувствую, что именно в ту секунду мы стали друзьями, именно тогда я его полюбил, а потом привязался, как к брату.
Да, так и было, как к брату… И на следующий день все опять повторилось. Мы вышли на лавочку, и к нам подсела Маруся. А потом за ворота выскочил Сокол и сразу к нам. Маруся смеется:
– Ох, Николай, уманишь у нас собаку!
– Да почему?! – удивляюсь я.
– А ты гляди, как он смотрит! Он же глаз не сводит с тебя! Ну дак че – ты парень, и Соколко у нас паренек, – она трогает у него за ушами, и он лижет у ней ладони и потом переходит ко мне. Глаза у него влажнеют и чуть не плачут от радости. А чему рад-то? Чему? Но я и сам чуть не плачу. Мне даже казалось, что у него какая-то другая, совсем не собачья душа. А может, он когда-нибудь был человеком?! Ну, конечно же, был он – раз у него такие глаза! Да, да, я верил… Я тогда думал, что у людей нет смерти и нет могилы, и если кого-то схоронят, насыплют холмик, то это не страшно. Нет, нисколько не страшно, потому что душа наша не умирает. Она у нас бессмертная, как из сказки, она у нас все время кочует. И кочует-то очень смешно, без разбора: сегодня, мол, ты человек и зовут тебя Николаем, а потом, после гроба, ты родишься снова, мгновенно и станешь уже лошадью или собакой… А может, даже деревом или травинкой, а потом опять все сначала, сначала…
А Сокол не отходил от меня ни на шаг. Он ложился возле моих ног на траву, и уши у него чутко вздрагивали, шевелились. Он слышал любой чужой шорох, любое движение. Иногда из створки к нам долетало радио – и эти звуки его удивляли. И снова все начиналось с ушей. Они смешно поднимались до половины, затем резко падали и опять поднимались. Но вот радио замолкало – и он крутил мордой, он удивлялся. Тогда я начинал успокаивать:
– Дурной ты! Это же радио. Поговорит, поговорит, а потом перестанет.
И Сокол поскуливал, он меня понимал.
А через два дня к нам привезли мою племянницу Олю. Ей исполнилось недавно шесть лет, и она уже знала буквы и понемногу читала. А с виду Оля так походила на куклу! Она была маленькая, толстенькая, с удивленным круглым лицом. И глаза у ней тоже выглядывали – кругленькие, серьезные – Оля очень-очень редко смеялась. Но вот она увидела Сокола, и тот тоже ее увидел! Но как же рассказать это, как выразить! Какие надо слова?.. Но у меня нет их, нет таких слов… Зато я вижу, как наяву вижу тот час.
Мы сидели с бабушкой, разговаривали. В ногах у меня лежал Сокол и скучал от жары. И вдруг он вздрогнул, вскинул высоко морду и заскулил. Я обернулся – в двух шагах от нас была Оля и тоже смотрела на Сокола. А потом все смешалось и перепуталось – Оля завизжала от радости, и Сокол тоже издал какой-то ущемленный счастливый звук и сразу кинулся в руки к девочке. Они точно ждали этой встречи всю жизнь. И вот дождались. Но как рассказать?! Оля схватила его за шею и стала обнимать, прижиматься к нему всей грудью, всем телом. Ей даже хотелось поцеловать его в нос, а Сокол стыдился, увертывался, но иногда ей все равно удавалось – и тогда собака повизгивала. А потом Оля повалила его на спину, и они покатились кубарем по траве. Я захохотал, а бабушка заворчала:
– До че дожили, жители. Пускам до лица собаку, да разе можно? А если она заразна?
– Она у нас хорошая, не заразная, – защитил я своего друга, но бабушка не сдавалась:
– Куда же годно! Не знат ни чистого, ни поганого. А ну-ко, Ольга, вставай с травы!
Но Оля не слышала бабушки. Она все так же повизгивала и тянула собаку за уши. А Соколу нравилось, ох как ему нравилось! Глаза у него блестели от счастья….
С того часа и началась их дружба. Теперь каждое утро собака приходила за Олей. Каким-то особым слухом сквозь толстые деревянные стены Сокол слышал, как Оля начинала ворочаться на диванчике, как начинала во сне постанывать, бормотать слова. А потом она просыпалась, и в это время Сокол стучал по двери. Он стучал лапой, царапался, и я бежал открывать. Он никогда не ошибался ни на минуту. Только Оля откроет глаза, а он уже у кровати.. Она смеется и бьет в ладоши, а Сокол лезет к ней прямо на простыню, мотает мордой, повизгивает. А потом Оля вскакивала с диванчика и сразу на улицу. За ней следом бросалась собака. Они снова падали в густой конотоп, начинали кататься, повизгивать, и непонятно даже – где голос девочки, где собаки. Потом они уставали и затихали. А сверху уже палило нещадное солнце. Но Сокол любил солнце, и Оля – тоже. Девочка ложилась на спину и хитро зажмуривалась, точно готовила для Сокола какой-то секрет, ловушку, но тот не догадывался. Так они и лежали рядом, а потом Сокол начинал беспокоиться – почему же, мол, она не визжит, не смеется, не бьет в ладоши. Но в это время его отвлекал какой-нибудь жучок или букашка. Он неотрывно следил за ним, принюхивался – и в это время на него всем телом падала Оля. И опять все начиналось! Сокол пулей носился по всей ограде, а его догоняла Оля, но где уж. Она сделает один круг, а Сокол уже пять или десять. Они могли бы бегать, наверно, весь день, но в этот миг появлялась бабушка. Она выходила на крыльцо и опиралась на тросточку. В последние дни ее подводили ноги, и она прибегала к опоре. А тросточка была легкая, алюминиевая и сверкала на солнце. Бабушка ложилась на нее всей грудью и тяжело, надсадно дышала. А глаза потихоньку рассматривали ограду. Зрение у ней тоже ослабло, и быстрый счастливый Сокол казался ей, наверно, юркой рыженькой пчелкой, которая все время кружит возле цветка. А цветком, конечно же, была Оля. Но вот проходила минута, и глаза у бабушки ко всему привыкали и уже узнавали, хорошо узнавали ограду, и Сокола, и, конечно же, Олю. И в глазах зажигались не то удивленье, не то умиленье:
– Ох, Ольга, привадишь собаку! А потом уедешь и бросишь.
– Не брошу! – кричит ей девочка, и у бабушки веселеет лицо. Вот уж и глаза смеются, и щеки, вот уж и сама она сходит с крыльца.
– Ох, старая стала, худая… А то бы тоже побегала, повизжала. А че! Я тоже любила бегать…
Она проходит шагов десять и останавливается посредине ограды:
– Соколко ты, Соколко! Нет же у тебя ума. А может, сильно много его. Че-то не разберу.
Сокол услышал свое имя и сразу подбежал к ней. Сел возле ног и подал ей лапу. Бабушка с трудом наклонилась и легонько пожала лапу:
– Ну здорово живем! Как житуха? Ничево! Ну ладно – ты хороший, хороший. Ты еще молодой, а я – стара, стара. Не понял? Ниче – скоро поймешь. Нынче стары-то в тягость, а я тебе, значит, не в тягость… – она смеется. – Не в тягость, значит, а в радость.









