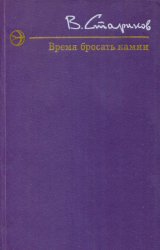
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
3
На каникулах в Висиме он думал о семинарии, внушал себе, что этот крест он обязан вынести. Что же делать, иного выхода нет. Семья в нужде, которая с годами становится все ощутимее, о светском образовании пока нельзя и мечтать. И Дмитрий решил твердо – брать от семинарии все, что она сможет дать. Правда, даст она очень немного. Зубрежка латыни, греческого, богословия, всего того, что держится в голове только до экзамена, а потом выветривается мгновенно и почти бесследно, – дело бесполезное. Священником Дмитрий быть не собирается. Окончание семинарии позволит ему поступить в высшее учебное заведение. Поэтому шестилетний курс семинарии надо осилить во что бы то ни стало. Сейчас семья еще держалась теми мизерными доходами, которые давал отцу приход. Потом благополучие всех, кого Дмитрий так любит и чтит, будет зависеть и от него. Это Дмитрий в свои неполные семнадцать лет понимал прекрасно.
Дмитрий твердо решил никогда больше не участвовать в семинарских пьяных гулянках. Пусть дразнят, высмеивают, он будет тверд. Ему так много еще надо сделать. Учиться! Знать возможно больше. Читать, читать, доставать книги, какие только возможно. Свобода не в том, чтобы предаваться порокам. Стать Гражданином! Быть наравне с теми, лучшими, память о которых живет в народе. Он знал о декабристах: в Висим и Пермь доходили слухи о тех, кто продолжал их дело, добивался иной жизни для всех. Какой иной? Этого Дмитрий ясно не осознавал. Видел, как живут те, кто не работает, располагая капиталами, и как живут, мыкают горе горькое те, кто с утра до вечера ломает спину. Почему так получается?
В этот раз они отплыли сентябрьским вечером, когда до пристани докатился водяной вал, специально пущенный из Висимо-Уткинского пруда. Подхваченная сильной водой барка, груженная листовой медью, легко заскользила по течению. До Камасина, в низовьях Чусовой, все на той же высокой волне, радуясь, плыли отлично, нигде не садились на мель. Дальше пошло хуже. Спала вода, встречный ветер достиг такой силы, что барка почти переставала двигаться. Преодолевали по пятнадцать – двадцать верст в сутки. От деревушки Кошкино до Чусовских Городков, верст восемьдесят, тянулись четверо суток.
Это были дни осеннего хода барок, груженных железом и медью. Заводчики торопились воспользоваться последней водой для вывоза заводской продукции в низовья. Дмитрий наблюдал тяжелый труд сплавщиков. Все они были чусовскими, связанными с заводским и горным делом. Умело и решительно действовали они на опасных перекатах, в шиверах, где вода бурлила словно в котле, ловко отводя суда от грозных каменных «бойцов», расставленных природой по берегам почти на всем пути.
С каждым поворотом раскрывались все новые и новые картины дикой красоты пустынных берегов этой своеобразной горной реки.
«Река постоянно делает крутые повороты и глухо шумит у знаменитых «бойцов», о которые разбилось столько барок, – писал о Чусовой через двенадцать лет Дмитрий Мамин в своем первом большом произведении – очерках «От Урала до Москвы». Позже во многих повестях, рассказах и очерках будет снова и снова возвращаться к реке своего детства, к своим запомнившимся путешествиям по ней от Висима до Перми. – Тихие плесы, где вода стоит как зеркало, чередуются с опасными переборами, где волны прыгают между подводных камней и с глухим ревом и стоном обгоняют и давят друг друга. Что ни шаг вперед, то новая картина: здесь скала нависла над рекой, и вода в почтительном молчании катится желтой струей под каменной громадой; там «боец» по колена в воде стоит где-нибудь за крутым поворотом и точно ждет своей добычи: а вот на низкой косе рассыпалась русская деревенька, точно эти домики только сейчас вышли из воды и греются на солнце. Эти причудливые очертания скал, эти зеленые горы, эта могучая северная красавица-река, – все это складывается в удивительную картину, поражающую своими угрюмыми красотами».
На людей, так ловко справляющихся со своим делом, перехитривших реку, побеждавших ее, на берегу смотреть было страшно. Полуголые, обросшие, с ребрами, проглядывавшими сквозь лохмотья, секомые дождем и снегом, они падали на песок или траву, дыша, как загнанные лошади, хрипели, харкали, спеша отдышаться, а потом зачерпывали из той же Чусовой воду и запивали ею завяленные, зачерствевшие ломти хлеба, которые вынимали из заскорузлых от грязи холстинных мешков. Да люди ли это? Чем они лучше скота? О скоте заботились, думали о корме для него, о стойле. Горевали, если падет лошадь или корова. А эти! Рождались и умирали, спали где придется, ели что бог пошлет. А много ли он им посылал?
Дмитрий сначала пугался, когда в голову ему приходили такие мысли. Но каждый день, о котором говорили «божий», да что день! – каждый час жизни вне дома давал Дмитрию примеры беспощадной жестокости по отношению к несчастным и слабым. Несчастья эти не были полной неожиданностью, еще на уроках отца он слышал, что «мир во зле лежит» и что нужно бороться с этим злом. Обращаясь в своих проповедях к пастве, отец настойчиво призывал ее к нравственному совершенствованию. Слова отца были обращены прежде всего к людям, он призывал их быть честными, добрыми друг к другу, трудолюбивыми. Но выход ли это, спасение ли от зла? Бог – это Дмитрий особенно остро почувствовал в последний приезд домой – был в проповедях отца некоей отвлеченной фигурой, привычной людям, укоренившейся в их сознании, которой отец пользовался, как ключом к душам прихожан. Ошибался ли Дмитрий в этом? Кто знает…
Второй семинарский год не походил на первый. Дмитрий Мамин сдержал слово, данное самому себе. Он не участвовал в попойках и гулянках, занимавших далеко не последнее место в семинарской жизни.
Мысли о своем поведении однажды оформились у него и вылились в строки письма к родителям.
«Почему я не испортился, – писал он в Висим. – А вот почему: попал я на другую квартиру, против меня и было много, даже слишком много худого, но это не поломало меня, потому что ничему и никому я не сдавался без боя и особенно стоял за свои маленькие убеждения».
У семнадцатилетнего мальчика вырабатывалась воля. Ошибившись однажды, он наметил линию разумного поведения, не сворачивал с нее, проявляя характер.
Среди памятных событий того времени особняком стояла горькая история с Тимофеичем.
Держался Тимофеич бодро, как полагается независимому, испытавшему много всякого семинаристу.
– Как же все это получилось? – допытывался Дмитрий, искренно жалея своего не очень путевого висимского товарища.
…Несколько семинаристов, увлекавшиеся музыкой, собрались в оркестр: виолончель, три скрипки и две флейты. Добрые подобрались ребята, сыгрались отлично. В городе оркестр приметили состоятельные жители из купечества и среднего чиновничества. Приглашения семинаристам сыпались щедро. Там вечеринка – музыка нужна, там день рождения – желают большое веселье устроить, там свадьба – как без оркестра. Везде не поспевали, но выгодные случаи не упускали.
– Как, как, – махнул рукой Тимофеич. – Просто… Знаешь ведь, хозяева как войдут в настроение, то кроме денег еще и наугощают. Ползешь к себе, спотыкаешься, голова кругом идет… Попадались, конечно, надзирателям, да как-то сходило, вывертывались, а то и откупались. А неделю назад у чиновника на серебряной свадьбе играли. Надзиратель туда и заявись. За одним столом оказались, и пошло у нас слово за слово, сильно схватились… Ну и начались допросы. Все собрали в кучу, все прогрешения вспомнили и порешили: исключить.
– Как же ты теперь, Тимофеич?
– Эко дело! – бодрясь, подвел итог Тимофеич. – Ну, исключили… Батька меня поймет. Хотя, конечно, жалко его, верил, что кончу я семинарию, со временем, может, приход получу… Тебе же, Дмитрий, скажу, знал, что не удержусь. Не лезут мне в голову все эти науки. Тебе книга дороже хлеба, а мне – глядеть на нее тошно. К простому делу тянет. Явлюсь в Висим, повалюсь батьке в ноги и подамся на прииск, может, найду себе дело по сердцу. – Он помолчал и добавил: – Эх, Дмитрий! Да и надоела наша бурсацкая жизнь. Батька мне, сам понимаешь, грошика подкинуть не может. Там другие рты хлеба просят. Живу я казеннокоштным с самого училища, сколько битый и поротый, всегда полуголодный, полуоборванный. Восемь годов такая жизнь тянется. Сколько же может человек? Вот думаю: пешком пойду, дотопаю до Висима – ноги свои. Только как питаться буду? Подаяние просить стыдно. Веришь – копейки за грешной душой нет…
Несколько дней спустя Дмитрий писал родителям, что Тимофеич, исключенный из семинарии, возвращается в Висим.
«Он ушел пешком домой… Денег на дорогу у него не было, а у меня было всего 2 рубля серебром, которые я ему отдал. Но двух рублей на дорогу, конечно, мало, то я отдал ему свое ружье, чтоб дорогой он его продал. Я думаю, что теперь он уже дома или в Висимо-Уткинске».
В этот год Дмитрий писал в Висим часто, не проходило недели без письма родителям.
Неизменно, до копейки, отчитывался в расходовании денег, присылаемых отцом. За год, считая квартиру, израсходовал что-то около ста рублей.
«Вы не подумайте, – писал Дмитрий отцу, – что я не знаю ваших денежных средств. Я знаю, что беру почти половину ваших доходов, мне это неприятно, но пока я не могу еще жить на свой счет. Может, бог даст стать на ноги и на свои хлеба переберусь».
Однажды он попал в городской театр, уже два года пустовавший из-за отсутствия труппы, захватив удобное место в переполненном райке. Шел спектакль «Кардинал Ришелье», поставленный пермскими любителями. Но и этот спектакль, далекий от совершенства, поразил семинариста, надолго завладел его чувствами. Дмитрий видел, как чужая и далекая жизнь людей другой эпохи, со сложными отношениями, может быть перенесена на сцену и зрители станут ей сопричастны. Костюмы, убедительные монологи, разнообразие характеров, необычность поступков… На сцене могут быть высказаны самые сокровенные, самые заветные мысли, и они через нее становятся всеобщим достоянием. Какое же это чудо!
Письма запестрели сообщениями о переменах в семинарской жизни:
«приехали новые профессора, фамилию знаю только одного: профессора математики, кончившего Киевскую академию господина Покровского Константина Ивановича, сегодня он был у нас в классе и, как кажется, знает свое дело…»; «…начал учиться на скрипке»; «…в семинарии устроили комнату, в которой вокруг стола диваны и табуретки, а на средине стол с журналами для чтения; журналы следующие: «Епархиальные ведомости», «Вечерняя газета», «Деятельность», «Современный листок», «Литературная летопись», «Сын отечества», «Пермские губернские ведомости».
Но скоро появилась в письмах новая тональность.
В одном из них Дмитрий писал отцу:
«Хотя и много шумели о преобразовании семинарии, но в сущности пользы немного… Святые отцы выкапывают всяческую мертвечину, рухлядь никуда негодную и заставляют ее заучивать как что-то путное, время, самое годное для приобретения знаний почти на всю жизнь, время, которым должны бы дорожить, у нас пропадает на заучивание мертвечины».
Вот так заговорил семинарист.
Письма Дмитрия тревожили родительские сердца. Откуда у него появился дух осуждения всех семинарских порядков, такое запальчивое пристрастие к учителям? Ведь еще почти мальчик, не пристало ему так непочтительно говорить о старших, которым доверено воспитание семинаристов. А потом еще: вдруг он попросил сообщить ему программу и условия приема в Тагильское реальное училище, спрашивал, можно ли после него поступить в Технологический институт или в какое-либо другое высшее учебное заведение?
Отец догадывался о том, что происходит с Дмитрием. В конце концов он сам всегда стремился привить ему вкус к размышлениям над явлениями жизни, к критическому отношению к ней. Но путей для мысли неисчислимо много. Пойдет ли Дмитрий правильным? Оставалось надеяться на его разум, чистоту помыслов.
А Дмитрий все искал ответов на мучившие его вопросы. Поговорить по душам было не с кем. Сотоварищи, окружавшие его, мало чем интересовались сверх отметок, еды, выпивок, удовольствий. Казалось иногда Дмитрию, что среди старших семинаристов встречаются люди одухотворенные, отличающиеся от других. Но как к ним подойдешь? Как раскроются они, опасающиеся постоянного надзора, возможного фискальства?
Однажды случай помог ему.
В своей комнате на столе он увидел забытую кем-то книгу Писарева. Дмитрий слышал о Писареве, но не читал ни одной его статьи. Он взял книгу и раскрыл на заложенной странице. «Погибшие и погибающие», – прочитал он название статьи.
Первая фраза: «Сравнительный метод одинаково полезен и необходим как в анатомии отдельного человека, так и в социальной науке, которую можно назвать анатомией общества», – заинтересовала Дмитрия. «Анатомия общества…»
Он присел на табуретку у окна и начал читать. Помнил, что надо идти в классы, за опоздание придется отвечать. Но книга не отпускала от себя.
Дмитрий читал, захваченный потоком горячих, выстраданных Писаревым мыслей о путях юношества, о самом главном в образовании, самом нужном при определении места в обществе.
Есть такие минуты, которые многое решают в жизни человека, как бы направляют его судьбу. И есть такие книги, такие мысли, которые вдруг озаряют светом истины человека, прикоснувшегося к ним.
Эта минута, это озарение коснулось Дмитрия.
Пермь в его пору была глухой провинцией. Отзвуки революционного движения докатывались сюда ослабленными. Жизнь, в которой делал первые сознательные шаги будущий писатель, была застойной, патриархальной, почти неподвижной.
Дмитрия обдало жаром, когда он дошел до размышлений Писарева о состоянии образования в России, о бурсе.
«Рассматривая внутреннее устройство бурсы, мы вовсе не должны думать, что имеем дело с каким-нибудь исключительным явлением, с каким-нибудь особенно темным и душным углом нашей жизни, с каким-нибудь последним убежищем грязи и мрака. Ничуть не бывало. Бурса – одно из очень многих и притом самых невинных проявлений нашей повсеместной и всесторонней бедности и убогости».
Уж что-что, а бурсу Дмитрий знал отлично. А Писарев уже переходит к сравнительному анализу и проводит параллель между русскою школою и русским… острогом сороковых годов. И как проводит! Мурашки бегут по спине от строк, которые, как пули – одна в одну, – бьют беспощадно в цель; с математической точностью доказывают, что бурса и острог схожи по своему воздействию на человека, но бурса – страшнее острога…
Дмитрий забыл обо всем на свете. «Все так, – думал он. – Как верно, как правдиво!»
Писарев строил свои доказательства на двух знакомых литературных свидетельствах: «Бурсе» Помяловского и «Записках из мертвого дома» Достоевского. И что же? Бурса, выходит, страшнее острога, все учебные занятия бурсаков похожи, как две капли воды, на обязательную работу каторжников. Но работа каторжников не бесцельна, в отличие от зубрежки бурсаков она приносит хоть какое-то удовлетворение несчастным.
«Неволя арестантов легка в сравнении с неволей бурсаков, над последними контроль по работам несравненно строже».
Писарев, как дважды два – четыре, доказал, что души бурсаков «искалечены системой учения», характеры сломлены. Бурсаки озлоблены, придавлены тем, что не имеют даже самой ничтожной воли, не имеют права ни на одну самостоятельную мысль.
Несколько лет, самых важных для установления характера, они зубрят страницу за страницей, слово в слово, от запятой до точки, от доски до доски.
Грязь, мерзость, запустение жизни в бурсе гораздо сильнее, чем в остроге. Еда та же, но в остроге хлеба дают вволю. А бурсакам – два ломтя в день. Да и семинария – та же бурса. Так же калечит и развращает душу.
Вот он какой, Писарев! Он говорит о свободном развитии человеческой личности, избавленной от гнета предрассудков религии, от преклонения перед ложными авторитетами, которые оправдывают подневольное положение человека, его физическое и духовное подавление…
Дмитрию сделалось страшно, но и легко. Он не одинок. Есть умы, уже прошедшие через сомнения, знающие, как надо действовать, чтобы развеять в прах хлам и гниль жизни.
«Ум наш требует фактов и доказательств, фраза нас больше не отуманит…», «Ни одна философия в мире, – говорил Писарев далее, – не привьется русскому уму так прочно и легко, как современный, здравый и свежий материализм».
«Что такое материализм? – думал Дмитрий. – Ах, какая книга! Чья она?»
«Только одни естественные науки, – утверждал Писарев, – глубоко коренятся в живой действительности; только они совершенно независимы от теории и фикций; только в их область не проникает никакая реакция; только они образуют сферу чистого знания, чуждого всяких тенденций; следовательно, только естественные науки ставят человека лицом к лицу с действительностью».
Он говорил, что идет эпоха новых людей – людей дела, а не отвлеченной мысли.
«Теперь надобно изучать природу, – читал далее Дмитрий. – Это единственное средство выйти из области догадок и предположений, фраз и возгласов, красивых теорий и бессмысленного зубрения. Это единственное средство ввести учеников в область точного знания, добросовестного исследования и живого мышления».
Закрыв книгу, Дмитрий оглянулся. Как может он сейчас пойти на лекцию Королева о философии? Какие у них потом уроки? Латинский и греческий? Опять спрягать без ошибок глаголы?
Да, конечно же, думал Дмитрий, судьбы человечества зависят не от тех людей, которые владеют мертвыми языками, всяким словесным хламом, а от тех, которые владеют знаниями естественных наук и законами природы, которые знают и «анатомию общества». Почему же люди не на эти важные науки обращают главное внимание? Семинаристам преподносят мертвые знания, потому они и не рвутся к образованию. Что нам даст семинария? Зачем нужна вся эта зубрежка? Древние языки, история церкви, догматическое и нравственное богословие? Что? С чем он войдет в жизнь? Где же истинное направление?
Разве не о служении народу думал он, представляя свой жизненный путь? Так с какими же знаниями он должен его начать? Сейчас он другими глазами посмотрел и на те книги по естественным наукам, которые успел прочитать, более осмысленно.
Дмитрий дошел по Монастырской улице до семинарии, постоял и, махнув на все рукой, пошел дальше к пристани на Каме.
На всю жизнь Писарев останется для Мамина – хотя позже он и несколько по-иному взглянет на его литературные позиции – властелином души, духовным учителем, слово которого он исповедовал неуклонно, неизменно восхищаясь его умом и преклоняясь перед ним, перед его страстным стремлением сделать жизнь России лучше, чище.
Теперь Дмитрий жил в доме, который принадлежал присяжному поверенному Павлову на углу Оханской и Монастырской улиц, в двух шагах ходьбы до семинарии, близко от театра в городском саду и от частной платной библиотеки, где он тайком брал книги. Этот дом двумя этажами выходил в зеленый дворик. Дмитрий жил на втором этаже, где были две проходные и две изолированные комнаты. В каждой стояло по два топчана. Весь верхний этаж сдавался шумным жильцам – своекоштным семинаристам.
Дмитрий поселился в изолированной комнате с Никандром Серебренниковым. Никандр был старше Дмитрия почти на четыре года, но они, хотя в этом возрасте такая разница лет порой мешает сближению, через некоторое время по-хорошему сдружились, и эти добрые отношения поддерживались и после семинарии долгие годы. Сначала Никандр не обращал внимания на Мамина. Да и Дмитрий чуждался заносчивого, как ему показалось, старшеклассника. Однако мало-помалу они разговорились, и Никандр почувствовал в Мамине человека незаурядного и интересного. Позже он даже отвел его в частную библиотеку Прощекальникова, где можно было получить книги, недоступные семинаристам. Библиотека эта была настоящим кладом. Глаза разбегались от одних названий. Никандр же стал снабжать его книгами и из другого, еще более запретного источника, знакомого самому узкому кругу людей, – тайной ученической библиотеки. Это уже было высшим доверием. Так у Дмитрия в руках появились книги, знакомые по Висиму: Дарвина, Сеченова, Фохта, Шлейдена, Молешотта и другие, посвященные естественным наукам, технике.
Только вечером Дмитрий вернулся домой. Никандр занимался.
– Это твоя книга? – спросил Дмитрий.
– Читал? – Никандр пытливо смотрел на Дмитрия. – Я так всегда делаю. Положу книгу – будто забыл. Думаю, авось увидит и заинтересуется. Зачем навязывать. Тебя задела? Это, брат, правильные мысли реалиста. Нам надо о будущем России думать, о своем месте на жизненном поприще. Какое место в жизни народа займем. Для себя я все решил – заканчиваю курс, на богословском не останусь, подамся в Петербург. Буду держать в Медико-хирургическую академию. Только надо хорошенько и самому подготовиться. Есть у меня в Екатеринбурге знакомая – дочь инженера Солонина – Веночка. Как из гимназии вырвется, тоже в Петербург двинет. Разделяет мои убеждения… Дам я тебе еще одну книгу, – продолжал Никандр. – Она тоже заставляет о многом подумать. – Он долго рылся под матрасом. Наконец протянул порядочно помятую книгу П. Миртова (Лаврова) «Исторические письма». – Но только смотри… Если кто увидит в твоих руках да начальству доложит, то тут тебе и мне крышка. Впрочем, за Писарева тоже. А уж за эту…
В тот вечер долго светился огонь в окне их комнаты. Спать легли поздно. Заснуть Дмитрий, возбужденный прожитым днем, не мог скоро. Вот, думал он, как бывает. Ищешь друга и единомышленника где-то, а он, оказывается, рядом. Какой прекрасный и умный человек этот Никандр! И сколько же он, должно быть, знает всего! Я должен, обязан знать не меньше…
Захватила его и книга Лаврова «Исторические письма», особенно близкими стали для него размышления о развитии личности в физическом, умственном и нравственном отношениях, о том, что только в борьбе может окрепнуть убеждение и способность отстаивать его.
«Что я сделал в эту треть? – писал вскоре Дмитрий родителям. Это большое письмо на двенадцати страницах, написанное мельчайшим почерком, письмо-исповедь. В нем он говорил обо всем, что мучило и тревожило его. – Вот вопрос, – продолжал он, – на который я должен отвечать сначала вам, потому что ваши заботы обо мне должны иметь результаты какие-нибудь, а потом и себе. Я удивляюсь, как много в нас, т. е. воспитуемых в учебном заведении, непрактичности и совершенного неведения жизни, – неведения того, что ожидает нас впереди; и если некоторые из нас знают кое-что о жизни, то лишь самая ничтожная часть желает войти в это грядущее будущее. Отчего же это юные головы не делают то; что следовало бы делать? Где причина этого зла?
…Вы мне писали и будете писать о необходимости приобретения знаний и средств к достижению этого, конечно, указывали на труд, как на самый необходимый элемент нашей жизни; благодарю вас за это, и всегда буду благодарить. Только вот что: вы и все пишут, говорят и кричат о необходимости труда; все это хорошо, только спрошу у всех: переливать воду из пустого в порожнее тоже ведь некоторым образом труд, но насколько он полезен? Все, конечно, ответят, что обязанность семинариста – набираться знаний. Но я укажу на язву нашего обучения – классицизм, и может быть, некоторым покажется не лишенным смысла мое сравнение, хотя оно не совсем удачно приведено. Да, много сил, даже слишком много, тратилось и тратится и, может быть, долго будет тратиться понапрасну – на изучение мертвечины. Люди воображают нас какими-то свиньями, которых чем угодно можно откормить – особенно падалью. Некого мне винить, что почти даром прошло восемнадцать лет; да, положительно некого: один ответчик за все – я же сам. Трудился я в Екатеринбурге как нельзя лучше и все-таки ничего не вынес, тут же не мало трудился, кое же что позаимствовал, и все так, как ни у кого другого, как у посторонних книг.
Никакие красноречивые доказательства пользы классицизма не докажут, не перевернут того, что приобретено такой дорогой ценой; и я думаю, что вы не будете опровергать меня, потому что теперь заговорило во мне то, что было подавлено и спало так долго. Вы не подумайте, что я совсем не стану заниматься классиками: плетью обуха не перешибешь, и сила ломит соломушку. Не скрою от вас, что слишком мало у меня настоящих знаний и что очень много нужно их приобретать для дальнейшего учения, но не будем бояться этого: нет ничего невозможного…»
Живое слово нашло путь к его сердцу.
Тревоги о будущем теперь не покидали его.
После той вечерней беседы о Писареве, жизни, будущем Никандр стал относиться к Дмитрию, как к младшему брату. Он помог ему найти репетиторские уроки. Расплачивались с Дмитрием главным образом обедами, но появились и небольшие расхожие деньги сверх того, что ему присылали из дома. Они давали возможность не дрожать над каждой копейкой, поприличнее, чем вся масса семинаристов, одеваться, да и более сносно питаться. Главное же, все это содействовало бодрости настроения.
Семен Семенович Поздняев, владелец колониальных лавок, купец второй гильдии, принял семинариста в воскресный день. Вся семья – жена, две дочери и сын сидели за чайным столом.
Дмитрию запомнились те унизительные минуты, когда, стоя, не получив приглашения присесть, он предлагал свои услуги по репетиторству. Поздняев, продолжая прихлебывать чай, слушая, всматривался в среднего роста, худощавого, темноглазого, с чистым лицом юношу. Хоть худоват, бледен, – видно, не сладки семинарские харчи, – но выглядит по одежде вполне прилично.
– Значит, так, – внушительно заговорил он, отодвинув чашку и проводя рукой по бороде, очищая ее от крошек праздничного пирога, – желаете приложить знания к человеку для облегчения своей жизни? Условия вам известны? Два раза в неделю уроки, за это получаете обед. А коли сын наш станет успехи оказывать, то и деньгами отблагодарим. Приемлете?
Дмитрий кивнул.
– Вот и ваш ученик… Встань, Сергей, – приказал он пухлощекому отпрыску лет двенадцати, стриженному под скобочку, с любопытством рассматривавшему будущего наставника. – Вот этот балбес простой дроби осилить не может. Голуби ему милее учения. Будьте строги к нему. Вашей строгости не хватит – свою приложу.
Сына Всеволода Георгиевича Черепанова, состоятельного чиновника губернского суда, имевшего два доходных дома и собственный выезд, он натаскивал по русскому языку, вдалбливал в подростка, моложе его года на четыре, глагольные премудрости, деепричастные обороты. Тут платили деньгами – двугривенный за урок.
Семьи мало чем отличались одна от другой. В чиновной было больше «благородства», получали две газеты – губернскую и петербургскую. Дмитрия впускали только с заднего хода, в комнаты он проходил через кухню. К Поздняевым он входил с парадного, но всякий раз за ним смотрели, чтобы хорошо вытирал ноги, не заносил сора с улицы.
За эти дни Дмитрий ближе познакомился с горожанами, их бытом, нравами. Поражали примитивность духовных запросов, узость интересов, ограничивавшихся в чиновничьей среде ничтожными служебными, в купечестве торговыми делами, заботами о накоплении и приросте капитала. Никого не интересовал тот мир, который был за стенами их особняков, разукрашенных затейливой деревянной резьбой.
Случалось, что обходительного семинариста, с мягкими манерами, с пышными волнистыми волосами, добрыми карими глазами, на которого и барышни заглядывались, приглашали на домашние вечера, семейные праздники, по-русски хлебосольные, с пельменями, обилием рыбных закусок, маринадов, водок и хитрых настоек, с карточными столами. Внешне получалось шумно, а на поверку – тихая скука. Впечатления от разговоров, встреч все же отслаивались и откладывались в глубинах памяти. Он не подозревал, что впоследствии, став писателем, вернется к этим вечерам, к глухоте быта провинциальной Перми.
В семинарии сложился свой кружок воспитанников. Немногочисленный. Тем крепче они держались друг за друга, сохраняя бодрость, огонек надежды в своих душах. Самыми близкими для Дмитрия, кроме Никандра Серебренникова, стали Паша Псаломщиков, Николай Коротков, Петр Арефьев. «Духовная» карьера их не прельщала, они готовились к полезной для общества работе. Для этого следовало перешагнуть семинарию, тем самым обретя право на поступление в высшее учебное заведение.
«Вы говорите, – писал Дмитрий отцу, – что мы слишком легко относимся к настоящему своему времени – времени приобретения всевозможных знаний, – на это скажу вот что: наши воспитатели, наши руководители гораздо легче смотрят на это, чем мы сами, они не только ничего не дадут, но еще и то, что мы без их помощи приобрели бы, расстроят; спросите у них, много ли они чего дали мне, а набор спряжений, и склонений, и слов без порядка, без толку не есть еще знание. Если я или мои товарищи что приобретут, то это – плод собственных забот, трудов и ума; а за свое собственное, которое добывается таким трудом, потом и кровью, ни я, ни они не обязаны благодарить других, да подобный поступок был бы положительно ни с чем несообразен; теперь, примерно, я учусь, но если бы я не стал заботиться сам о своей голове да слушал бы своих учителей, то не только знаний, а и здоровый-то рассудок совсем потерял.
В конце имею сообщить Вам неприятную новость: я уже раньше писал, что за октябрь по поведению у меня 3, но помощник, новенький, такой скотина, что за декабрь опять поставил 3, за то, дескать, что не все святки ходил в церковь…»
Будущее – сложное перепутье. Глубокая внутренняя работа мысли не утихала. Однако бурса приучала к сдержанности выражения чувств и мыслей. Ими Дмитрий наиболее откровенно делился только с родителями. Поэтому такими пространными выходили из-под его руки письма в Висим.
Дмитрий твердо решил окончить семинарию. Установил строгий режим, не давал себе поблажек, выполнял все, что от него требовали. Ложился и вставал в определенный час; до того как отправиться в семинарию, успевал кое-что почитать. После занятий шел в город к своим ученикам или же садился за книги. Круг его чтения расширялся, в него входили книги русских и западных авторов по естественным, общественным и историческим наукам. Читал Дмитрий и новые журналы.
И все же он предпочитал художественную литературу. Чтение ее, ко всему прочему, хотя им это и не осознавалось, вырабатывало вкус, оттачивало слог. Это особенно заметно по его письмам домой. Но главное – знакомило с неизвестными дотоле явлениями жизни. Дмитрий открыл для себя, что художественные произведения лучше, чем научные статьи, доносят нужные мысли до читателя. В этом их сила. Не всякий возьмет книгу научную, специальную, а рассказ, роман прочитает.
При той замкнутости, отчужденности, в какой жили воспитанники, все же бывали минуты близости, откровенных разговоров. Тогда Дмитрий вдруг как бы раскрывался. Он оказался отличным рассказчиком, мастером острого словечка. Как живые вставали перед слушателями персонажи его рассказов: какой-нибудь бедолага-старатель, смешной дьячок, суровый обличием старовер, запутавшийся в женских кознях, спившийся мастеровой. В спорах же мог поразить товарищей широтой мысли, глубиной знаний.

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





