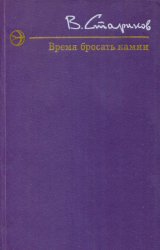
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
3
Отдохнув, оглядевшись, Дмитрий опять вернулся к роману. Теперь он назывался «Семья Бахаревых». Действие его развивалось в вымышленном городе Сибирске. В ходе работы менялись композиция, характеры, появлялись новые герои. Отдаленно звучали в романе идеи Писарева, Чернышевского. Появлялись картины тех бед, которые несет с собой капитализм. Дмитрий начинал как бы всею кожей чувствовать его злобную, звериную суть – человек человеку волк. Ничего святого, никаких законов – все можно оправдать, обойти. Нажива! Вот бог, которому молится капитализм. Все меньше оставалось совестливых. Совестливые становились неудачниками в реальных столкновениях. Жизнь все набирала темп, подчиняясь той центростремительной силе, которая выносила наверх одних и беспощадно расшвыривала других. Литература и искусство еще цеплялись за прежние понятия человеколюбия, добра, растерянно провозглашали их, еще писали и пели о малютках и сиротках, стремясь пробудить жалость и сочувствие к униженным и оскорбленным. Но плакали только сами униженные да еще сохранившая понятия о милосердии русская интеллигенция. Тех же, кто делал нищими малюток, кто сиротил их, совесть не мучила. Виноватыми в их глазах были сами малютки и сироты: не можешь – не живи.
Сергей Привалов, мелкий агент английской фирмы по сбыту за границу русского хлеба, сын неудачного компаньона золотопромышленной компании, помнил поучения отца: «Деньги, Серега, это – кровь людская, пот человеческий, а будут не будут у тебя деньги, Серега, первее всего – душа, о ней надо печаловаться больше всего». Другой персонаж романа – доктор Толмачев еще резче говорил о народных бедствиях: «Я человек не особенно чувствительный, а другой раз, глядя на этакое житье-бытье, просто слеза прошибает… Бедность, непроходимая, непролазная бедность, а ты ему капельки должен прописывать, когда ему надо прописать света, воздуха, тепла, хлеба! Нет, как хотите, а у меня просто всю душу переворачивало иной раз, и я проклинал все и всех на свете, кто и что отнимает у этих бедняков солнечный свет и заработанный собственными руками хлеб!.. Нет, бедный наш народ, несчастный народ, – и мы его не знаем, и он совершенно справедлив, что не признает нас». Но такие люди в романе оказались на обочине жизни. Торили же дорогу те, кто умел перешагнуть через закон, совесть, ближнего.
Жизнь в Салде подтверждала мироощущение Мамина, обогащала его. Работал он много, увлеченно.
Рождались самые разные замыслы, его тянуло к рассказам, повестям, просто к очеркам о народной жизни. Да, не с пустыми руками явится он в Петербург. Его новые рассказы будут не чета тому, что он успел напечатать.
Все-таки Петербург дал ему много! Теперь это сознавалось отчетливее. Студенческие споры, порой запутанные, отвлеченные, бурные сходки, которых он был свидетелем, политические процессы, книги и книги не прошли даром. Зрело убеждение, что многие спорщики все же плохо знали народ, о котором так много толковали, представляли его себе умозрительно, не понимали его истинных нужд, отстояли от него далеко.
Помня, что осенью надо вернуться в Петербург к началу занятий в университете, Дмитрий с особенной жадностью торопился вглядеться в окружающую его жизнь, открывая в ней все новые и новые подробности.
Не пренебрег Дмитрий приглашением Анатолия Алексеевича Злобина, с которым познакомился на пикнике, посетить завод. Смотритель доменной фабрики провел его по всему большому хозяйству, посвящая в таинства заводской жизни. Потом Дмитрий и сам ходил по всей территории, влекомый желанием еще и еще поближе, попристальнее вглядеться в тех, кто стоял у доменной летки, катал рельсы и балки. Все тут было интересно, ново. Когда и где еще представится ему такая возможность ближе увидеть промышленное дело!
Бросалась в глаза разобщенность старших служащих от рабочих. Злобин шел но заводу неторопливо, не замечая, как везде перед ним останавливаются мастеровые, здороваясь, поспешно снимают шапки. Даже в доменной фабрике, его вотчине, он был так же отчужден ото всех, кто расчищал от горелой земли место для очередного приема чугуна, убирал скрап, возился подле громадной самоварной башни, с жаркими потными боками, ненасытно поглощавшей руду, уголь, известняки, клокочущей от расплавленного металла. На некотором почтительном расстоянии от Злобина держались старшие над этой рабочей армией. Он лишь изредка делал им замечания, уверенный, что все незамедлительно будет учтено и выполнено. Злобин не опускался до подчиненных, их повелитель и высшая тут власть. Они являлись лишь исполнителями его велений. Властелины и рабы! Так мстил он, возможно, за свою собственную незащищенность перед теми, кто стоял над ним, на которую пьяно жаловался Дмитрию в Ермаковом бору. Его гнули, как мягкое железо, и он гнул своих подчиненных.
По живым следам впечатлений Дмитрий несколько лет спустя в повести «Сестры», которая при его жизни так и не была опубликована, выразительно описывал посещение завода:
«Я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех сторон – зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь реки Пеньковки была разделена на две половины: в одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика, направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Симменса с громадной трубой. На площади там и сям виднелись кучки песка, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами… Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался: это оказалась рельсовая болванка. Рабочий быстро катил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом; другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода, и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть фабрику и повернуть валы катальной машины. Раскаленный кусок металла, похожий на огромный вяземский пряник, будто сам собой нырнул в самое большое отверстие между катальными валами и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью: рабочие ловко подхватили красную, все удлинявшуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах от нее сильно жгло и палило лицо…»
Как-то Дмитрий среди заводских корпусов встретил Константина Павловича Поленова, имевшего привычку при любой погоде утром совершать обходы корпусов. Накрапывал дождь, особенно сильно пахло дымом и горелым железом. Константин Павлович, удивленный встречей, добродушно покачал головой.
– Нравится наш завод? Не то что Висим? А? Внушительно? Вот что, друг мой, заходите-ка сегодня же вечерком. А? Только без отказа.
Дмитрий пообещал.
Поленов занимал обширный каменный господский дом с несколькими богато обставленными залами, многочисленными комнатами, просторным кабинетом. За домом растянулся ухоженный сад, спускавшийся к берегу пруда, с цветниками, расчищенными дорожками, беседками. При усадьбе имелись огород, теплицы. Многочисленная дворня обслуживала хозяйство и дом. Все велось на широкую ногу, по-помещичьи: заготавливались впрок собственные соленья, маринады, варенья, готовились квасы, медовые напитки, варилось пиво. Управитель завел даже пашни, обрабатывал их плугами, боронами, вывезенными из Англии, выводил новые сорта хлебов. Своему увлечению сельским хозяйством управитель отдавал немалое время.
В господском доме Дмитрия встретили приветливо. Мария Александровна сама проводила в кабинет мужа, где Константин Павлович отдыхал на широком диване. Дмитрий обратил внимание, что к книгам и камням, как в Висиме, тут прибавились пучки ржи, ячменя – свидетельство увлечения хозяина кабинета сельским хозяйством.
– Мы же с вами в некотором роде земляки, – заговорил добродушно Константин Павлович. – Висимцы… Мальчиком вас помню… О боже, с каким отчаянным чувством я тогда жил. Висим принял, как ссылку. Заслали на самый горный хребет между Европой и Азией. Во все стороны только леса. Спрашивали: где живу? Отвечал – в Шайтанке. Ведь молодым был, хотелось общества, шумной жизни, света, блеска. Думал, что больше шести месяцев такой жизни не выдержу – сбегу или с ума сойду. А привязался… Уезжал из Висима, поверите ли – слезу пустил… А теперь – Салда… Пятнадцать лет… Пролетели, и не заметил.
Говорили в этот вечер о многом. Коснулись и знаменитой уставной грамоты, введенной Колногоровым, о которой так много думал Дмитрий, наблюдая, какие глубокие и тяжелые перемены она принесла в уральскую жизнь.
– Что же, – нравоучительно возразил Константин Павлович, – уставная грамота просто закрепила истинное положение, которое всегда существовало на Урале.
– Я сказал бы так, – не побоялся резкости Дмитрий, – беззаконие введено в закон.
– О, вы храбрый полемист, – усмехнулся горячности Поленов. – Но что такое горнозаводский Урал испокон веков? Это – промышленность, которой всегда подчинялось все окрестное население. Представьте себе, если бы, как толкуют иные, в мастеровые зачислили только занятых в самом заводе? Что получилось бы? Мы потеряли бы многих, кто нам нужен. У нас в Нижней Салде занято семь тысяч, а три тысячи в куренях на углежжении, на дровозаготовках, на гужеперевозках. Кто они – крестьяне или мастеровые? Зачисли мы их в крестьяне и – останавливай завод. А как быть с рудниками? Под землю лезть охотников мало. Сейчас, связанные с нами, могут получить во временное пользование покосы, выгоны. Мы даже на остановку завода летом идем. Понимаем нужду населения. Если же отдать землю им в собственность, завтра же многие уйдут с завода, станут крестьянствовать. Нет, так рисковать нельзя. Есть и еще обстоятельство, – продолжал Поленов. – Идет нормально заводское дело – рабочий обеспечен постоянным заработком, кормит семью; зашатается – нарушатся все условия нормальной жизни, он бросит все и уйдет к земле. Нам надо привить сознание, что завод – это кровное дело всего населения.
– И нищенская жизнь? Рабочий не может содержать семью, посылает на работу жену, детей…
– Это уже другая сторона. Цена рабочего труда диктуется экономическими обстоятельствами. Что же, поднимать цену на железо? Снижать доходность?
– Мне кажется, – не сдавался Дмитрий, – что крепостное право на Урале осталось. Только новые формы приобрело.
– У вас есть положительная программа, как изменить существующее положение? – Поленов с интересом всматривался в Дмитрия.
– Понимание зла – это ведь тоже не мало, – уклонился от прямого ответа Дмитрий. – Ведь есть же возможности хотя бы уменьшить его.
– У молодости глаза всегда более зоркие, у меня они начали слабеть. Добавлю: молодость входит в действительность с идеалами. А реальность есть реальность. У идеала этой реальности нет, – сделал он назидательный вывод. – Вот где основа конфликта между молодостью и практикой.
Разговор между ними продолжался главным образом об одном – о положении рабочих, о тяжких условиях их жизни. Дмитрий, всматриваясь в холеное лицо Поленова, тронутое морщинами, невольно вспоминал Висим и того молодого Поленова, каким он ему, мальчику, запомнился. Случалось, что по вечерам они с отцом приходили в прекраснейший, как из сказки, дом, поражавший мальчика богатым уютом. Молодой хозяин, непохожий на всех, кого знал Митя, в халате с кистями, из-под которого виднелась ослепительной белизны рубашка, с искренним удовольствием встречал гостей. От Поленова и отца он впервые слышал имена тех, кто позже стали его духовными наставниками. Наркис Матвеевич всегда с почтением отзывался о Константине Павловиче, отмечал его христианское отношение к рабочим, приводил в пример заботы о них, напоминал, как он, преодолев препоны, добился даже повышения им поденной платы. Отец и сейчас сохранял к нему прежнее отношение, рассказывал Дмитрию, что среди других служащих Демидова Константин Павлович гуманнее многих, добивается открытия школ, больниц. Но не это, видел Дмитрий, составляет его сущность. Перед ним сидел человек, строго соблюдающий, в первую очередь, интересы владельца завода и свое спокойствие, верящий в незыблемость и правоту существующего порядка. Что ж, кажется, душевного порядка для себя лично он достиг. И на этом остановился.
Константин Павлович рассказывал, каким стал при нем Нижне-Салдинский завод за эти годы, как растет выпуск рельсов, гордился всем, что им, инженерам, удалось достичь. Он гордился делом своих рук, дорожил хозяйским доверием.
– Мое дело – заботиться о прогрессе, – опять подчеркнул он. – А уж прочее решать не мне. Надо реальнее смотреть на жизнь. Есть работодатели и есть работающие. Никогда их интересы полностью не совпадут. Я вижу свою задачу только в двух направлениях: способствовать техническому прогрессу и дать работу всему населению, приучить его к заводскому делу. Россия – страна отсталая, дай-то бог помочь хоть немного подтянуться нам до Запада…
Покидая дом Поленова, Дмитрий испытал странное чувство: ему показалось, что управитель в жизни очень одинокий человек.
Приходили с севера мокрые тучи, летние дожди продолжались неделями. На Салду от пруда натягивало туман. Сырели заборы, домишки словно еще сильнее чернели, ниже пригибались к земле. Поселок утихал рано. Светили тусклые редкие огни, лаяли на пустынных улицах собаки. Пьяные голоса вспарывали иной раз тишину, умолкая где-то в глубине поселка.
А зарево стояло день и ночь над заводом. В ночи особенно отчетливо слышались все звуки: удары молотов, шум пара, звон железа. Время от времени вспыхивало яркое пламя над домнами, освещая низкое черное небо. Порой в дождь над ними возникала странная маленькая ночная радуга.
Возле завода не смолкали людские голоса, скрип колес, ржание лошадей. Завод никогда не отдыхал, и человеческий муравейник вокруг него пребывал в непрестанном движении.
Выходя на улицу в эти ненастные дни, Дмитрий останавливался на горке, смотрел на огни завода, пытаясь обнять и понять все людские связи, проследить и понять судьбы десятков и сотен людей его горнорудного Урала.
Потом возвращался в тихий дом, проходил в отведенную ему комнату, зажигал лампу с покойным зеленым абажуром и садился за работу. Толстая пачка листов, исписанных мелким почерком, лежала справа. Каждую ночь к ней прибавлялись новые.
Только под утро угасал тихий свет в его комнате.
У Дмитрия кроме литературных занятий появились и побочные дела.
Он принял предложение Марьи Якимовны и три раза в неделю занимался с ее старшим сыном Владимиром.
Алексеева рекомендовала Дмитрия и в другие дома. Репетиторский заработок давал самостоятельность. Однако Наркис Матвеевич решительно отказался от денежной помощи, справедливо заметив, что эти деньги пригодятся Дмитрию в Петербурге.
Алексеевы жили в центре Салды в большом собственном доме из шести комнат, с высоким крыльцом, с конюшней, просторным садом, как и у Поленовых, спускавшимся к пруду. В зале стоял рояль, на нем – кипа нот. Хозяйка любила музыку.
С Марьей Якимовной быстро установились такие доверительные отношения, будто они сто лет были знакомы. Хотя хозяйка, мать троих детей, была старше Дмитрия на шесть лет, оба не чувствовали разницы в возрасте.
Урок с Володей продолжается полтора – два часа, беседы с Марьей Якимовной за чайным столом затягивались дольше. В первый раз Дмитрий в доме Алексеевых задержался из-за дождя. Внезапно хлынул такой ливень, нечего было и думать выходить на улицу. Потом беседы под чаепитие у обоих вошли в обычай.
В молодой красивой женщине Дмитрий нашел внимательного слушателя и интересного собеседника. По образованию и интересам она выделялась среди жен других служащих. Ее интересовали, как и многих, Петербург, условия студенческой жизни, тамошние занятия Дмитрия, но вопросы были глубже и шире. Она хорошо знала русских писателей, западных читала в подлинниках, а не в переводах, как Дмитрий. Суждения ее поражали Дмитрия тонкостью, в книгах она подмечала порой такие стороны, мимо которых он проходил.
Чаще всего они говорили о новых книгах близких обоим писателях. Марья Якимовна читала на память особенно дорогие ей стихи. Случалось, она присаживалась к роялю, играла любимые пьесы. Однажды пропела несколько песен Шуберта и незнакомого Дмитрию Эдварда Грига, и среди них песню Сольвейг. Знала и множество русских романсов.
Литература, поэзия, музыка… Все ей близко, все это знала не поверхностно. Таких женщин Дмитрий еще не встречал. Где и как, спрашивал себя Дмитрий, выходя из дома Алексеевых, ошеломленный очередной встречей, она, дочь крепостного рабочего, в этой глуши, не покидая Салды и Нижнего Тагила, получила такое широкое образование? Кто был ее наставником, развил вкус? И какие странные у нее отношения с мужем: вроде во всем чужие. Николай Иванович не проявлял никакого интереса к жене, находя всякие развлечения, главным образом за карточным столом, на стороне. Дмитрия поражало, что несмотря на возраст, а Марье Якимовне шел тридцать второй год, она сохранила душевную юность.
Их взаимное влечение росло и углублялось. Марья Якимовна, давно утратившая радость семейной жизни, одинокая в кругу знакомых, в Дмитрии обрела сочувствующего ей человека, внимательного и интересного собеседника.
– Отец мой по-своему не очень счастлив, – рассказывала она Дмитрию в порыве откровенности. – У него есть завод, любимое до фанатичности дело, которому он отдает свои силы. А больше ничего. От своих отстал и к другим не пристал. Меня никогда не баловал, как вы знаете, так принято в наших местах. Воспитывал, как воспитывали его – ни лишней ласки, ни лишнего внимания. Я всегда была далека от него, порой на отца даже взглянуть боялась. Тем более что девочка. С нами ведь обходятся более сурово, чем с мальчиками. Не знаю, как бы все сложилось, если бы не счастливые случайности. Приехал к нам инженер Черноусов с семьей: девочкой и мальчиком примерно моих лет. Чем-то я им понравилась, и они попросили отца оставить меня у них. Пять лет прожила у Черноусовых. Самые счастливые годы! Совершенно в другом мире! Родители и мы, дети, были равными сторонами. Никакого угнетения, никакой боязни перед ними, открытость в поступках, отсутствие лжи. Воспитывали нас пуритански: мы сами убирали постель, помогали в уборке квартиры. Они предпочитали жить без прислуги, держали только кухарку. Но зато – занятия, языки, музыка, книги, всякие игры. Были они людьми просто болезненной совестливости, волновались по поводу самой малой несправедливости. У Владимира Ивановича на этой основе на заводе происходило недоразумение за недоразумением. Из-за них они и уехали из Тагила. И я тоже невольно впитала непримиримость ко всякому злу, любовь к правде. Привыкла себя ограничивать в желаниях, жить без прислуги.
Случилось так, что вскоре очутилась в совершенно иной, тоже инженерной семье, приехавшей из Петербурга. В этом доме все было наоборот. Прислуга, роскошная обстановка, широкое общество. Тогда я не сознавала, зачем им нужна. Поняла позже. У них росла единственная дочь, и родители считали, что ей просто необходима подруга. Я ею и стала. Моему же отцу льстило, что такой важный человек ввел его дочь в свою семью на равных. Ежедневно у них собирались гости, засиживались за обеденным столом, за картами. По воскресеньям – многолюдные пикники. Тогда я и узнала этот, совершенно особенный мир заводских работников. К нам, девочкам, были приставлены прислуга, учителя, хорошие, из столицы – русский язык, грамматика, иностранные языки, математика, естествознание. Из Петербурга же приехал и учитель музыки, прекрасный музыкант, для которого из всех композиторов высшим среди музыкальных богов был Бетховен. Он меня и пению научил, поставил голос, уверял, что я обладаю прекрасным тембром голоса и слухом.
Вдруг все разом кончилось. Уехали… Можете понять, каким показался мне свой дом, в котором ничто не изменилось, какой тягостной показалась жизнь в нем. Темно, мрачно… Никакой музыки, никаких гостей, книги и те исчезли. А мне шел семнадцатый год… Спустя год я вышла замуж за молодого инженера. Пошли дети…
Они много говорили о тагильском обществе. Вокруг миллионных дел Демидова немало кружилось хищников и авантюристов. Становились фаворитами одни, разрушались карьеры других. Шла неустанная борьба за высокие места, за влияние. Торопились ухватить свое, не щадя ближнего, ничем не брезгуя.
В рассказах Марьи Якимовны вставал особенный мир, который окружал ее: заводская знать, занятая выколачиванием денег, злая, жесткая зависть к преуспевающим, постоянные интриги, лесть, предательство, мелкие бытовые сплетни и пересуды. Дмитрий поражался духовной силе этой женщины. Как она не потонула в этом глубоком омуте, не сломилась?
Марья Якимовна сочувственно выслушала признание, что главным в своей жизни он считает литераторство. Пусть, говорил он, его пока преследуют неудачи, он их одолеет, приобретет мастерство. Дмитрий подарил ей отдельное издание романа «В водовороте страстей», предупреждая, что понимает незрелость своего сочинения.
С Марьей Якимовной ему было легко, главное, хотелось говорить о самом сокровенном. Она понимала Дмитрия, как никто другой. Что его толкает к сочинительству? Пробудить общественное сознание – вот дело, достойное литературы. Встать на защиту угнетенного человека. Русский читатель не знает уральской действительности, она скрыта от него горами и дальностью расстояния. Здесь разыгрываются свои драмы. Буржуазные хищники – большие и малые, богатеющие на рабочем труде, ведут безнаказанное ограбление народа, такого же бесправного, как и при крепостном праве.
Как-то они с матерью разговорились об Алексеевых.
– Терпеливо несет Марья Якимовна свой долг жены и матери, – вдруг сказала Анна Семеновна. – Осуждать людей – грех великий. Николай Иванович много приносит ей горя. Хвалю ее за то, как она держит себя. Ох, как верно говорят: грех не по лесу ходит, а по людям.
Дмитрий готовился к отъезду в Петербург.
В начале августа он писал брату Владимиру, уехавшему в Екатеринбург, в гимназию:
«Пишу это письмо тебе, Володя, на скорую руку, потому что собираемся ехать в лес, куда-нибудь в сторону шушпановых лугов на Салде… В твое отсутствие особенного ничего не случилось в Салде, да едва ли когда что-нибудь здесь и случается особенное; я занимаюсь помаленьку своим делом, Лиза возится с географией да петухами, Серко жив и здоров, Николай ходит в свою контору, папа читает газеты, мама стряпает да читает наставления… В Пермь придется отправляться по всей вероятности в конце августа, чтобы не упустить каравана, на котором будут отправляться Демидовым вещи на парижскую всемирную выставку…»
С этой оказией, ради экономии, Дмитрий собирался поехать в столицу.
Но не поехал.
Опять свалила его тяжелая болезнь: простудился и заболел воспалением легких. Боялись рецидива петербургской легочной болезни. На ноги Дмитрий встал спустя почти два месяца, когда все сроки для возвращения в Петербург были пропущены. На семейном совете решили, что Дмитрию следует пожить дома, хотя бы до Нового года, чтобы окончательно поправиться.
Зима в Салде выдалась особенно суровой. Снега завалили поселок до самых крыш, ветви деревьев – в плотном куржаке, завод окутан туманом. Без особой нужды на улицу не выходили.
Петербургские газеты и раньше приходили в Салду с двухнедельным опозданием, а из-за морозов, снежных заносов стали приходить еще позже, да и то не каждый день.
«Санкт-Петербургские ведомости» от 29 декабря 1877 года, с кратким сообщением на третьей странице о смерти Некрасова, пришли в Нижнюю Салду в середине января.
Дмитрий смотрел на эти строки, и у него перед глазами плыли черные круги. Умер!.. Умолк благородный голос! Умер человек чистой совести. Какая потеря, какое горе легло на весь народ, лишившийся своего певца и печальника!
«Пали с плеч подвижника вериги, – читал он некролог. – И подвижник мертвым пал…» – это были слова самого поэта.
«Русская литература понесла видную утрату, – читал он дальше, – во вторник, 27 декабря, в 8 часов 50 минут скончался Николай Алексеевич Некрасов. Смерть эта, правда, не была неожиданностью. После операции, сделанной в марте нынешнего года, вызванным из Вены знаменитым хирургом Бильротом, Николай Алексеевич Некрасов был неустанно прикован к болезненному одру. Только несколько раз, в течение девяти месяцев, по совету врачей его, так сказать, вывозили на воздух. Сам он физически совершенно изнемог, хотя душевные силы не изменяли ему почти до последнего момента. С раннего утра, в понедельник, 26 декабря, он потерял сознание, и переход его в вечность совершился тихо и безмятежно. Он скончался на руках пользовавшего его врача, доктора Н. А. Белоголового. Из близких родных покойного поэта окружали его жена, брат и сестра. Другой брат, живущий в Ярославле, извещен о катастрофе по телеграфу, и его ждут завтра. Несмотря на роковую весть, сообщенную г. Белоголовым, домочадцы поэта, под влиянием понятного чувства, в первый момент, желали как бы подтверждения ужасной вести, и когда стало ясно, что Николай Алексеевич Некрасов окончил свою страдальческую жизнь, тотчас была снята с лица покойного полная маска для бюста. С сегодняшнего дня, в квартиру, которую занимал Н. А. Некрасов, в доме Краевского, на углу Литейной и Бассейной, приходили не одни друзья и знакомые, но и многие почитатели таланта поэта, поклониться его телу. Между прочим, художник Микешин явился и поспешил удержать на бумаге черты дорогого русского поэта. На первой панихиде, происходившей 28 декабря в 8 часов вечера, присутствовал довольно значительный кружок лиц, в котором литературный элемент имел немало представителей. Так, между прочим, можно было видеть гг. Салтыкова (Щедрина), Гончарова, А. Потехина, Суворина, Плещеева и других. Собственно вопрос, от какой именно болезни скончался Н. А. Некрасов, должен разрешить профессор Грубер, который приглашен родственниками для производства вскрытия. В четверг, 29 декабря, будут отслужены панихиды, в вышеупомянутой квартире в 1 час пополудни и в 8 часов вечера, а вынос в Новодевичий монастырь последует в пятницу, 30 декабря, в 9 часов. Не подлежит сомнению, что при отдании этой последней христианской услуги в лице безвременно угасшего для литературы деятеля, будет почтен народный поэт, который сам верно очертил значение своей музы:
Чрез бездны темные насилия и зла,
Труда и голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила…»
В том же номере газеты по странному совпадению шло сообщение о новом политическом процессе – о «Процессе 193-х».
…Дмитрий поспешно оделся и вышел на улицу в морозную стынь, испытывая настоятельную потребность увидеть человека, который сможет полностью разделить его чувства.
Этим человеком могла быть только Марья Якимовна. Теперь они, с прекращением репетиторских уроков, виделись лишь изредка. К ней он и направился.
Дмитрий стоял перед ней в прихожей и молча со странным выражением на лице смотрел неподвижно на нее.
– Что с вами? – вскрикнула женщина, отступая на шаг, держа в руках лампу. – Что-то случилось?
– Вы еще не знаете? – спросил тревожно. Он не мог перевести дыхания после быстрой ходьбы по холоду. Губы его дрожали. – Вот… – Он протянул Марье Якимовне газету.
Она, светя ему лампой, заставила его раздеться и пройти в комнаты.
Дмитрий сел на диван в углу, Марья Якимовна, опустившись рядом, ладонью коснулась его руки, лежавшей на столе.
– Спасибо, что вы пришли, – сказала Марья Якимовна. – Хорошо, что об этом я узнала именно от вас…
Он ничего не ответил, только быстро взглянул в ее серые, потемневшие глаза.
– Наверное, я не все сразу пойму, – продолжала она. – Сейчас только боль. – Она поднесла руку к сердцу. – Вот… – она чуть помедлила. – Почему-то… Как от потери самого близкого и дорогого человека.
Они не знали, что день похорон Некрасова, 30 декабря 1877 года, в Петербурге стал днем великой скорби.
Со дня смерти Пушкина чиновная столица самодержавной России не видела такого открытого выражения народного горя. Провожали в последний путь поэта-гражданина.
Длинная процессия, в несколько тысяч человек, вытянулась за гробом на пути в Новодевичий монастырь. Шли студенты, рабочие, учителя, крестьяне, актеры, ремесленники, писатели, объединенные одним чувством. Две крестьянки несли простой венок с черневшими на ленте словами: «От женщин». Сотни венков, пышных, дорогих и простых, скромных, купленных на трудовые копейки. И среди них, как знак признательности революционному поэту, невольному участнику и вдохновителю народной борьбы, венок – «От социалистов».
У могилы выступал Достоевский. Он говорил о народности поэта, о том, что имя Некрасова стоит в русской литературе вслед за именами Пушкина и Лермонтова.
Смелую речь произнес Плеханов.
«Каково бы ни было содержание моей речи, – вспоминал он позже, – факт тот, что я говорил языком совершенно недопустимым с точки зрения полиции. Это сразу почувствовала присутствовавшая на похоронах публика. Не знаю, по какой причине полиция не попыталась арестовать меня. Прекрасно сделала. Тесным кольцом окружавшие меня землевольцы и южнорусские бунтари ответили бы на полицейское насилие дружным залпом револьверов. Это было твердо решено еще накануне похорон…»
…Они продолжали говорить о Некрасове.
– С детства, – рассказывала Марья Якимовна, – его стихи вошли в мою жизнь, сохранились в памяти. С годами тянуло и к другим… Но его – никогда не забывались… Вы помните: «Постыдных, ненавистных уз отринь насильственное бремя и заключи – пока есть время – свободный по сердцу союз! Но если страсть твоя слаба и убежденье не глубоко, будь мужу вечная раба, не то раскаешься жестоко…»
Она замолчала.
Когда прощались, Марья Якимовна вдруг сказала:
– Мы с вами, Дмитрий Наркисович, в Салде видимся, вероятно, в последний раз. Вам скоро в Петербург, а я уезжаю в Тагил.
– Почему?
– Необходимо, – уклончиво ответила она. – Хочется пожить какое-то время в Тагиле. Нужно…
Он не стал расспрашивать. Ему вдруг вспомнились многочисленные слухи, ходившие в Салде о неблагополучных семейных отношениях Алексеевых. Дмитрий почувствовал, что без нее ему в Салде будет тяжело.
Нежданно переломилась вся жизнь семьи Маминых. Беда свалилась внезапно, негаданно.
Умер на пятьдесят первом году жизни Наркис Матвеевич.

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





