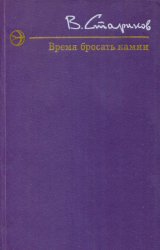
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
За порогом
Нужно было много лет, много страшного труда, чтобы вытравить все то зло, которое вынесено мной из бурсы, и чтобы взошли те семена, которые были заброшены давным-давно в родной семье.
Д. Н. Мамин-Сибиряк
1
Осенью 1864 года Наркис Матвеевич повез сыновей из Висима в Екатеринбург держать экзамены в уездное духовное училище – бурсу. С ними и сын дьячка, которого с детства в поселке звали Тимофеичем, – одногодок и друг Николая.
Они отъехали недалеко от дома, у ворот которого толпились провожающие. Отец остановил лошадь.
– Оглянитесь на дом, – сказал он сыновьям. – Вы тут росли. Никогда не забывайте к нему пути.
Прощай, родной Висим!
День выдался ясный, сухой. Скоро Висим скрылся, и потянулась знакомая пустынная в утренний час дорога на Тагил с увала на увал среди лесов, уже тронутых сильными красками осени.
Первая большая Митина дорога. Потом у него будет много и других, вынужденных и горьких, и тех, что он уже сам выберет доброй волей, но от этого не менее горьких. И все-таки ни одна из них не покажется такой длинной, как первая, и такой горькой.
Душевно тяжким оказался неизбежный разрыв с родными местами. Какую-то часть пути Митя замечал только верстовые столбы, уводившие его все дальше от Висима. Вот уже три версты… Вот показалась и пятая… Где он теперь, дом?.. А вот и четырнадцатая верста, где стоит неприметный и обыкновенный столб, обозначающий таинственную границу Европы и Азии… Вот уж сколько проехали! Завтра они будут так далеко, что пешком домой и не вернуться.
Потом его внимание стало отвлекаться. Показался длинный обоз, груженный тагильским чугуном для Висимского завода. Возчики шагали рядом с телегами. Все они поочередно снимали шапки, здороваясь с отцом.
– Далеко наладились, отец Наркис? – спросил один из возчиков, даже придержав лошадь.
– В Екатеринбург… Сыновья в училище поступают.
– Доброе дело. Дай им бог счастья!
Ночевали в Черноисточинске. Утром тронулись дальше и в полдень въехали в Нижний Тагил – престольную столицу Демидовых. Город открылся им сначала Лысой горой, на которой стояла караульная башенка, потом блеснул широкий заводской пруд, за ним по другому берегу тянулся густой господский сад, среди деревьев которого виднелся и господский дом. Показался завод, самый большой среди заводов Демидова, с высокими черными домнами, над которыми висело сине-сизое облако дыма. Сверкали купола церквей.
Недалеко от завода, на крутой горке, фасадом на площадь перед Входо-Ерусалимской соборной церковью, высилось большое каменное здание с колоннами – главная заводская контора. Тут же на площади возвышался памятник Николаю Никитовичу Демидову, третьему в поколении этой фамилии, умершему в 1828 году, поставленный им себе еще при жизни. Об этом странном памятнике зазнавшегося потомка Демидовых Митя наслышался в Висиме. Отливали его итальянские мастера. Главная фигура – Демидов, в придворном кафтане екатерининских времен, с широкой лентой через плечо, с орденами, протягивает руку коленопреклоненной женщине в короне и древнегреческом костюме. По углам пьедестала четыре бронзовые группы из двух фигур – мужской и женской. На первой маленький Демидов с книжкой, на второй он же, высыпающий из рога изобилия плоды просвещения, на третьей – в военном мундире, и на четвертой, в старости, – покровитель наук, искусств и торговли. По замыслу памятник должен был выражать преклонение России перед Демидовым, его этапы жизни. У них же в Висиме все толковали проще: жена благодарит Николая Никитовича за оставляемое ей наследство, а по бокам – их деточки.
После тихого Висима каменный Нижний Тагил показался Мите многолюдным и шумным.
Но вот и Нижний Тагил остался позади, а с ним словно окончательно оборвалось все, что связано с Висимом.
Они увидели еще один город Демидовых – Невьянск, с высоко поднимающимся куполом Преображенской церкви. Рассказывали, что в ризнице храма хранятся богатейшее Евангелие 1698 года, украшенное изумительными по чистоте красок четырьмя уральскими крупными аметистами, и весящее пуд и девять фунтов платиновое копье, и серебряный напрестольный крест, украшенный чеканкой, сделанной в 1709 году настоятелем Долматовского монастыря.
Но, конечно, главной достопримечательностью Невьянска была наклонная башня, о которой ходило множество мрачных преданий. На башне красовались куранты, одиннадцать громкоголосых колоколов вызванивали мелодию царского гимна.
Все это было внове и на какое-то время увело Митины мысли от страшной бурсы.
Перед Екатеринбургом остановились на дневной отдых и кормежку лошадей в ложке́, где среди густых зарослей черемухи и черной смородины бежал, ударяясь о гладкие камни, проворный и звонкий ручей.
Они только расположились, отпустили пастись лошадей, наладили костер, над которым подвесили чугунок для варева, как с дороги к ним свернули пять телег и остановились рядом. Среди подводчиков оказались знакомые Наркису Матвеевичу с Межевой Утки.
Сначала поговорили о том, кто куда и откуда… Пожалели Митю с Николкой – больно малы, от мамки-то вроде рано им еще… Потом подводчики достали из мешков крошившийся хлеб, кусочки серого сахара. Долго пили чай, заваренный брусничным листом, дули и чмокали, перебрасываясь незначительными словами. Митя уж и слушать перестал – неинтересно. Он разглядывал облака, смотрел, как кружатся верхушки елей, тревожимые ветром, чуть было не задремал. Но звуки голосов, долетавших до него, вдруг начали меняться, они становились резче и острее. Горечь, обида, тревога придали им новую окраску, и Митя весь обратился в слух. Особенно выделялся чей-то густой басок.
– Обманули народ, – негодующе гудел густой голос. – Воля, воля… Какая она? Были мы господскими, господскими и остались. Только теперь драть нас попусту нельзя. Посуди сам о нашей жизни, отец Наркис. Какая же это воля, коли мне, Кривому, с места сдвинуться нет возможности? Отойди я на другое место, скажем, на завод Строганова, – покос отберут, лесной делянки лишат. Под избой земля и та не моя – господская, за нее платить надо. А в заводе как стало? Раньше – он обязан был содержать меня, всегда работу давал. А теперь скажут: «Кривой, шабаш… Не ходи больше, не нужен…» Вот и дуй в кулак, пока тебя опять не покличут. И в заводе тебе дела нет, и на сторону не смей ходить. С этой самой волей мы теперь в такую неволю попали! Дали нам не волю, а злую долю – голодать вволю…
– Колесо получилось, – вступил другой голос. – Обманули народ. Нас, крестьян, в мастеровые перевели и всей земли лишили. Хочешь взять землицы – плати за нее.
– Покосы рабочим урезали, – вновь вступил басистый, – а за те, что оставили, платить надо по четыре с полтиной. А как их добыть? На заводе больше четырех рублей не заробишь. За усадьбу опять плати. А почему? Как жить, отец Наркис, как? Ведь обманули народ!
– Ваши висимские, слышали, побегли в башкирские степи, да и возвернулись, – поддержал его другой. – Теперь вовсе маются: что имели – потеряли…
И до этого Митя слышал такие разговоры: тяжелее стало жить, не к чему приложить руки, нужда вздохнуть не дает. Сколько людей со своим горем побывало у них в доме. В заводе на всех работы не хватает, на соседних тоже в рабочих не нуждаются. Многие семьями бьются на золотых и платиновых россыпях, еле намывая копейки на пропитание. Другие уходят далеко от родных мест за Урал, в русские губернии, где строят железные дороги. Висим пустеет, появляются заколоченные избы, и неизвестно, вернутся ли в них хозяева?
Митя повернул голову, увидел отца. Он сидел на камне, согнувшись в поясе, склонив голову. Казалось, он задумался, как же ему ответить на все, что сейчас говорили?
– И все-таки народу даровано главное благо, – услышал Митя его тихий голос. – Вы же, и дети ваши, теперь свободные. Кончилось позорное рабство, тирания над людьми. Великое это благо. Цените его… Можете по разумению своему складывать жизнь… Жестокость смягчится, найдется вам дело для рук… Все утрясется постепенно, наладится. Только употребите с пользой дарованную вам человеческую свободу…
– Да, конешно, утрясется… Слова хорошие… – сказал кто-то из мужиков.
Остальные молчали.
Закат жарко пылал в этот вечер, а потом наступила ночь – последняя в их дороге. Митя долго не мог заснуть. Лежа на спине, смотрел в небо на мерцающие звезды и думал, думал о предстоящей жизни.
И вдруг к нему пришла тяжелая, не детская мысль, что, может, сейчас он теряет самое дорогое, о чем будет всегда жалеть.
Что ждет его завтра? Как встретит его бурса?
Отец почти ничего не рассказывал о ней, даже избегал таких разговоров.
– Нас отдавали восьмилетними ребятишками, а вы уже в годах, можете жить своим умом, – обмолвился он однажды. – Нас плохо одевали, плохо кормили, жили мы в сырых темных комнатах. Вам, говорят, не придется такого испытывать, и потому вам легче будет.
Добродушный дьякон отец Николай, любивший заглядывать на чаепитие к Маминым, тоже прошел в юности сквозь огонь, воду и медные трубы всей бурсацкой жизни. Он рассказывал множество веселых историй и похождений семинаристов, весьма близких к повестям Гоголя. Не раз читал вслух «Очерки бурсы» Помяловского и мастерски изображал в лицах героев, заливаясь смехом чуть ли не на каждой странице.
2
С севера натянуло тучи, похолодало, и зарядил дождь.
Екатеринбург встретил висимцев потемневшими от сырости хмурыми домами. Бесконечные прямые улицы во всю ширину загустели грязью. Лошади с трудом тащили экипаж. Даже на Главном проспекте – ни проехать, ни пройти. Чуть получше было возле громады кафедрального собора в центре, вокруг которого стояли красивые каменные здания, пестрели вывесками магазины. Но как только свернули в переулки, так опять лошади зашлепали по грязи.
Город, огромный, холодный, неуютный, в котором предстояло остаться, угнетал.
В подавленном настроении, плохо выспавшись, шел на следующее утро Митя сдавать экзамен. Отец вел сыновей и Тимофеича к смотрителю духовного училища на приемные испытания. Трое мальчиков из Висима ответили на все вопросы, и их зачислили на высшее отделение Екатеринбургского духовного училища. Николай, в отличие от брата, не жаловавший книжку, держался спокойно, самостоятельно. Хуже обоих отвечал робкий Митя, поэтому его зачислили условно.
Отец определил сыновей на квартиру и поехал за шестнадцать верст в Горный Щит навестить тестя Семена Степановича, пообещав на обратном пути заехать попрощаться…
Первые учебные дни, первое знакомство с бурсацкими порядками, товарищами потрясли Митю. Все было, как в книгах и рассказах о бурсе. Но одно дело услышать веселые рассказы дьякона отца Николая или прочитать, а другое – увидеть своими глазами, испытать на своей спине. Старшие шестнадцатилетние верзилы сразу устроили новичкам свои «экзамены». Дергали за уши, за нос, волосы. Грубость и сила – вот что было самым главным в отношении к младшим. Жестокость одних рождала ответную у других. Жестокость бессмысленную, ничем не оправданную. Просто из желания увидеть на лице жертвы выражение страха, ужаса, насладиться минутой своей власти и силы.
Появились самодеятельные расправы, может быть, потому, что учебное начальство практиковало жестокие наказания розгами, от предчувствия которых терялись и бледнели даже сильные и отчаянные бурсаки.
В ходу было такое выражение: «Кожа наша, воля ваша; розги казенные, люди наемные – дерите, сколько хотите…»
Митя выглядел слабеньким; бледным лицом он выделялся среди других. Ему первому из троих пришлось испытать, что такое «смазь» ладонью по лицу, «вывертка», когда выкручивают кожу на руке, попал он и в «темную». Он теперь ежеминутно ожидал какой-нибудь обиды, насмешки, нападения любого соседа, поэтому в классе слушал невнимательно, с трудом понимал учителей. Привыкший к домашней тишине вечерами, он не мог сколько-нибудь прилежно заниматься в общей шумной комнате.
Потянулись страшные для него дни…
Отец, заехавший из Горного Щита проститься с сыновьями, поразился, увидев осунувшееся лицо Мити.
«Я лег с отцом, – писал в поздних воспоминаниях Дмитрий Наркисович. – Я рассказывал ему все подробно, он меня слушал. Я ему говорил, что не могу понять учителей, что мне трудно вечерами готовить уроки, что у меня болит голова, и в заключение заплакал. Отец внимательно слушал и потом заговорил. Он много говорил, но я не помню всего. Он говорил мне, что ему меня жаль, потому, что я такой «худяка», что мне трудно учиться здесь, но что он все-таки должен отдать меня сюда».
Это ведь было от бедности, и сын понимал отца.
Мальчик увидел, что и отец заплакал. Второй раз в жизни он видел отца плачущим. Впервые это было, когда умер от крупозного воспаления легких двухмесячный брат. Но тех слез Митя, сам маленький, еще не понимал. Теперь же это были слезы сочувствия отца его горю, и он в свою очередь пожалел отца.
Сдержанный Наркис Матвеевич никогда не рассказывал, через какие тяжкие испытания сам прошел в этой бурсе, попав в нее восьми лет. Его отец, Матвей Петрович, дьякон Вознесенской церкви, как раз покидал Екатеринбург, перемещенный по службе в село под Ирбитом. Какие это были тяжкие для маленького Наркиса дни! Как же он заблуждался, полагая, что теперь в бурсе иные порядки.
Наркис Матвеевич испугался. Он почувствовал: впечатлительный и слабый здоровьем Митя, если поживет здесь подольше, может так надломиться, что потом не поправишь. В четвертый класс духовного училища можно поступать и в восемнадцать лет. Мите только двенадцать. Надо вернуть его домой, пусть поживет годика два в Висиме, окрепнет, а потом – снова в бурсу. Пусть, пусть окрепнет…
Каким радостным и счастливым было неожиданное возвращение в родной Висим! Митя смотрел на знакомые окрестности и предметы во все глаза. Вот что он мог утратить! Но, слава богу, страхи позади, опять кругом знакомые приветливые лица, домашний уют. Быстро и легко полетели дни дома.
Два года отсрочки! Это так много! А там видно будет! Может, к тому времени изменится что-нибудь и ему не придется ехать снова в бурсу, которая теперь особенно пугает. Как-то там приходится бедному Николе? Он старше его, бойчее, сильнее, может, сумеет постоять за себя.
Но как выразить всю сердечную признательность матери за то, что ни слова упрека за слабость и бегство домой не вырвалось у нее? А тревоги родителей за будущее детей уже становились Мите понятными.
Митя чувствовал себя виноватым перед родителями: Николка в училище, не теряет времени, а он дома, бьет баклуши, поэтому старался во всем быть полезным: гулял с маленьким братом Володей, следил за ним, помогал матери по хозяйству.
Книги и раньше были большими друзьями Мити, но теперь пришло особенное увлечение ими. Читал все: переплетенные томики отцовской библиотеки и которые удавалось достать со стороны. Пушкин, Гоголь, Некрасов, Загоскин, Марлинский, Лажечников; научно-популярные книги «натуральных знаний» о явлениях природы, истории, жизни народов, населяющих землю.
Угловая комната, выходившая на запад, называлась чайной. Митя любил сидеть в этой комнате и смотреть через окно в ту сторону, куда закатывается солнце, там были Москва, Петербург, откуда приходили книги, и Митя мечтал когда-нибудь увидеть этот далекий мир.
Несколько дней в бурсе помогли его развитию, он обнаженнее увидел зло.
Однажды отец принес из заводской конторы книжку журнала «Современник» и сказал Анне Семеновне:
– Прочитай-ка, о наших людях она написана. О бедных крестьянах-пермяках. До слез правдиво. Теперь голос этих несчастных вся Россия услышит.
Это была повесть Федора Решетникова «Подлиповцы».
Она не миновала и Мити.
Он начал читать и уже не мог оторваться, пока не закрыл последнюю страницу. Так и стояли перед ним два бедолаги – Пила и Сысойка. Словно щепки по весенней воде несет их мимо чужой жизни, нигде они не могут удержаться, не за что им уцепиться, нет для них в этом мире спокойной пристани, теплого уголка…
Вон куда их занесло от Соликамска – на Чусовую, в близкие Мите места. Как же хорошо описана Чусовая!
…Несет барку сильной водой, бегут крутые берега.
«Вон под горой лес показался, речка бежит, а там вдали деревушка под горой стоит, и серые поля с грядками видятся… Вон село какое-то с деревянной церковью, ишь какие крыши высокие, так вот и кажется, что дома друг на дружке лепятся. Вон опять поле, плетнем огороженное. Какой-то мужик в телеге едет… А вон налево лес горит, и тушить-то его некому. А вон мужики куда-то бревна везут. Вон в лодке мужик с бабой реку переезжает. И все плывет, идет, бежит куда-то…»
Обыкновенные слова. А как хорошо все видишь! Жалко бурлаков, когда они тянут бечевой барку. Солнце их жжет, в болоте ноги вязнут, потом дождь обрушивается на них. А они все идут, идут…
Вот и надорвались Пила и Сысойка… Оба умерли…
«Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти для себя что-то лучшее».
Закрыта последняя страница повести. В жизнь Мити вошло нечто новое – большое и тревожное. Вот как живут люди!
Он читал «Капитанскую дочку», и перед ним вставали, словно живые, все герои повести: бедный офицер Гринев, так незадачливо сталкивавшийся с Пугачевым и его ближайшими сподвижниками – беглыми, отчаянными людьми, изведавшими плети и носившими клейма разбойников, жестокими и беспощадными бунтарями, которых побаивался и сам атаман.
Мите вспомнилась «машинная», где совсем недавно приводились в исполнение приговоры над заводскими людьми и изловленными беглецами, вспомнилось еще, как в тихий Висим прибыла полусотня казаков и устроила самую настоящую обложную охоту на разбойника Савку. В конце концов Савку схватили, казаки торжественно провезли через поселок прикованного к телеге разбойника, а Савка, оглядывая толпу, кланялся во все стороны и все просил: «Братцы, простите…»
От разбойников мысли Мити перекинулись совсем к другому – к недавнему трагическому событию. Многие висимцы, потеряв заработок на заводе, двинулись ранней весной артелью на Чусовую, на сплав демидовского металла. В это время там всегда была большая нужда в людях.
Вешняя вода была после снежной зимы большой, бурной. До Висима дошли слухи, что некоторые барки разбились о каменные выступы на реке – «бойцы», многие потонули.
Слухи подтвердились. Однажды в полдень показалась печальная процессия: на двух телегах везли утонувших висимцев. Сразу пять многодетных семей потеряли кормильцев…
…Отец, заметив томик Пушкина в руках сына, одобрительно сказал:
– Читай, Митя, внимательно великих писателей. Они несут добрые мысли. – Он раскрыл книгу. – Слушай, что говорит Пушкин: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Запомни эту мысль!
Кроме книг, Митя особенно пристрастился к рыбной ловле, к лесным походам в неведомые раньше места, исходив все окрестности Висима. В этих скитаниях его наставником стал «ветхозаветный» дьячок Николай Матвеевич – страстный рыбак и охотник, прекрасный рассказчик, редкой доброты человек. Ему были известны всякие потайные лесные урочища, богатые птицей и зверьем, самые клёвные места на многих речках. Ночевки в балаганах у старателей или под открытым небом у костра приносили простые и незабываемые радости.
«Самое главное, что привлекало нас в нем, – было необыкновенное «чувство природы», – писал позже о своем спутнике Дмитрий Наркисович. – Такое чувство есть, и, к сожалению, им владеют очень немногие… По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность, – тут сухарина (сухое дерево) пала и придавила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина подломала. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У старика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или иным образом жизнь. Он заходил навестить их, как своих воспитанников, и торжествующе любовался.
…Жизнь природы, в совокупности всех ее проявлений, в глазах Николая Матвеевича была проникнута неиссякаемой красотой. И любой камень, и каждая травка, и маленький горный ключик, и каждое дерево, – все красиво по-своему. Какими красивыми лишайниками точно обтянуты камни в горах! А мхи, папоротники, цветы – что может быть красивее?»
Приходили рождественские святки с заманчивыми посиделками, заполненными смехом и играми молодежи, представлениями ряженых, веселыми забавами на хрустком снегу.
Разве можно променять добровольно такую жизнь на бурсу? Родители мало стесняли сына, понимая, что это его последние, вольные месяцы.
На летние и зимние вакации из Екатеринбурга приезжал Никола с другом Тимофеичем. Брат заметно осунулся, синие тени залегли под глазами. Характер его изменился, даже с родителями Никола стал грубее и развязнее. На улице они с Тимофеичем держались наособицу, заносчиво, дерзко, не боялись кого-нибудь и задеть, чуть что – в драку. Бурсаки!
Неохотно Никола вступал в разговор с братом о бурсе. Больше отмалчивался или, непонятно щурясь, цедил сквозь зубы:
– Скоро сам узнаешь… Что я тебе буду рассказывать… Погоди чуток… Только смотри, когти остри…
Однажды, возвращаясь задами с речки, Митя наткнулся в дальнем углу усадьбы на Николу с Тимофеичем, увидел их и глазам не поверил. Приятели лежали, развалившись на траве, и курили.
Никола все же смутился, поспешно вдавил окурок в землю.
– Не вздумай дома болтать, – с угрозой сказал он. – Не ябедничай… Худо будет, знай. Ябедникам пощады не бывает… Все бурсаки подымить любят, нечего шары пялить.
Впервые старший брат так отчужденно заговорил с ним.
Как-то Митя стал невольным свидетелем тревожного разговора родителей.
– Очень сильно беспокоит меня Никола, – говорила мать с болью. – Каким-то равнодушным становится. Словно и дому родному не рад, никто ему не мил. Скрытничает. И лгать научился… Поймаешь его на неправде, а он даже не смущается…
– Да, да, – подтвердил отец. – Страшусь я за него.
«Нет письма от Коли, – записала спустя какое-то время в дневнике Анна Семеновна. – Чего я не передумала о нем, и жалею о нем, жалею его прошлое, что мы дурно его воспитывали. Неужели рассеянность и невнимательность в нем врожденные склонности или они развиты дурным воспитанием? Сколько у меня страха за настоящее, будущее наших детей. Будут ли они честными, трудолюбивыми, воздержными, полезными для других в чем-нибудь добром?»

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





