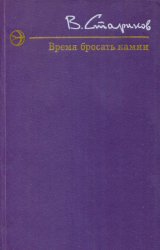
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Каменный трехэтажный дом, прорезанный узкими окошками, даже внешне выглядел запущенным, неопрятным. То и дело хлопала калитка, выпуская на улицу закутанных в рванье людей. На маленьком дворике собаки рылись в мусоре, разгребая его лапами, не обращая внимания на людей. Пожилая простоволосая женщина, в кацавейке, сошла с крыльца с деревянным ведром, сделала несколько шагов и выплеснула почти под ноги молодым людям мыльную воду на зашипевший снег. Она равнодушно взглянула на незнакомых и молча повернула назад.
В темных сенях переписчики нащупали дверь и вошли в первую квартиру. Духота, смешанная с застоявшимися запахами давно не проветриваемого помещения, ударила им в лицо. Плакал надрывисто ребенок, слышалась громкая женская перебранка.
Дмитрий Наркисович шагнул в первую справа комнату и остановился, приглядываясь. Тусклый свет едва пробирался сквозь запыленные серые стекла окон. Комната была разгорожена ситцевыми занавесками на крохотные клетушки. За каждой шла своя жизнь. У самой двери стояла лохань, почти до краев полная помоев. Под ней натекла лужа. Под столом, посверкивая голыми посиневшими задиками, возились детишки, на которых ничего не было, кроме коротеньких рубашонок. За грязным, засаленным столом сидел худой лохматый мужчина лет под пятьдесят, с опухшим лицом, пил чай из кружки. Тяжелыми похмельными глазами он посмотрел на вошедших без всякого интереса.
Со знакомства с ним и начали переписчики. Он оказался переплетчиком, месяц назад потерявшим работу, отцом троих маленьких ползунков.
Пока они разговаривали, комнату заполнили любопытствующие. Серые нездоровые лица, непричесанные лохматые волосы, мутные глаза. Несколько женщин пришли с грудными детьми. На вопросы все отвечали нехотя, с некоторым испугом.
Дмитрий Наркисович попытался выяснить, сколько семей живет в этой комнате, но квартиранты никак не могли этого установить. То насчитывали восемнадцать человек, то двадцать четыре.
– Чего Никифора считать, – врезался чей-то дребезжащий голос. – Он, почитай, вторую неделю глаз не кажет. Говорят, что в полиции.
– Как не кажет, – возразил женский голос. – Позавчера разве не ночевал? И опять Нюшка от него голосила.
– Да она и без него каждый вечер голосит, когда водки нажрется.
О Никифоре решили выяснить у самой Нюшки. Ее, спящую, отыскали за одной из занавесок. Она поднялась, разлохмаченная, в застиранной кофточке без рукавов, едва прикрывающей большие груди. Молодая еще женщина, с нездоровым цветом лица. Долго не могла понять, что от нее хотят. Попытались поговорить с ней. На вопрос о занятии она стыдливо опустила глаза.
– Гулящая она у нас, – просто пояснил кто-то. – Ну, сами знаете поди… Весь Смоленский бульвар Нюшку знает… Служила в кормилицах, да прогнали ее. Теперь, опять же, Никифор…
Первый день оставил гнетущее впечатление. Так продолжалось и на второй и следующие дни. Кого только они не встречали! Просто спившихся, потерявших всякую надежду когда-нибудь подняться, бедняков, бьющихся каждодневно ради пятака, бывших солдат, не нашедших своего места в обычной жизни, крестьян, разоренных поборами, не знающих куда приткнуться, увечных мастеровых. Были и просто оборванцы, или, как их звали, золоторотцы. Особенно отчаянным казалось положение женщин с детьми, лишенных мужской поддержки, перебивавшихся грошовыми случайными заработками.
Однажды Дмитрий Наркисович увидел Толстого, выходившего из калитки соседнего дома. Его провожала толпа оборванцев. Растерянно оглядываясь, граф-писатель совал им в ладони мелочь. Потом, слабо махнув рукой, сгорбившись, пошел в сторону Смоленской площади.
– На Урале много по заводам бедных, очень бедных, – говорил вечером Мамин Марье Якимовне, делясь впечатлениями. – Но такого растоптанного человека я там не видел. При всей нищете они все же остаются людьми, сохраняют чуточку чувство достоинства. А тут растоптаны, совершенно растоптаны, уже ничего человеческого не осталось… Занесут в статистику их, составят таблицы нищеты. И что из того? Как изменится их положение?
Позже, все тревожимый мрачными впечатлениями переписи, зрелищем крайней нищеты, распада личности, он решил написать статью «Жертвы статистики». Начал ее с описания, как собрали счетчиков в думе, как он оказался в группе у Л. Н. Толстого и как утром пришли к нему в дом. Но, написав две страницы, отложил рукопись, а потом не вернулся к ней. Только эти первые два листочка начала статьи и остались в архиве писателя.
В столице после цареубийства все было насыщено гнетущими, темными предчувствиями. Суды, аресты, ссылки стали чуть ли не обыденным явлением. Обывателя держали в страхе, укрепляя его в мыслях, что все зло исходит от смутьянов и ненавистников царя. Закручивался пресс цензуры над демократическими журналами. Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы автора сослали на житье в более или менее отдаленное место. Многие литераторы уже отправились в это вынужденное «путешествие». Мамин даже предупредил Анну Семеновну:
«Володя пишет немного резко по некоторым вопросам, а письма часто теряются на почте – из чего может выйти пренеприятная для него история. За одно слово можно много беды понести».
Монархисты в своем рвении защиты престола шли далеко.
В редакции «Русских ведомостей» Мамин просматривал гранки своего очередного путевого письма, готовя его для печати, выискивая ошибки наборщика. Василий Михайлович Соболевский, редактор, наклонившись через плечо Мамина, взглянул на узкие бумажные полоски.
– Вы из краев царствующего на Урале Демидова, – сказал Василий Михайлович. – На досуге прочитайте-ка эти листочки сочинения Михаила Евграфовича. Тут и о вашем Демидове есть язвительные строчки. Князь Сампантре – ваш светлейший Сан-Донато. Оказал крупную денежную помощь монархистским дружинникам.
Дмитрий Наркисович уже слышал, правда мельком, о таинственной «Священной дружине».
Верноподданные монархисты из высших кругов, яростно защищавшие трон, создали организацию «Священная дружина». Замышлялись политические убийства не только в России, но и за границей. Возглавлял ее, конечно, скрытно от общества, сам министр Двора и начальник царской охраны граф Воронцов-Дашков. Поддерживали «Священную дружину» крупными денежными взносами богатейшие магнаты. Чуть ли не самый щедрый дар последовал от скупого в тратах на улучшение жизни рабочих, закрывавшего школы и больницы на своих заводах, о чем писал Мамин в путевых заметках «От Урала до Москвы», П. П. Демидова.
Салтыков-Щедрин в третьем письме своего большого политического цикла «Писем к тетеньке» весьма и весьма прозрачно намекнул на существование зловещей «Священной дружины», раскрыл ее цели в борьбе со всеми инакомыслящими. Дерзкое сочинение, запрещенное жесткой рукой Александра III, вопреки монаршей воле все же появилось в заграничных изданиях, а оттуда, в оттисках, попало к читателям в Россию.
Это нелегальное будоражащее сочинение Салтыкова-Щедрина и держал в руках Дмитрий Наркисович.
Его поразила гражданская смелость писателя, не побоявшегося разоблачить «Священную дружину», не беспокоясь о личной судьбе своего редакторского дела. Как метко снова разило перо сатирика своих политических врагов! С каким ядовитым сарказмом преследовал он душителей свободной мысли! Дмитрий Наркисович проникся еще большим уважением к бесстрашному редактору «Отечественных записок», такому последовательному в защите своих убеждений, так смело выступающему против врагов.
Разве это не пример истинной гражданской доблести всем русским литераторам?
Печатание очерков «От Урала до Москвы» в газете «Русские ведомости» завершилось в середине февраля 1882 года.
К этому времени решилась судьба рассказа «Старатели», принятого в «Русской мысли». Скабичевский сообщил, что очерк «На рубеже Азии» набирается для мартовской книжки журнала «Устои», редакция журнала «Дело» известила, что ею приняты два рассказа «Все мы хлеб едим…» и «В камнях».
Именно в эти журналы резко выраженного демократического направления, где появлялись произведения самых уважаемых писателей, живущих интересами народной жизни, и где в условиях строжайшей цензуры прорывалась русская передовая мысль, стремился Мамин. Гонимые официальной властью, подвергающиеся постоянным цензурным опалам, они были наиболее почитаемые среди передовой интеллигенции. Яркие огни в сумерках повседневной жизни. Связывал свою литературную судьбу Мамин и еще с двумя журналами, для которых готовил рассказы, – с «Вестником Европы» и особенно с «Отечественными записками».
«Милая мама, – писал сын Анне Семеновне в феврале 1882 года, – ты можешь себе представить мою радость. Десять лет самого настойчивого и упорного труда начинают освещаться первыми лучами успеха, который дорог именно в настоящую минуту по многим причинам. Целый вечер я провел, как в лихорадке, и едва в состоянии был заснуть. Мы долго и много говорили с Марьей Якимовной и жалели только об одном, что нет бедного папы, который порадовался бы нашей общей радостью…
Хорошо помню, как я приехал в Москву с одними надеждами в карманах и с благочестивым желанием честно трудиться, всего прошло каких-нибудь полгода, и декорации переменились, и даже редакция «Дела» выражает скромную надежду иметь меня своим сотрудником и далее. Да, глупая штука счастье: то не имеешь лишнего двугривенного на обед, то валятся сотни рублей».
16 марта 1882 года стало для Дмитрия Наркисовича памятным днем. Он раскрыл только что полученную третью книжку журнала «Дело» и увидел напечатанным свой рассказ «В камнях», впервые подписанный псевдонимом: Д. Сибиряк.
Дмитрий Наркисович осторожно положил журнал на стол перед Марьей Якимовной.
– Исполнилось… Говорят, что у каждого человека бывает пора собирать камни и время бросать их. – Голос его дрогнул. – Кажется, ко мне пришла пора бросать камни. – Он задумался. – Золотой заветной моей мечтой было посвятить себя честной работе, приносящей пользу людям. Я всегда думал, с того еще времени, когда только-только начинал писать, что жить надо так, как велит нам наша совесть, наш долг, наша любовь к людям и самое горячее сочувствие к человеческим страданиям. Говорил себе, что буду идти этим путем. Готов был даже клятву дать… Часто слышишь – черные люди, серый народ, – продолжал он дальше горячую речь. – А его почти девяносто миллионов – подавляющее большинство населения. Ему, черному люду, мы обязаны многим – он создавал язык, историю. Мы все в большом долгу перед ним. Литература должна принадлежать народу – это мое твердое убеждение. Порой ему складывают сладкие песни и посвящают сказки. Надо же не бояться и суровой правды, показывать не только красоту натуры русского человека, но и все темное, принижающее его, раскрывать все ужасающие обстоятельства его жизни. Так что я в лагере тех, кто посвящает себя народной жизни. Спустя несколько дней, сообщая матери о появлении в журнале рассказа, Дмитрий Наркисович делился с нею, что исполнилась наконец его давно желанная мечта. «Я глубоко счастлив этим первым успехом», – признавался он.
Демократизм, обращение к народной жизни отличало и несовершенные рассказы Мамина студенческой поры. Прошли годы учения, годы накопления сил. Он приобрел уверенный писательский голос, заявляя о себе первыми публикациями в демократических журналах как о писателе народного направления.
Журнал «Дело» – заметная трибуна. В разное время в этом журнале сотрудничали Г. Успенский, Ф. Решетников, В. Слепцов, П. Засодимский. С его страниц слышались голоса Писарева, Шелгунова, Ткачева, увлекавшие своими идеями молодые поколения. Известный своим устойчивым демократическим направлением, он первым открывал дорогу уральским рассказам нового автора – Д. Сибиряка. Само по себе печатание в «Деле» уже было писательской победой. Она не оказывалась случайной. С «Делом» у Мамина устанавливались прочные отношения.
Рассказ «В камнях» – о путешествии автора поздней осенью на полубарке, груженной штыковой медью, от пристани Межевая Утка до пристани Кыновский завод. Он был написан Маминым в три дня, в промежутке между работой над письмами «От Урала до Москвы» и другими вещами. Давно выношенный, давно написанный в воображении, он лег на бумагу почти без помарок. Так ярки были юношеские воспоминания о плаваниях по Чусовой.
Хотя сам Мамин был вроде и невысокого мнения о рассказе, о чем можно предположить по его письму к матери, считал его, скорее, лепетом литературного ребенка, имея в виду вынашиваемые им замыслы больших романов, но это, скорее, пожалуй, шло от молодого задора, уверенности в своих силах – еще и не то могу!
Все события в этом рассказе развертываются в коротком семидесятиверстном путешествии со сплавщиками, плывущими в Левшино по Каме. Тут появились выписанные рукой большого художника первые герои Мамина из самых низов рабочей жизни, люди трудовых профессий. С них начиналась его многолюдная галерея героев Горного Урала.
Вот колоритная фигура сплавщика Окини:
«Ему на вид лет шестьдесят, но он выглядит молодцом. Кафтан из толстого серого сукна ловко сидит на его широких плечах; из-под кафтана выбивается ворот пестрядинной рубахи, плотно охватывая его могучую бронзовую шею, испещренную целой сетью глубоких морщин, точно она растрескалась под действием солнечного жара и непогоды… Широкое лицо Окини, обрамленное небольшой русой бородкой, выглядит добродушно, и по его широким губам бродит неизменная улыбка. Из-за белых чистых зубов Окини так и сыплются бесконечные шуточки, прибауточки, пословицы и присказки».
Привлекательно представляет автор и молодого сплавщика Афоньку.
«Можно им залюбоваться, – пишет он. – Ему едва минуло семнадцать лет, но какая могучая сила в этой белой груди, которая так и выпирает из-под разреза рубахи-косоворотки; какое открытое смелое лицо с прямым правильным носом и большими серыми глазами!»
Разный люд плывет на полубарке. Не все выглядят так былинно, как Окиня и Афонька. Есть и такие, как Минеич – «скелет, обтянутый кожей». Двадцать лет служил он в Тагиле на заводе, был несколько лет учителем, потом штейгером, и везде ему отказывали в работе из-за пьянства. Минеич бесстрастно рассказывает о себе, что как только приедет домой, так начинает тиранствовать жену и детей. Да еще как!
«Жена примется меня корить, а я ее тиранить… Ей-богу! зверь зверем… Возьму да еще на колени возле себя на всю ночь поставлю или веревкой свяжу ей руки назад да ноги к рукам привяжу… так она и лежит другой раз целые сутки».
У автора, потрясенного подобным отношением этого жалкого и никчемного человека к женщине-матери, невольно вырывается, когда он видит Минеича, посиневшего и стучащего зубами от холода:
«Уж лучше бы ему умереть, чем вернуться обратно домой и тиранить несчастную жену».
Бежит по осенней воде полубарка, на ней почти голые люди под мокрым снегом, мерзнущие, продуваемые ветром. Непогода такая, что хуже не придумаешь. Трудно добывают эти люди кусок хлеба. Несчастные, жалкие, на них тяжело смотреть.
Барка врезается в перебор, каких на Чусовой немало. Автор наблюдает, как вдруг пробуждаются пришибленные люди, меняются на его глазах.
«Нужно видеть в это время бурлаков. Я теперь только понял, чем славились утчане: едва сорвется команда с языка Окини, как все ударят поносным с таким напряжением, точно тяжелое бревно в руках восьми людей превращается в игрушку. Это называется «работать одним сердцем». Я просто любовался этой ничтожной кучкой бурлаков, которая в торжественном молчании пометывала поносное, как перышко».
«Работа одним сердцем» – это соединяло людей. Уральский рабочий вставал перед Маминым в полный рост, раскрываясь в своей трудовой сущности, вызывая уважение.
В третьем номере журнала «Устои» в соседстве с новеллой В. Гаршина «То, чего не было» и рассказом Н. Златовратского появилась повесть Мамина «На рубеже Азии».
Она прошла сложный путь. Еще в октябре Мамин, будучи в Петербурге, в редакции журнала «Слово», оставил повесть «Мудреная наука». Скабичевский, ведавший прозой, обещал что в начале года она появится в журнале. В конце этого же года журнал «Слово», известный своими обширными связями с революционной интеллигенцией, был удушен цензурным комитетом. Возник на его обломках новый журнал «Устои», где прозой стал ведать тот же Скабичевский.
Он и предложил Мамину напечатать повесть в новом журнале. Но название «Мудреная наука» он посчитал «шаблонным» и предложил свое – «На рубеже Азии». Автор, еще не уверенный в себе, готовый примириться в мелочах, лишь бы печататься, возражать не стал против нового названия, хотя авторское название более точно выражало замысел.
На этом злоключения не закончились. Мамин, с трудом напечатавший повесть, в ту пору сильно нуждавшийся, денег за нее от журнала «Устои» не получил.
Позже в своих литературных воспоминаниях Скабичевский написал об этом случае, излагая его так:
«С Маминым мы сыграли некрасивую штуку. Он нам прислал свою повесть («На рубеже Азии») из провинции, не предполагая, что издаем журнал артельно, печатая в нем статьи даром в ожидании будущих благ. Мы были обязаны предуведомить об этом Мамина, а мы взяли да напечатали (журнал «Устои») его повесть, уверенные в том, что неужели он потребует немедленно высылки гонорара, когда сотрудники, не чета ему, терпеливо ждут. А он, сильно нуждаясь и даже голодая, взял да потребовал. Тогда только мы уведомили его о той чести, какой он удостоился, разделяя наши ожидания. Мамин был так поражен, что до сего дня не может забыть этого казуса, и нет-нет да напомнит при случае тому или другому из бывших членов артели, как мы его подвели».
Да, с автором в «Устоях» не церемонились. Дескать, молодой, к тому же из провинции. В журнале «Русское богатство» у Мамина приняли сразу два рассказа, но честно предупредили, что ведется он на артельных началах и сотрудникам гонорар не выплачивается, так как подписка едва окупает типографские расходы. И автор забрал свои рассказы. Скабичевский такого предупреждения не сделал.
Таракановка в повести «На рубеже Азии» – это Висим, на всю жизнь остававшийся самым любимым местом уральского писателя.
«Завод Таракановка, – писал он, – заброшен в самую глубь Уральских гор; расположен он на месте слияния трех небольших речек, из которых Таракановка была самая большая и образовала небольшой заводской пруд, со всех сторон обложенный пестрой рамой заводских домиков. Если смотреть на Таракановку с высоты птичьего полета, она представлялась глубокой горной котловиной, окруженной со всех сторон невысокими лесистыми горками; люди заезжие находили ее очень некрасивым заводом и даже называли вороньим гнездом, но я никогда не мог объяснить себе подобного заблуждения и всегда считал Таракановку самым живописным местом на свете».
«Воронье гнездо…» На Урале много таких заводских поселений. Каждое – это целый мир. Писатель обнажает весь трагизм захолустной жизни, заставляет оживать людские драмы.
В майской книжке журнала «Дело» появился второй рассказ Мамина – «Все мы хлеб едим…».
Николай Флегонтович Бажин, ведавший прозой в журнале «Дело», приехавший в Москву по редакционным делам, встретился с Маминым. Его интересовали ближайшие литературные планы уральского писателя. За те дни, что Бажин прожил в Москве, он несколько раз встречался с Дмитрием Наркисовичем, успев прочитать готовые главы романа «Приваловские миллионы». Бажина привлек общий замысел, одобрительно отозвался он и о рукописи, отметив, что уже намечены интересные характеры, энергично и колоритно развиваются события.
– Считайте, что вы наш сотрудник, – говорил в последнюю встречу Николай Флегонтович, – сразу с двумя рассказами выступили. Дело теперь за вами. Чем скорее завершите работу, тем скорее сможем напечатать роман. Будет готова половина – высылайте. Прочитаем незамедлительно, ответом томить не станем. При первой возможности постараемся и денежно вас поддержать.
– Ничто не помешает мне теперь завершить роман, если только крыша на голову не обрушится, – пошутил Дмитрий Наркисович. – Литературные роды несколько задержались, но, надеюсь, ребенок родится здоровым.
Дмитрий Наркисович не скрывал от своего собеседника удовлетворения от этой встречи. Что ж, можно уверенно считать, что литературные дела его складываются так, что лучшего и желать нельзя. Только что он удостоился вторичного доброго отзыва о своих первых опубликованных рассказах критика Арс. Введенского в газете «Современные известия», в той газете, где он выступил с небольшим рассказом «Варваринский скит». Рассказ его напечатали, за рассказы, опубликованные в толстых журналах, похвалили. Теперь последовало и прямое приглашение в сотрудники «Дела» с романом «Приваловские миллионы».
С наступлением московской робкой весны они с Марьей Якимовной в сумерках совершали полюбившиеся длинные прогулки, спускаясь от арбатских переулков к обширному Александровскому саду, протянувшемуся аллеями у подножия Кремлевской стены, потом от Иверской часовни, где всегда ярко теплились свечи и толпились молящиеся, поднимались по крутой Тверской к площади Страстного монастыря и бульварами возвращались в меблированные комнаты к вечернему чаепитию.
Проводив Бажина, торопившегося на Николаевский вокзал к поезду в Петербург, они вышли на традиционную прогулку.
В Александровском саду нашли уютную скамейку в кустах сирени лицом к Кремлевской стене. Сюда почти не долетал городской шум, только стаи крикливых галок чертили чистое небо, подчеркивая его высоту и покой.
– Поздно я начинаю, поздно, – говорил Дмитрий Наркисович, все еще под впечатлением обнадеживающего разговора с Бажиным. – Мне – тридцать. Другие к этому времени успели тома понаписать, составили себе имя, известное положение в литературе. А что я сейчас? Автор нескольких рассказов и серии газетных фельетонов. Но, – он повернулся лицом к Марье Якимовне, – наверстаю, увидишь, что наверстаю. В год буду делать столько, сколько иной успевает в три.
Такой юношеский задор прозвучал в его тоне, что Марья Якимовна невольно рассмеялась.
– Меня-то можешь не уверять. Я давно поверила в твои силы. Эта вера оправдывается.
– Она во многом мне и помогла… У меня столько накоплено, о чем я обязан написать! На десять лет работы материала хватит. Главным сейчас будет роман «Приваловские миллионы», а потом, помнишь «Омут»? Написано порядочно, но еще не так. Основа же романа есть. Теперь и «Омут» становится яснее. О заводской крепостной зависимости, о заводском барстве, наглом равнодушии к нуждам народа. Это ли не тема? Сказать писательское слово о народных бедствиях.
Он замолчал. Марья Якимовна знала эту особенность помолчать, выискивая особенно убедительные слова.
– Помочь русскому народу – вот моя цель.
Они заговорили о ближайших планах. Вот-вот пойдут пароходы от Нижнего до Перми. Марью Якимовну звали в Екатеринбург домашние дела, она соскучилась о детях, да и тревожило, как Владимир, старший сын, собиравшийся осенью поступать в Московский университет, сдаст гимназические выпускные экзамены.
– Признаюсь, потянуло домой и меня, как перелетную птицу к родному гнездовью, – сказал Дмитрий Наркисович. – Почти тоска по родным местам. Думаю, что там и работать будет лучше, да и кое-какие материалы надо поднабрать.
Он не договорил о том, что не представляет себе жизни в летней Москве без Марьи Якимовны. Одиночество в летней душной Москве страшило его. В Екатеринбурге ему будет покойнее во всех смыслах, благотворнее для дела.
– Вот и поплывем, – заключил Дмитрий Наркисович.
Три первых рассказа были как бы подступами к решению большого творческого замысла, начальными мазками на широком полотне. Потом, пополняясь все новыми и новыми произведениями, они составят значительный по художественным достижениям четырехтомник «Уральских рассказов».
Дмитрий Наркисович не скрывал от близких своего удовлетворения, что рассказы были замечены. Это ведь первое признание его выступлений в литературе.
В обзоре «Литературная летопись» от 15 апреля 1882 года в газете «Современные известия» критик Арс. Введенский снова отметил рассказ Д. Сибиряка «В камнях». Почти через месяц, 20 мая, в очередной «Литературной летописи» Арс. Введенский писал уже о трех рассказах Д. Сибиряка – «В камнях», «На рубеже Азии» и «Все мы хлеб едим…».
«Почти одновременно в журналах появилось несколько беллетристических очерков г. Д. Сибиряка, – писал он, – обращающих на себя внимание жизненностью сюжетов, замечательною теплотою, искренностью и задушевностью».
Критик стоял на той точке зрения, что в настоящее время «художественность, в прежнем смысле этого слова, составляет в современной литературе явление едва ли возможное, во всяком случае редкое». С этой позиции он так оценивал произведения Мамина:
«О художественности очерков Сибиряка говорить нет надобности. Очеркам не чужды, однако, те художественные свойства, которые делают беллетристическое произведение если не ценным, то не лишним: фигуры персонажей очерчены очень живо и типично, по крайней мере, с тех сторон, которые всего нужнее для мысли автора; самые мысли автора – не плод его личных кабинетных размышлений и фантазия, а результат живого наблюдения над жизнью; читатель видит не то, как угодно автору смотреть на проходящие перед ним жизненные явления, а каковы эти явления в действительности. Это свойство очерков Сибиряка – их верность действительности – есть необходимейшее условие влияния».
В поле зрения критика двух обзоров включены романы Маркевича и Авсеенко, рассказы Златовратского, Засодимского и других. Всем им противопоставляется в верности изображения народной жизни Д. Сибиряк с произведениями, где читатель знакомится с «истинными сынами народа».
«Читатель с жгучим чувством следит за такой простой вещью, как движение барки вниз по реке. Дело в том, что все люди, работающие на барке, ежеминутно находятся на краю гибели: каждую минуту барка может разбиться в щепы или о скалистые берега, или в порогах, и автор сумел чрезвычайно живо отразить в своем рассказе эту постоянную опасность плывущих. Читатель, как бы с берега следя за баркой, ждет со страхом, что вот-вот случится несчастие. Но барка идет дальше и дальше, садится на подводный камень, заставляя бурлаков со страшными усилиями, по шею в ледяной воде, сталкивать ее с камня, и все-таки не гибнет, и вероятно, благополучно достигнет места назначения… Автор очень удачно схватил, так сказать, всю психологию опасного путешествия, и потому картинка народной жизни, нарисованная им, чрезвычайно жива и симпатична. Симпатичны и эти загорелые лица, и трудовые руки – не чета какому-нибудь белоручке – барину Зиновьеву» – это о герое романа Авсеенко.
Рассказы «На рубеже Азии» и «Все мы хлеб едим…» привлекают внимание Арс. Введенского точной характеристикой «захолустного быта» удаленных от столицы мест. Особенное внимание он уделяет доктору, приехавшему в Таракановку к матери.
«Его отношение к среде, в которой он вырос и воспитался, глубоко возмутительны. Глухое село Таракановка встретило молодого доктора с почетом и уважением… Но сам доктор остается очень равнодушен к уважению, оказываемому ему столь ничтожными людьми».
Пересказывая содержание рассказа, где обнажается вся сущность жизни таких отдаленных и глухих мест, все проявления величайшего эгоизма доктора, автор заключает:
«Едва ли кто станет отрицать, что автор задел тут одну из очень больных сторон нашей так называемой «образованности». Можно, конечно, думать, что автор взял тип более исключительный, слишком резко выраженный и что черта «образованности», изображаемая им, не исключительная, а чрезвычайно обща».
Подвергая разбору рассказ Златовратского «Деревенская пророчица», критик делал вывод, что читателю трудно будет уловить авторский замысел рассказа. Еще резче отзывался он о рассказе Засодимского «Степан Огоньков»: «…автор берется изображать слои общества, совершенно ему незнакомые». Этим рассказам он противопоставлял «Все мы хлеб едим…» Мамина, отмечая, что в нем, «хотя в бледных чертах, отражается весь быт деревни с ее обострившимися вопросами».
«На первом плане, – писал он, – несколько фигур: спекулирующий поп, помещик, облагодетельствовавший крестьян даровым наделом, отставной чиновник, занимающийся «делами» и охотой, и, наконец, сын священника, бывший студент, пришедший к мысли, что «плутовство одно, это – наше образование самое», и заводящийся своим мужицким хозяйством. В перспективе – мир, на который все эти господа рассчитывают каждый по-своему. Какие это прекрасные люди, и в то же время как они убеждены, что «не те времена, чтоб лежать на боку да плевать в потолок»! Идет какая-то глухая борьба; деревня «перестраивается»… В очерке автора нет той определенности, при которой можно было бы ясно видеть современное существование деревни; однако брожение, которое там происходит, ясно для читателя. В сущности, автор берется только передать свои наблюдения над встретившимися типами, и передать их довольно удачными и характерными чертами».

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





