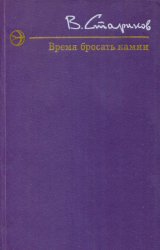
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
– Хочу и страшусь суда Михаила Евграфовича, – говорил Дмитрий Наркисович, давая Марье Якимовне читать рукопись.
– Так выразительно о старателях еще никто не писал, – высказала свое отношение Марья Якимовна. – Я, во всяком случае, не видела.
Он и сам понимал, что никто до него не давал в литературе такой обнаженной картины жизни людей, работающих на золоте, самом дорогом металле, и погрязающих в убийственной нищете.
Старатель Заяц так объяснял причины, по которым рабочие пошли в старатели:
«С волей начали по заводам рабочих сбавлять – где робили сорок человек, теперь ставят тридцать, а то двадцать – вот мы и ухватились за прииски обеими руками. Все-таки с голоду не помрешь… И выходит, что наша-то мужицкая воля поравнялась прямо с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется».
Мужицкая слеза проходит через всю «Золотуху».
Прекрасный мир окружает человека!
«Брести по высокой и густой траве, еще полной ночной свежести, доставляло наслаждение, известное только охотникам: в лесу стояла ночная сырость, насыщенная запахом лесных цветов и свежей смолы».
На этом фоне особенно отвратительны почти натуралистические картины пьяных разгулов и диких оргий золотопромышленников.
Беспощадно обнажает автор, как нагревают свои руки на даровом труде народа ловкие дельцы всех мастей, как на основе бедности и нужды растут богатства одной стороны, а в среде тружеников – пьянство и разврат.
«Пьянство и разврат – дети одной матери, имя которой – нужда».
Есть в «Золотухе» особенно примечательная фигура – смотрителя машин прииска Ароматова Стратоника Николаевича, служившего десять лет в горном управлении и вылетевшего с этой службы за разоблачение золотопромышленников. Этот сравнительно интеллигентный человек из разночинцев, когда-то поклонник писателей-демократов, теперь играет жалкую роль при золотопромышленниках. Сломили его так, что Ароматов не стыдится быть при них шутом. В беседе, по старой памяти, он сыплет цитатами из Белинского, Добролюбова, Писарева, Бокля, Спенсера, читает стихи Некрасова, показывает в лицах сценки из комедий Островского и Гоголя. Пьяный, в загулявшей компании хищников, он читает стихи Беранже, разыгрывает сцены из оперы «Иван Сусанин» и вдруг, словно опомнившись, произносит обличительные речи, бросая в лицо тех, с кем сидит за хмельным столом: «Кровопийцы!.. Вы не золото добываете на приисках, а кровь человеческую…»
Но проходит порыв, и он опять пресмыкается и шутовствует. Такова деградация и скорбный путь тех, кто начал с идей служения народу, а теперь стал просто мелким прихлебателем сильных мира сего.
Мамин не раз еще вернется позже к таким характерам, показывая нравственную опустошенность малочисленной интеллигенции, растерявшейся перед лицом жестокой действительности. Покажет и не павших духом перед теми же обстоятельствами, сохранивших в душе идеалы лучших представителей русской духовной культуры.
Очерк «Золотуха» он закончил в октябре.
«Золотуху», как Мамин и задумывал, он послал Салтыкову-Щедрину в «Отечественные записки».
«Сегодня посылаю четвертую часть своего романа в «Дело» (речь идет о «Приваловских миллионах». – В. С.), – писал Дмитрий Наркисович брату Владимиру в октябре 1882, – а пятую заканчиваю. Не знаю, удастся ли поместить в январе. На днях послал в «Отечественные записки» большой рассказ «Золотуха» и буду ждать в конце ноября, как обзатылят…»
Дни проходили в тревожном ожидании. Миновал ноябрь… Салтыков-Щедрин молчал. Начался декабрь…
Пришла двенадцатая книжка журнала «Вестник Европы». Она открывалась, о чем редакция специально с гордостью оповещала читателей, «Стихотворениями в прозе» И. С. Тургенева. Непосредственно за ними шел рассказ Мамина «В худых душах», подписанный на этот раз лишь псевдонимом: «Д. М-инъ».
В нем – еще один сложный пласт жизни, подчеркнутый подзаголовком «Люди и нравы Зауралья».
В рассказе, занимающем всего двенадцать журнальных страничек, еще круче, чем в других, замешаны многие судьбы, еще трагичнее все житейские обстоятельства.
Рассказчик въезжает в большое зауральское село Шераму, где во главе причта стоит его давний знакомый о. Яков. Зажиточные тут живут степные люди, основательные.
«Недаром славятся сибиряки, – говорит автор, – своей смышленостью и промышленным характером. Под боком киргизская степь, Обь со своими притоками; позади стеной подымается Урал – было где поучиться зауральскому мужику уму-разуму».
К о. Якову тут отношение односельчан самое уважительное, жизнь его мало чем отличается от крестьянской: с весны и до осени он наравне с мужиками трудится в поле, успевая и требы выполнять. Никого не утесняет. Живет со всеми в мире. Возница вдруг говорит рассказчику, что у попа Якова «ныне неладно в дому».
«Видел попа-то? – спрашивает матушка Руфина. – Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все со страху… Так всего и боимся: где щелкнет, где стукнет – у нас душа в пятках. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стариков, никуда не подернешь, а молодых не осталось… Так вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды».
Почему же в таком страхе маячат старики в ожидании всяких бед?
Старик о. Яков, которому на седьмой десяток перевалило, подавлен, оглушен, перепуган всем, что творится у него в собственном доме, в миру. Рушатся привычные устои жизни. В поповском доме – знамение времени – лежит том «Капитала» К. Маркса. Сын Кинтя связался в Петербурге с неблагонадежными студенческими элементами и угодил в долголетнюю сибирскую ссылку. Домой вернулся тяжко больным, сломленным. Дочь Аня, пошедшая путем брата, после того как таскали-таскали ее по тюрьмам, сошла с ума. Изломались характеры других сыновей. Никаша, в прошлом вроде порядочный человек, из «мыслящих реалистов», теперь просто преуспевающий доктор, охладевший ко всему сердцем. Прохор, в прошлом, начинал учителем. Его выжили с места по ябедам о. Ксенофонта за то, что тот в церковь не ходил, мужикам газеты читал, в постные дни скоромное употреблял. Попал Прохор в урядники и теперь пьянствует напропалую да носится по волости, выискивает крамольников.
От всего, что творится, у о. Якова голова кругом идет. Для себя от жизни он ждет только чего-то еще более худшего. Вот откуда этот испуг, застывший на его лице, вот это неладное в дому.
Уход молодых людей «в народ», в революционное подполье Дмитрий Наркисович близко наблюдал в студенческие годы. Да и сейчас на Урале живой пример стоял перед ним. Двоюродный брат Гавриил Мамин, поповский сын, с которым он встречался в студенческих кружках, оказался привлеченным к суду по процессу 193-х. Его оправдали за недостатком улик и выслали на Урал. Это испытание оказалось для него не по силам. Общительный прежде, он круто переменился характером. Изредка Гавриил Мамин, учительствовавший в Екатеринбурге, появлялся на квартире Мамина. Для посещения выбирал самые глухие часы: после полуночи, а то часа и двух. Молча посидит хмурый, прислушиваясь к невинным разговорам, молча, простившись только с Марьей Якимовной, уйдет. Дмитрий Наркисович, посмеиваясь, даже прозвал его «Никодим в нощи».
Петербургские знакомства и наблюдения уральской жизни послужили Мамину материалом при работе над этим рискованным рассказом. Конечно же, события его выходили за пределы глухого зауральского села Шерамы. Не так ли самодержавие в эту пору пыталось в страхе держать всю Россию?
Критика на рассказ «В худых душах» никак не отозвалась. Это можно было понять. Сам же Мамин его ценил. Спустя пять лет, готовя к изданию книги «Уральских рассказов», он первый том открыл рассказом «В худых душах».
Этим рассказом он завязывал авторские связи еще с одним журналом демократического направления – «Вестником Европы».
Что же «Отечественные записки»? Мамин, волнуясь, не мог знать, что Салтыков-Щедрин, прочитав рукопись уральского автора, писал по поводу «Золотухи» соредактору Григорию Захаровичу Елисееву:
«Недавно некто Мамин прислал прекраснейший очерк о золотопромышленности на Урале, вроде Брет-Гарта. Вероятно, в феврале найду место для них. Листов пять будет».
Спустя четыре дня после письма Елисееву, все решив относительно публикации, Салтыков-Щедрин 19 декабря писал в Екатеринбург:
«Милостивый государь Дмитрий Наркисович. Редакция «Отечественных записок» охотно поместит «Золотуху» в одном из ближайших номеров и предлагает Вам гонорар по 100 руб. за печатный лист. Благоволите дать ответ по возможности скорый. М. Салтыков».
Мамин не успел ответить. Письма ходили медленно, в Екатеринбург – более двух недель.
Не дождавшись своевременного ответа от Мамина, Салтыков-Щедрин 5 января 1883 года писал вновь:
«Милостивый государь Дмитрий Наркисович. Недели три тому назад я просил Вас уведомить меня, согласны ли Вы напечатать «Золотуху» с платой по 100 руб. за лист. Не будете ли Вы так любезны ускорить ответом на мой вопрос. Примите уверения в совершенном почтении и преданности. М. Салтыков».
11 января М. Е. Салтыков пишет уже третье письмо Мамину все о том же:
«Милостивый государь Дмитрий Наркисович. Я начинаю думать, что Екатеринбург не существует, потому что уже почти четыре недели тому назад послал Вам первое ответное письмо, а 5 января – второе. Так как из письма Вашего от 27 декабря вижу, предложенные мною условия (100 р. за лист) даже несколько превышают Ваши, то считаю себя в праве счесть это дело конченым – т. е. по 100 руб. за печатный лист и при первой возможности напечатаю «Золотуху». Думаю, что это будет в марте, а может, и в феврале. М. Салтыков».
30 декабря Дмитрий Наркисович писал в Москву брату Владимиру:
«Володька… Ликуй!.. Сейчас только получил письмо от самого Салтыкова о том, что мой очерк «Золотуха» «охотно» принят редакцией «Отечественных записок» и будет помещен в одной из ближайших книжек, с платой гонорара по 100 р. за печатный лист… Ликовствуй, прыгай и веселись!.. Я большего никогда не желал и не желаю…»
В эти же дни Владимиру писала и Анна Семеновна, радуясь успеху сына:
«11 часов вечера. Остается, Володик, ровно час до нового 1883 года. Мы, как добрые люди, еще не спим, ждем новый год. Никола сейчас закончил переписку Митиного рассказа, завтра пошлют в «Вестник Европы». Митя писал тебе о получении им письма Салтыкова, что, конечно, очень польстило его самолюбию и нам всем доставило удовольствие. Вчера Юлинька (знакомая семьи Маминых. – В. С.) пришла к нам и Лизины подружки… угостили их чаем с домашним сыром и колбасою, позднее сварили шоколад и все угостились. Это мы поздравляли Митю…»
Первая половина романа «Приваловские миллионы» была напечатана в январском номере 1883 года, а окончилась в майском. Редакция сдержала свое слово. Это был серьезный успех. Вторую половину романа предстояло еще дописывать и дорабатывать.
Но самым важным своим завоеванием Дмитрий Наркисович считал признание его Салтыковым-Щедриным.
«Золотуха» появилась, как и обещал редактор журнала, в февральской книжке «Отечественных записок».
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк при поддержке Салтыкова-Щедрина вошел в большую литературу. Появление в журнале «Отечественные записки» означало полное приятие нового автора в демократической литературе.
Ей писатель Мамин-Сибиряк никогда не изменял.
7
1883 год… Счастливый для Мамина многими публикациями, памятный волнениями и тревогами.
Год начался печатанием в журнале «Дело» романа «Приваловские миллионы», занявшего десять номеров. Параллельно с ним «Дело» опубликовало и повесть Мамина «Максим Бенелявдов». Во второй книжке «Отечественных записок» появилась «Золотуха», в седьмой и восьмой – «Бойцы». Прошли очерки и рассказы в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Семья и школа». Все это превосходило самые заветные честолюбивые мечты молодого писателя.
В Екатеринбурге вспыхнули нескончаемые и самые разноречивые разговоры о «Приваловских миллионах» и очерках. Те несколько номеров журналов «Дело» и «Отечественные записки», которые получали немногочисленные подписчики, ходили по рукам. Читали нарасхват. Если Дмитрий Наркисович желал писательской популярности, то в родном городе она пришла к нему в несколько уничижительной форме: «Какой-то бывший студентишка, репетитор Мамин, уважаемых людей осрамил…»
Были недоумевающие. Зачем ворошить мусор жизни? Мерзопакостные стороны ее и без писателя всем видны. А что в его писаниях для души? Какая же в его сочинениях отрада, покой? Разве можно читать его «Приваловские миллионы» или «Золотуху» на ночь? «Екатеринбургская неделя» предпочла не заметить появления на страницах многих столичных журналов произведений уральского писателя.
Читатели единодушно сходились на том, что уездный город Узел в романе – это, конечно же, Екатеринбург. Узнавали свой город хотя бы по одному, так обстоятельно описанному дому Харитонова; в основе же всей истории «миллионов» легко обнаруживались еще совсем недавние скандальные события, взбудоражившие екатеринбургский «свет», связанные с неожиданным разорением наследников богатейшего владельца Сергинско-Уфалейских заводов Константина Михайловича Губина.
Екатеринбургское высшее общество было шокировано романом. Споры разгорались главным образом вокруг многих главных персонажей, делались самые невозможные предположения: кто мог послужить для них прототипами? Узнавали, гадали, спорили, оскорблялись. Обсуждали и другое: мог ли писатель, да и вообще имел ли право вот так, за здорово живешь, выставлять в неприглядном и непривлекательном виде уездное общество, открывать напоказ всю его подноготную?
Владимир же сообщал в письме, что екатеринбургская колония в Москве одобрительно встретила произведение своего земляка, злорадно опознавала в каждом персонаже какого-нибудь екатеринбургского джентльмена, сомневались только в старике Бахареве и главном герое Сергее Привалове, вызывавшем единодушные симпатии, – кто стоит за ними?
Порадовался всему искренне, как ребенок, милейший Егор Яковлевич Погодаев.
– Ох, и острое у вас перо, Дмитрий Наркисович, – припевал он, сидя с Маминым в клубном саду, отхлебывая из рюмочки. – Острее, чем жало у пчелы. Ну и расписали вы наше воронье! Слышали, как оно раскаркалось? Утешили вы мою душеньку…
Сам автор ко всем кривотолкам внешне относился равнодушно. Даже в своем дружеском кружке, когда респектабельный Николай Флегонтович Магницкий или шумный Михаил Константинович Кетов, иногда и оба вместе, начинали наседать на Дмитрия Наркисовича, он лишь загадочно улыбался и уводил разговор в сторону.
– Разве в том суть? – говорил он. – Важны типы, верные действительности, мысли героев, мотивы их поведения. Соответствует ли написанное тому, что нам приходится наблюдать в обществе? Отражена ли правда?
Мамину казалось, что роман, которому отдано столько сил, недопонят читателями, мысли, дорогие ему, не произвели должного брожения в умах, на которое он надеялся. Обижало и задевало молчание больших журналов, вообще всей прессы. Ни одного отклика. Словно сговорились. О рассказах, очерках писали, романа не заметили? Сколько шуму поднимается по поводу пустых пухлых романов, елейно-сладостных повестей из аристократической и «народной» жизни! Дело тут, конечно же, не в лености и нелюбопытстве современной критики. Не по зубам ей такие острые куски жизни…
Спасибо, что Николай Федотович Бажин, много способствовавший установлению добрых отношений с журналом «Дело», несколько подбодрил своим письмом. Многим роман понравился, сообщал он в письме Мамину, в том числе и такому строгому читателю, как Глеб Иванович Успенский. В разговоре с Бажиным он так выразился о романе «Приваловские миллионы»: в нем «все типы». Приятна похвала из уст большого писателя.
Огорчения сглаживались дружескими вестями из далекого Петербурга.
Много значит ободряющее слово! Оно прибавляет уверенности в силах, утверждает истинность выбранного пути, значительность авторских замыслов.
Оно произнесено самим Салтыковым-Щедриным уже в третий раз. Впервые он одобрительно отозвался о «Золотухе». И Мамин только после признания его в «Отечественных записках» уверенно подумал о себе, как о литераторе. Потом последовали письма о «Бойцах». Теперь одобрительное слово прозвучало и о романе «Горное гнездо», писавшемся под влиянием воодушевляющих отношений с Салтыковым на едином дыхании. В этих трех больших произведениях для «Отечественных записок», самого влиятельного, в понимании Мамина, журнала России, он, полностью этого не осознавая, поднимался, как художник, по круто устремленной вверх лестнице, со все большей свободой и дерзостью мысли вглядываясь в окружающую его на Урале русскую действительность.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин стал в его жизни тем человеком, который оказал ему не только решительную поддержку в писательском деле, но и первый проявил к нему повышенный интерес. Во втором или третьем письме редактор «Отечественных записок» попросил Мамина сообщить о себе хоть кратенько: о возрасте, социальном положении. Взыскательная Марья Якимовна дважды браковала жизнеописание, которое сочинил о себе Дмитрий Наркисович, утвердив лишь третью редакцию ответного письма.
После возвращения из Москвы в Екатеринбург Мамин, целиком отдавшись литературной работе, неуемно и страстно, стараясь и дня не потерять, с особенной силой почувствовал ту пропасть, что разделяет столицу и глухую уездную провинцию. Отсутствие единомышленников, хоть малого круга людей, причастных к литературе, журналистике, ничем нельзя было восполнить. Все сильнее он ощущал свое одиночество.
Даже в кружке, казалось, близких людей, который продолжал собираться в доме Марьи Якимовны, правда, в эту зиму менее часто, чем раньше, лишь с сочувствием, – но не более, – следили за литературными делами Дмитрия Наркисовича. Всего того, что волновало писателя, близко к сердцу не принимали. Конечно, вперемежку с разговорами о городских новостях, политической жизни на Западе касались и долетавших столичных литературных известий. Могли понегодовать на русскую «азиатчину», «грубость» народных нравов, отставание в научных и технических достижениях, застой в общественной жизни. Но не более. Действительность они принимали спокойнее Дмитрия Наркисовича. Все же служилые люди, уже в некоторых чинах, хотя пока и не очень больших, но с перспективой. Они старались добросовестно выполнять служебные обязанности, жить без большого разлада с начальством. Редкую горячность, которая вдруг прорывалась у Дмитрия Наркисовича, встречали с некоторым удивлением: стоит ли так волноваться?
Не волноваться? Книжка журнала «Отечественные записки», где была напечатана «Золотуха», открывалась грозным предупреждением министра внутренних дел графа Д. А. Толстого.
«Принимая в соображение, – говорилось в нем, – что журнал «Отечественные записки» обнаруживает вредное направление, предавая осмеянию и стараясь выставить в ненавистном свете существующий общественный, гражданский и экономический строй как у нас, так и в других европейских государствах, что наряду с этим не скрывает он своих симпатий к крайним социалистическим доктринам и что, между прочим, в книжке за январь текущего года помещена статья за подписью Н. Николадзе, содержащая восхваление одного из французских коммунаров, министр внутренних дел… определил: объявить журналу «Отечественные записки» второе предостережение в лице издателя статского советника Андрея Краевского и редактора действительного статского советника Михаила Салтыкова».
Дмитрий Наркисович, всегда сдержанный в оценке своих произведений, лишь Марье Якимовне признался в своей тревоге.
– Этак «Золотуху» и «Бойцов» легко можно подвести под разряд произведений вредного направления. А «Горное гнездо» и тем вернее. Но не будем устрашаться, а наоборот – с теми же силами продолжать дело.
Трудное время… Царствование Александра III началось с жестокой публичной казни народовольцев. Верным наставником монарха стал мракобес и фанатик самодержавия обер-прокурор Синода Победоносцев, на долгие годы наложивший тяжелую руку на духовную жизнь русского народа, вступивший в беспощадную борьбу со всеми стремлениями общества к свободе и самостоятельности. Популярный писатель П. Д. Боборыкин эти годы определил двумя выразительными емкими словами – «политические сумерки».
О Салтыкове-Щедрине в эту пору ходили самые тревожные слухи. Еще в начале года Владимир писал из Москвы, что Щедрина якобы сослали по одним известиям в Пермь, по другим – в Тверь.
«Если в Пермь, так это вам должно быть известно. С каждым днем слышишь самые пакостные вещи. Говорят, что с «Отечественными записками» хотят сыграть очень скверную штуку и последняя книжка еще не вышла. Щедрин послал Льву Толстому, который живет здесь, письмо и в нем подписался – «бывший литератор».
В другом письме Владимир сообщал о новых слухах, по которым Щедрин вроде получил отсрочку с высылкой, но с первым пароходом все же будет отправлен в Пермь. Высланы из Петербурга Михайловский и Шелгунов. Это уж достоверно, а не слухи.
«По этому поводу петербургские литераторы хотели подавать петицию правительству в том смысле, чтобы Михайловского и Шелгунова воротили назад. Но петиция якобы была составлена в таком униженном духе, что Щедрин и другие патриархи отказались подписать. Известный поэт Минаев сослан за политическую остроту насчет коронации: дело было в каком-то собрании».
Что же, значит, надо особо дорожить внимательным отношением к нему редактора «Отечественных записок» в такую тяжелую для того пору. И как только представится возможность, непременно встретиться с ним.
Свой второй крупный уральский роман «Горное гнездо» Мамин начал писать, одновременно завершая последние главы «Приваловских миллионов».
Первые главы возникли еще в 1878 году в ту пору, когда, покинув Нижнюю Салду, окончательно обосновался с Марьей Якимовной в Екатеринбурге. Начал под свежими и яркими впечатлениями от знакомства с заводской аристократией Нижней Салды и Нижнего Тагила. Марья Якимовна много рассказывала об особенностях жизни этой среды, в которой она воспитывалась с самых ранних лет, сложных взаимоотношениях, интригах и происках, о гибели талантливых людей. Уж кто-кто, а она-то уральские «горные гнезда» знала превосходно.
Сюжетная ось «Приваловских миллионов» – наследство Сергея Привалова. Вокруг него – накал страстей, нити многочисленных хитросплетенных интриг. Рабочие, крестьяне со своими нуждами, задавленные социальной несправедливостью, на первый взгляд – пассивны, хотя и не могут не влиять косвенно на ход событий.
В романе «Горное гнездо» сюжетной осью стали отношения заводовладельца и зависящих от него рабочих. Все здесь движется вокруг этого. Тут заводовладелец и рабочие уже поставлены лицом к лицу. Их судьбы, интересы не идут по касательной, а сшибаются.
Теперь уже Мамин четче выражал свое непримиримое отношение – не только через публицистику – к тем, кто владел уральскими богатствами, обрекая народ на нищету. В уста героя романа Прозорова он вкладывал свою главную мысль, что отечественный капитализм, разрушив старые крепостные формы, теперь развивается только за счет эксплуатации рабочих, не уменьшая рабочего дня, не повышая заработной платы, не увеличивая числа работников. Рабочий поставлен в такие условия, что вынужден приводить на фабрики жену и детей, чтобы не умереть с голоду, что все это порождает армию нищих, рабов.
«Вы забываете о рабочем и его будущности, – негодует Прозоров, – а только думаете о том, чтобы при помощи всемирного рынка реализовать в пользу крупных промышленников ту прибавочную стоимость, которая вам останется от трудов сотен тысяч рабочих».
Отражая реальность, Мамин в «Горном гнезде» показывал, что еще не созрели, что еще нет тех сил, которые могли бы быть противопоставлены капитализму, могли бы вступить с ним в организованную борьбу. Темные, забитые, угнетенные люди способны только на рабскую защиту своих интересов: прорваться со слезной жалобой к барину, встать перед ним на колени, вымаливая облегчение существования.
Открывался роман эпиграфом из Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит…» Завершался же следующими словами:
«Результаты приезда барина на заводы обнаружились скоро: вопрос об уставной грамоте решен в том смысле, что заводским мастеровым земельный надел совсем не нужен, даже вреден; благодаря трудам генерала Блинова была воссоздана целая система сокращений и сбережений на урезках рабочей заработной платы, на жалованье мелким служащим и на тех крохах благотворительности, которые признаны наукой вредными паллиативами; управители, поверенные и доверенные получили соответствующие увеличения своих окладов».
Так заканчивался второй остросоциальный роман Мамина-Сибиряка, полный гнева и сарказма, широко освещавший и объяснявший отношения русских рабочих с капиталистами.
В один из осенних дней, когда Дмитрий Наркисович работал над романом «Горное гнездо», к нему явился посетитель с письмом от брата Владимира. Подателем его оказался студент Петровской сельскохозяйственной академии Сергей Прокофьевич Голоушин, высылавшийся под надзор полиции в Камышлов. Владимир просил приютить его на несколько дней в Екатеринбурге.
Голоушин понравился Дмитрию Наркисовичу. Невысокого роста здоровячок интеллигентной наружности, с крупными чертами лица, живыми, блестящими глазами, он походил на преуспевающего молодого адвоката или инженера. Рассказывал студент о себе сдержанно, чуть иронично и, как показалось Мамину, не о всем, о чем-то и умалчивал.
Почти год продержали его в заключении, на допросах интересовались главным образом кругом знакомых, предъявляли для опознания по почерку и подписям письма неизвестных ему лиц, теперь выслали без предъявления обвинений, без сроков на Урал.
– Думал получить диплом и осесть где-нибудь в России агрономом или управителем небольшого помещичьего хозяйства, стать поближе к народу для облегчения его страданий.
– Какая же это близость? – сказал, усмехаясь, Мамин. – Помещичьи и крестьянские интересы далеки друг от друга. Тут ведь так: если соблюдать владельческие интересы – с крестьянством без столкновений не обойтись; будете облегчать положение работников – возникнут конфликты с владельцем.
– Да ведь какой будет владелец. Может, удастся найти общий язык.
– В доброту владеющих капиталами у меня веры мало, – заметил Дмитрий Наркисович. – Ну, да ладно. Как же вы теперь дальше?
– Полная неопределенность, – сказал гость, разводя руками. – Обрезали гужи, но дорогу к народу не закрыли.
Они заговорили о всеобщей гнетущей обстановке в стране. Достаточно пустякового повода, а порой обходятся и без него, для привлечения к дознанию. Это не может не вызвать ответной реакции в обществе. Царизм сам активизирует силы сопротивления своему строю.
В необходимости и неизбежности перемен в России Мамин был убежден. Но какими путями они совершатся? В его студенческие годы молодежь уходила «в народ», листовками и брошюрами пыталась поднять неграмотный люд на сопротивление властям. Но народ их не принял, да и не мог принять. Попытки мирной пропаганды карались каторгой и ссылками.
Репрессии породили более активные формы борьбы – террор. Но и это ничего не дало, кроме усиления жестоких полицейских мер. Какими путями пойдет дальнейшая борьба за права народа, в какие формы она выльется? Маховое колесо истории может лишь на время замедлить ход, но все новые и новые силы будут толкать, приводить его в движение.
О себе Мамин думал, что его главной задачей должно навсегда стать изображение народной жизни, обличение противостоящих сил. Реалистическое изображение – вот его задача. Русская передовая литература посвящала свои произведения народу. И его, Мамина, место в строю тех, кто отдает ему свои силы.
Он проводил гостя, печально размышляя о том, как сложится судьба этого юноши: не разочаруется ли он, лицом к лицу столкнувшись с народом? Сколько уж видел Дмитрий Наркисович таких, не выдержавших реальной жизни.
…Словно угадав в Мамине возможного соратника по литературным делам, Салтыков-Щедрин уже откровенно делился в письме своими многосложными тревогами, связанными с ведением журнала во все более жестоких цензурных условиях. Тревожило его и отношение читающей публики к литературе – как страусы, прячут свою голову в песок, надеясь таким образом уйти от действительности.
Поздравляя далекого екатеринбургского автора с Новым, 1884 годом, сообщая, что в первую книжку журнала включены девять глав «Горного гнезда», торопя с присылкой окончания, Салтыков-Щедрин писал, что для него новый год начался невесело – арестом ближайшего сотрудника Кривенко. И добавлял, что хотя «ничего особенного из этого ареста не выйдет, но все-таки Вы можете понять, как невесело мое положение как главного редактора, у которого из-под носа берут самых необходимых сотрудников». Посетовал и на то, что уже второй год как заметно редеет количество подписчиков на «Отечественные записки», а силу набирают такие дешевые журналы, как «Нива» и ей подобные. «Чувствуется какая-то усталость всюду: книга не интересует, всякий выписывает или газету, или иллюстрированный журнал», – горько констатировал сатирик.
Мамин же, окрыленный успехом и доверием Щедрина, был полон молодого боевого задора. Он хотел и мог всколыхнуть, расплескать уютное болотце обыденщины – приют «усталых духом». Сознавая себя еще не мастером, а подмастерьем в литературе, он говорил о себе: я – рядовой солдат и горел желанием биться, воевать с несправедливостью, с кромешной тьмой тогдашней России.
Конец первой части.
1969—1974 гг.

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





