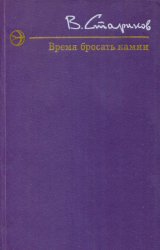
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Время бросать камни
Вечерело… На скамеечке возле церкви, что на Вознесенской горе, неподалеку от знаменитого в Екатеринбурге Харитоновского дома, знакомого читателям романа «Приваловские миллионы» как Бахаревский, по имени одного из главных персонажей, сидели двое: Мамин-Сибиряк, известный всей России писатель, приехавший после двенадцатилетней разлуки навестить родной город, родственников, и Баталов, студент Московского университета, молодой литератор, напечатавший несколько очерков и рассказов в Петербурге и Москве, высланный на Урал под негласный надзор полиции.
Стоял один из теплых дней конца августа, начинала желтеть листва. Город с этой высоты раскрывался перед ними просторной пестрой панорамой. Церкви, стоящие на холмах, как бы обозначали дальние границы его. Внизу виднелся большой пруд, подпираемый плотиной, на которой был разбит сквер и установлены памятники Петру I и Екатерине II.
Мамину-Сибиряку шел пятьдесят первый год. Он сидел, чуть наклонившись, красивый, крупный, плечистый, с аккуратно подстриженной бородкой, выразительными темными глазами, крепко сжимая в руках трубку, взволнованный неожиданным знакомством с Баталовым и поворотом разговора. Вглядываясь в энергичное скуластое лицо студента, Дмитрий Наркисович думал, что его собеседнику сейчас не больше двадцати пяти лет, и вспоминал, что в возрасте Баталова он, семинарист, недоучившийся студент, переживал самые трудные годы. Как тяжко приходилось тогда ему, взявшему на себя после смерти отца заботы о семье! Рубли добывались многочисленными репетиторскими уроками. Пользуясь каждым свободным часом, не позволяя себе и дня для отдыха, он писал, писал… Как он тогда выдержал? Понадобилось почти десятилетие, чтобы пробиться в передовые журналы.
Какое это далекое время!
Молодые голоса все энергичнее запевают новые песни… Интересно, какими путями пойдет жизнь этого милого своей молодой горячностью человека, начинающего литератора, с его убежденной верой в особый революционный путь рабочего класса России? Станет ли он литератором или окунется в полную превратностей жизнь профессионального революционера?
– Мы рады вашему приезду на Урал. Рады видеть вас, такого популярного в рабочей среде писателя, у себя.
– Вы увлекаетесь и, конечно, преувеличиваете мою популярность, – мягко заметил Мамин-Сибиряк.
– Дмитрий Наркисович, вы слишком скромны! – воскликнул Баталов. – У рабочего читателя вы сейчас самый любимый. Уж можете мне поверить. Я эту среду знаю хорошо. Вы, наверное, и не представляете, что ваши книги вдохновляют и зовут к борьбе. Сколько в ваших романах, рассказах истинной любви и уважения к рабочему человеку! Наша литература и сейчас во многом дворянская и крестьянская. Все еще пробавляется либерально-народническими идейками. А вы – первый – заговорили о заводской и горной действительности. О жестокости капитализма и его обреченности.
– Не увлекайтесь, молодой человек, похвалами… – тихо произнес Мамин-Сибиряк, раскуривая трубку.
– Как талантливо, с какой силой!.. – не унимался Баталов. – Что же вы сейчас вынесли из встречи с родным краем?
– Только условимся – это не интервью, и вообще ничего для печати. Могу положиться? – Он помолчал. – Увидел кое-что новое. Больше стало интеллигенции, меняются рабочие. Прогресс общественной жизни и этих мест коснулся. Растут, хоть медленно, но растут новые силы, влияющие на духовную жизнь. Но и хищников, пожалуй, поприбавилось. А еще знаете что? Замирает Урал… Он, как безнадежно больной, дыхание все тяжелее. Захирел мой Тагил, да и в других местах не лучше. Везде разоренье… Юг все энергичнее обгоняет Урал. Приглядитесь, как там растут заводы. Словно грибы! Прокладываются железные дороги… А здесь… – Он махнул рукой. – Сколько заводов, рудников позакрывалось. Вы заметили? Падает производство, нищает народ… Да, пограбили Урал основательно, и еще продолжают. Но сливки сняли… Тяжело все это видеть. Такой богатейший край, а словно ненужный России. Вот и задумываешься – все ли сделал, что мог?
– Вы недооцениваете себя.
– С чего вы взяли? – Голос Дмитрия Наркисовича посуровел. – Я отлично знаю свое место в литературе. Урал – мое сокровище, трудовому люду отдано лучшее. Правда, похвал на мою долю досталось мало. Что уж тут! Не был в большой чести у модных критиков. Хочу верить, что среди вас, грядущих, найдутся новые читатели моих трудов.
– Дмитрий Наркисович! – Баталов волновался. – Он уже есть – новый читатель, ваш читатель, его ряды растут. Рабочий меняется. Смотрите, какие волнения охватывают Россию, а теперь и Урал. Рабочие Златоуста, Мотовилихи – это сильные отряды сознательных пролетариев. Они спасут Россию, изменят порядок жизни. Уверяю вас, Дмитрий Наркисович. Мы к этому быстро движемся. Сейчас тысяча девятьсот третий год – запомните нашу встречу. Мы идем к революции все быстрее и быстрее. И вы – с нами… Хотя, может, и не сознаете этого…
Родные зеленые горы
Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор, захватив последние годы сурового крепостного режима, окрашенного специально заводской жестокостью.
Д. Н. Мамин-Сибиряк
1
Поздний час, но свечи зажигать рано; стоят белые северные ночи июня, когда заря с зарею сходится. Так светло в комнате, что видны голубенькие узоры чашек на столе. За окном замерла тройка берез-сестер, вытянувшихся из одного гнезда. Из-за реки, где в ночном пасутся лошади, доносится тихое позвякивание ботал.
Кажется, что обо всем переговорили в этот прощальный вечер, высказали щедро, от всего сердца, все добрые пожелания новой жизни Маминым в далеком Висиме, на самом Уральском хребте, где проходит граница Европы и Азии, на демидовской земле. Пора бы расходиться, дать отцу Наркису и особенно Анне Семеновне, носящей под сердцем второго младенца, отдохнуть перед длинной и трудной дорогой, да как-то грустно думать, что видятся они, наверное, в последний раз, навсегда расходятся их пути. Три года, три быстротечных года всего и прожили вместе.
Отец Александр, уже в преклонных годах, с поседевшей и поредевшей гривой, все вспоминал про себя в этот вечер, как встретил впервые Маминых, приехавших в Егву, и подивился: какие молоденькие да отменные. Отец Наркис только-только Пермскую духовную семинарию тогда закончил. Но серьезен не по возрасту и во всех делах церковных оказался строго аккуратным. Высок, статен, окладистая темная бородка, густые волосы до плеч, звучный голос. Серые спокойные и внимательные глаза. Не табашник, к рюмке рука ни разу за все время в Егве не потянулась. А ведь что греха таить, попадали в Егву, бедное пермяцкое село, вчерашние бурсаки, привыкнув к зелью в Перми. Из-за стола прихожан, радуясь даровому угощению, вылезали, опираясь о плечи соседей, и на улицу выходили, поддерживаемые под руки, выделывая ногами крендели. Опять же, никогда жадности не проявлял при сборе треб, дележе кружечного сбора, довольствуясь малым. Анна Семеновна выглядела совсем девочкой, да ей и в самом деле семнадцати не было. Привязались к ней отец Александр и матушка Мариамна Семеновна, как к родной дочери. На их глазах за эти три года. Анна Семеновна расцвела на диво. Густые каштановые волосы всегда гладко причесаны, лоб выпуклый, карие глаза большие, как звезды. Засмотришься…
Провожал Маминых и «дворовый человек» графа Строганова – юноша с задумчивыми и грустными глазами, Яков Кириллович Кривощеков, художник-самоучка. Его брату, Александру, повезло больше – попал по воле графа в Петербург в его художественное училище. А он, Яков, так и прозябал тут – на положении художника при управляющем. Он все собирался написать портрет Анны Семеновны, да так и не сумел. С Наркисом Матвеевичем они очень сблизились.
Когда родился первенец, Николка, попросили Мамины отца Александра и Мариамну Семеновну стать восприемниками – крестными отцом и матерью. Согласились с радостью. Словом, прижились в Егве Мамины, стали своими эти хорошие, работящие люди.
Частым и приятным гостем Маминых бывал Дмитрий Мельников – крепостной служащий графа Строганова. Дмитрий был несколько старше Наркиса Матвеевича, но, отдавая должное его образованности, твердым, серьезным взглядам на жизнь, позволял себе шутливо-дружески, когда оставались наедине, величать его «батькой».
У Мельникова, вдовца, росло трое детишек, все дочки. Мечта его заветная – вырваться из рабского положения, стать самому и дочерям вольными. Дмитрий кончил заводское училище, в котором готовились служащие для управления обширным графским хозяйством. На этом Строганов оборвал его образование. А был Дмитрий способен, обладал умом живым и острым, мечтал учиться дальше, получить технические знания. За усердную многолетнюю службу граф иногда освобождал от крепостной зависимости верных слуг. Но не так просто было добиться этой милости.
– Да, батька, – жаловался Дмитрий еще года полтора назад Наркису Матвеевичу, – похлопотал снова, и что… Граф письменно так неудовольствие выразил: держу годных, а с негодными для меня людьми расстаюсь при первом случае. Вот и служи честно, живота не щадя… Ах воля, воля! Да будет ли она дана русскому народу?
– Будет, Дмитрий, будет, – убежденно заверил его Наркис Матвеевич. – Растет образование. А образованных нельзя держать рабами. Слышал же, что в столице об этом думают, комиссии заседают…
Наркис Матвеевич, закончив духовную семинарию, недолго раздумывал о невесте. Сам сын дьякона из бедного прихода, он не стал искать выгодного брака, как было в обычае, а взял в жены дочь дьякона-вдовца из Горного Щита, что под Екатеринбургом. Знал девушку давно, еще с той поры, когда учился в Екатеринбургской бурсе. Добрые и нежные отношения соединили этих двух людей. Молодая матушка еле-еле умела писать, да и читала с трудом. Мог ли примириться с этим Наркис Матвеевич? Он по-серьезному занялся ее образованием. Анна Семеновна с жаром принялась за ученье. За три года жизни в Егве она во многом преуспела, чем очень радовала Наркиса Матвеевича.
Однажды, зайдя к Маминым в дневное время, Мельников застал такую картину.
На постели гукал маленький Николка. Наркис Матвеевич, в подряснике, заложив за спину руки, расхаживал по избе, четко, нараспев читая какие-то стихи. За столом сидела Анна Семеновна и, поглядывая на мужа, старательно писала под его диктовку в ученической тетради.
Дмитрий замер у порога.
– Проходи, – пригласил Наркис Матвеевич, и Анна Семеновна стала собирать со стола бумаги. – На сегодня уроки закончили.
Дмитрий недоуменно смотрел на Наркиса Матвеевича.
– Чему удивился? – заговорил тот. – Уроки… Ты какими хочешь видеть детей своих? Верно, не только вольными, но и образованными? Войдут они в возраст, кто же, как не мать, может лучше помочь в учении детям? На ней лежит их воспитание.
Заплакал ребенок. Анна Семеновна взяла мальчика на руки и вышла покормить его.
– Как ни труден бывает день, а мы обязательно часика два занимаемся русской литературой, арифметикой, историей, другими науками, – сказал Наркис Матвеевич, теплым взглядом провожая жену.
Он часто по делам прихода отлучался из Егвы и вынужденно оставлял молодую женщину одну. В такие часы у нее возникала потребность касаться пером бумаги. На толстых желтых казенных листах неуверенной рукой, почти детским почерком, восемнадцатилетняя женщина переписывала стихи Рылеева, Пушкина, Козлова… Эти стихи записывались ею «для души», в минуты сердечных волнений, они отвечали се настроению, согревали сердце.
Рядом ложились отрывочные фразы о небогатой внешними событиями жизни Маминых в Егве. «Пятница, 27 апреля, – писала она, – Наркис Матвеевич ездил в Кудымкар, привез две веточки жасмина». На следующий день она записала: «Отослали прошение в консисторию об отпуске на родину».
В этот последний вечер Маминых в Егве у них гостил Николай Наумов – бедовый бурсак. Начинали они с Наркисом Матвеевичем в семинарии вместе, но Николай Наумов в старших классах стал задерживаться по два года, что, однако, не мешало их дружбе. Был Николай рыжеват, глаза зеленые, с хитринкой. В бурсе товарищей покоряла легкость его характера, верность в отношениях, отзывчивость.
Незадолго до этого он прислал Наркису Матвеевичу в Егву не письмо, а сплошной вопль о своем бедственном положении.
«Отец Наркис! – писал бурсак в том письме, которое и сейчас хранится Маминым в шкатулке. – Посоветуй пожалуйста моему дядиньке, чтоб он послал мне хотя бы с целковый, выскажи ему мои недостатки и нужды семинарские, объяви, что ни от кого помощи не получаю ни копейки, а самому семинаристу грош стоит большого труда. Докажи ему но своему сознанию, что на бурсе без посторонней помощи жить почти невозможно. Особенно при выпуске, как я, нуждаюсь в копейке, право, описать тебе сил нет. Необходимо купить сапоги, а денег менее копейки, следовательно, я скоро стану ходить босиком. Вот тебе и кончивший курс, жених!.. Ужели дядинька ни сколько не имеет сострадания к бедному бурсаку?..»
К этому следовала такая чисто бурсацкая приписка:
«В субботу 8-го в нашем классе кончаются совсем экзамены, а выпить не из чего, черт возьми!»
Значит, дошел до крайнего Николай Наумов, никогда раньше не падавший духом в любых обстоятельствах, других поддерживавший. Наркис Матвеевич, по себе знавший отчаянное бурсацкое житье, которое у него началось с восьми лет, послал, сам стесненный в деньгах, другу рубль, побывал у дядюшки, священника соседнего прихода, убедил того, что надо выручать племянника.
Спасибо другу, что приехал из Перми попрощаться, не посчитался сделать для этого немалый крюк. Судьба Наумова устроилась с помощью дядюшки счастливой женитьбой. В селе Сосновском, что стоит на Большом Сибирском тракте между Пермью и Осой, для него отыскали богатую невесту – дочь недавно скончавшегося священника. Супруга в приданое принесла сундуки всякого добра, большую избу, корову, живности полный двор и, главное, место в причте. Можно жить!
– А что за село – скажу, – посвящал в свою новую жизнь, улыбаясь, Наумов. – В приходе душ обоего пола более девяти тысяч, да доходов у причта почти нет. Раскольники кругом – скупятся… Правильно, что в Висим едешь, – добавил Николай. – От Демидова будет тебе жалованье не ахти какое, но все же верные деньги. К тому же кормовые, да и дровишки, да и свечи… Сенцо тоже… Не надо по приходу с мешком ходить, свое по горсточкам получать, овес в торбу сыпать да яйца в карман складывать.
Отец Александр вздохнул.
– Не укоренился ты, значит, Наркис Матвеевич, у нас. Да и то сказать, что Егва? Бедность мирская… Село и есть село. А там завод – другие люди, и жизнь, верно, не наша захудалая и тихая. Рядом – Тагил. Владение Демидова. Неизвестно даже, что выше – наша торговая Пермь или заводский Тагил?
Наркис Матвеевич растроганно думал: «Зачем он так про Егву? Что же Егва? Можно ли ее хулить? Везде живут люди… Вот Дмитрий Мельников, Яков Кривощеков, да хоть и сам отец Александр. Разве только о животе своем думают?.. У хороших людей поддерживают дух, слабым – помогают. Не в этом ли и состоит задача человека? Нет худого места, как нет и худых людей. В Висим он едет, чтобы быть поближе к родне. В Горном Щите живут отец и сестра Анны Семеновны. Возле Ирбита – родители Наркиса Матвеевича, братья.
2
Небо было ясное, но откуда-то сверху и издалека прогромыхало, словно с кручи телега сорвалась и пошла по камням, разлетаясь и разламываясь, гремя железными осями и ошинованными колесами.
– Эва! – коротко и озабоченно сказал возница, снимая валяную шляпу и размашисто крестясь.
– Что? – спросил Наркис Матвеевич.
– Июльская идет… Самые они тут огненные. Видел свежее горелое место? На прошлой неделе вот тут же налетела, запалила. Еле утишили… Сколько леса пропало… Туда теперь никому дороги нет, десять лет на этом пожарнике ничего не вырастет…
Каменистая дорога, то красноватая, то желтовато-охряная, на которой оскальзывалась, высекая шипами искры, подкованная лошадь, тянулась с горы на гору. Кажется, что вот поднимешься на гребень и за ним – человеческое жилье. Но нет – опять такой же уросливый спуск, а потом новый подъем. А кругом лес, лес… Вековые сосны, стволы словно из начищенной меди – светятся, бросая на дорогу золотистый отблеск. Густо пахнет смолой. С гребня взглянешь – сплошная щетка сосновых лесов.
Возница и Наркис Матвеевич шагали обочь дороги. Лошадь без понуканий тянула тяжелый воз, на котором поверх пожиток с Николкой на руках сидела Анна Семеновна, сомлевшая от дальней дороги, палящего солнца, лесной духоты.
Еще не одолев и половины подъема, увидели в голубом небе широкую радугу – словно въезжали под эту многоцветную радостную арку.
Второй раскат услышали почти у самого гребня. На этот раз он показался еще ближе. Такой гулкий, будто кто-то пустил с горы большие каменные шары.
Тут и гребень. Все встали. Лошадь тяжело поводила крутыми потными боками. Наркис Матвеевич прищурил глаза. Опять перед ними был крутой спуск, дальше ничего не видно. Все закрыла стена тяжелого дождя, которая стремительно надвигалась им навстречу. Аспидно-грозная во все небо туча острой стороной уже закрывала левую дужку радуги, упиравшейся в глубокий распадок. В двух местах – справа и слева – разом полыхнули молнии, словно огненные мечи, – как на иконах, – и ударились о камни. Треснуло небо.
Возница взял под уздцы лошадь и, сворачивая ее к лесу, крикнул:
– Отец Наркис! Матушку береги!.. Укрыться надо…
Телега прыгала по корням на узкой лесной дороге. Ее швыряло из стороны в сторону. Наркис Матвеевич бежал рядом, держась за грядку, с тревогой смотрел на жену.
– Сейчас, сейчас… – успокаивал он Анну Семеновну, еще не зная, зачем они свернули. Ведь лес кругом, в любое дерево молния ударит, не лучше ли было переждать грозу на открытом месте?
В лесу зашуршало, словно кто-то большой ломился им навстречу, сокрушая сушняк, уминая его под ноги. Стало темно и холодно, как в осенние сумерки. И тут же обрушился дождь, с такой силой, что сосны закачались и дорога разом наполнилась водой.
Открылась поляна. На ней – дом глядел тремя окнами на поляну, под тесовой крышей, с глухим двором. Здоровый черный пес, взбрехнув, посунулся было из полуоткрытой калитки, но, видно, здорово хлестануло его – метнулся назад. Из калитки выглянул мужик в синей рубашке, враспояску, с рыжеватой, коротко стриженной бородой, босой, остро взглянул на Наркиса Матвеевича и исчез. Отворились тяжелые ворота, и тот же мужик встретил их в крытом дворе.
– Милости просим, – сказал он, все вглядываясь в Наркиса Матвеевича. – Хорони бог, какая гроза идет!
– Прими, Филипп, прими, – заговорил возчик, заводя лошадь к яслям. – Нового батюшку, отца Наркиса, везу. А с ним, вишь, и матушка Анна Семеновна с младенцем. Бог нам тебя на пути послал. Вон ведь как гремит, – обратился он к Анне Семеновне. – Напугались, видно? Беда…
Наркис Матвеевич, приняв осторожно сына у жены, помог ей, успевшей промокнуть насквозь, спуститься с телеги. Сойдя, она взяла Николку на руки и за хозяином пошла к дому.
Войдя в горницу, Наркис Матвеевич, по обыкновению, повернулся лицом в передний угол и понял, что они заехали в дом раскольника-кержака. В углу на высоте в рост человека стоял трехстворчатый старинный складень с потемневшими «меднолитыми иконами», по сторонам кресты – большие и малые – тоже медные, врезанные в дерево. Из-за икон белела сухими барашками веточка вербы.
Лес за стенами, тяжко гудя, шатался под ударами ветра. Сильно и ровно шумел дождь. Становилось все сумрачнее и холоднее. Фиолетовые всполохи то и дело пробегали по черному небу. От ударов грома позванивали стекла.
Анна Семеновна, сидя в уголке на широкой лавке, укачивала раскричавшегося Николку. Наркис Матвеевич, наклонившись к ней, беспокойно спросил:
– Как ты? Не растрясло? Господи помилуй… Давай я подержу, – и забрал у нее сына. – А ты скинь мокрое, переоденься.
Он ходил по избе, покачивая ребенка и прислушиваясь к тому, что творилось на дворе.
– Ну и гроза! – заметил Наркис Матвеевич, обращаясь к молчаливому хозяину.
– Места наши железные, – сказал хозяин. – Люди смотрят и думают – камень. А ведь под ним железная гора. Она и притягивает молоньи. Вся железная… Народу сейчас в лесу много, – добавил он озабоченно. – С сеном убираются… Какой бы беды не вышло. Ни одной грозы даром не обходится. И молоньи разные бывают – то просто, а то шаровые. Самые страшные…
Как бы в подтверждение его слов сверкнуло так близко и так ярко, что все, ослепленные, на миг закрыли глаза. Почти перед самым домом вспыхнула сосна, охваченная огнем от комля до вершины. От удара грома дом словно встряхнуло. За перегородкой заголосила женщина. Хозяин, двуперстно перекрестясь, бросился из дома.
Наркис Матвеевич стоял с Николкой на руках у окна и смотрел, как рыжее пламя с горящей сосны по-кошачьи перепрыгнуло на вершины соседних деревьев, но, сбиваемое дождем, затухало; и на сосне, пораженной молнией, оно становилось слабее и наконец погасло. Только еще дымился расщепленный черный ствол.
Хозяин вернулся в горницу и, успокаивая, сказал:
– Дальше пошла…
Верно, гром, слабея, все уходил и уходил, дождь затихал, хотя сеялся еще густо.
– Ехать вам, отец Наркис, сейчас невозможно, – решительно предупредил Филипп. – Вода поднялась… Утонете… Ночуйте, утром тронетесь, а к вечеру спокойно и в Висим попадете.
…Всю ночь шелестел слабый дождь. Наркису Матвеевичу лишь дремалось. Анна Семеновна спала беспокойно, полыхая простудным жаром. С тревогой думал он о жене: не повредила бы ей, в ее тяжелом положении, эта трудная дорога. Ведь совсем немного осталось до родов.
Что будет с ним, если вдруг она навсегда покинет его. Хрупкая женская плоть. Рождение ребенка связано с великими муками и страданиями. Мать находится между жизнью и смертью в минуты появления новой человеческой души.
Вспоминал, какие тяжелые дни пережил год назад в такую же летнюю пору, отпустив Анну Семеновну с сыном погостить к ее отцу, Семену Степановичу, в Горный Щит. Долго откладывал эту поездку, ведь не близок путь от Егвы, где они жили, до Горного Щита. Но уж очень хотелось деду взглянуть на внучонка, да и Анна Семеновна рвалась побывать дома. Правдиво: в разлуке люди познают силу своего чувства. Уехала Анна Семеновна, и мир опустел.
«Милый друг, Анна Семеновна! – писал тогда Наркис Матвеевич жене в Горный Щит. – Из Егвы я выехал провожать Вас еще почти в естественном состоянии, а что было со мной в Кудымкаре и в Верх-Юле: голова как-то кружилась, или кружились одни чувства, и так сильно, что казалось будто и голова кружится или что со мной другое, не могу себе объяснить и до сих пор. И Вы, если в состоянии были наблюдать, могли заметить во мне перемену. Ах! Что я чувствовал тогда??!! Не знаю. Конечно, я крепился до последней минуты, но что эта крепость? Она была так наружна, что многие могли заметить мое неестественное состояние: а ежли бы кто-нибудь мог видеть состояние моего сердца, тот наверное не был бы таким хладнокровным зрителем такой крепости…»
Наркис Матвеевич верит, что будет любить Анну Семеновну во все дни живота своего, всю жизнь посвятит ей и детям, рожденным ею. В гневе никогда не позволит себе повысить на нее голос, в горе будет ее опорой, в болезни – врачевателем.
…Пройдет много лет. Будут радости и горести. Всякое будет. Но этот переезд из Егвы в Висимо-Шайтанск, эта гроза в горах Урала, сосна, вспыхнувшая перед окнами, изба раскольника – лесного смотрителя, те ночные мысли о будущей жизни, о силе своего чувства к жене будут помниться всегда. В любви и полном согласии проживут все дни своего супружества Мамины вплоть до безвременной кончины Наркиса Матвеевича.
Много лет спустя, на склоне жизни, Дмитрий Наркисович, в автобиографических записках, вспоминая юность и родителей, напишет о них так:
«Тихо и мирно жили эти люди, добросовестно несли свои обязанности, и я всегда с удовольствием вспоминаю об этой жизни и думаю, что недаром сказано об уменье распорядиться тем малым, что выпадает на долю человека».


![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





