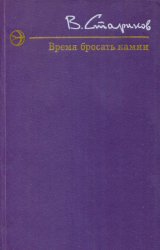
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Дмитрий увидел небольшую группу студентов, стоявших отдельно, не сливаясь с толпой, стал пробираться к ним и успокоился. Он – среди своих. Кто-то громко сказал: «Идут!» И Дмитрий увидел осужденных. Они шли с поднятыми головами, разделенные одинаковыми фигурами конвойных.
Отсюда хорошо было видно все, что происходило в центре площади.
Николай Плотников, с мужественным, выразительным лицом, с глубокими глазами, чисто выбритый, и Иван Папин, у которого был красивый высокий лоб, зачесанные назад русые волосы, густые усы и борода, – оба с обнаженными головами стояли на помосте рядом. Возле них застыл в грубой готовности хмурый палач – мужик невысокого роста, с оголенными по локоть мускулистыми короткими руками, заросшими черными волосами. Товарищ обер-прокурора Стадольский, затянутый в мундир, безупречно чистенький и сверкающий пуговицами, озабоченный и строгий, как классный надзиратель, громким голосом начал читать пространный приговор. Осужденные слушали, не опуская глаз.
Подошел в черной рясе старенький священник и протянул сначала Плотникову, потом Папину крест для целования. Оба решительно отвернулись от него. Толпа осуждающе загудела.
Палач подвел осужденных к позорному столбу и силой заставил опуститься на колени. Поднял над головой Плотникова шпагу, готовясь переломить ее.
Плотников вскинул голову и звонким голосом прокричал:
– Долой царя! Да здравствует народная свобода!
На площади ошеломленно молчали.
И в этой тишине отчетливо прозвучал чей-то ответный голос:
– Да здравствует!
К осужденному подбежал Стадольский и замахнулся на него. Но Плотников упрямо мотнул головой и с новой силой прокричал:
– Долой бояр и князей! Да здравствует свобода!
В студенческой группе ему зааплодировали и несколько голосов согласно хором проскандировали!
– Браво!.. Браво!..
Стадольский нервно заторопил палача и махнул начальнику конвойной команды. Глухо и тяжко забили барабаны, заглушая голос Плотникова, все еще выкрикивавшего лозунги. Палач торопливо разломил над его головой шпагу и обломки ее бросил на помост. Потом такой же обряд лишения всех прав и состояния повторил над головой Папина. Пока он проделывал все это, Плотников продолжал что-то выкрикивать. Но барабаны заглушали его голос.
Осужденных все под тот же барабанный грохот свели к закрытой карете и втолкнули туда. Лицо Плотникова показалось в зарешеченном окошке.
– Долой деспотизм! – выкрикнул он. – Да здравствует свобода!
Карета тронулась, конвой окружил ее, молодежь ринулась вслед. Но в толпу энергично врезалась полиция, начала хватать студентов. Накинулись даже на девушку. Помогать городовым ринулись дворники с блестящими большими бляхами на белых фартуках, какие-то юркие молодые люди с черными усиками.
Бородатый дворник с маленькими свирепыми глазами кинулся на Дмитрия, спокойно стоявшего в стороне. Он решительно оттолкнул бородача и зашагал в сторону от площади.
– Барин! Постой, барин! – кричал ему вслед сильно прихрамывающий дворник, но Дмитрий шел не останавливаясь, не оглядываясь, все убыстряя шаги, пока не стал задыхаться. Только тогда сбавил темп. Даже присел передохнуть на скамейку у ворот двухэтажного деревянного дома.
Неприятное чувство от всего виденного владело им. Какая жестокость властей! Какое надругательство над человеком! Соразмерно ли зло наказанию? Что они успели сделать? Выпустили три воззвания и с ними пошли к народу. Какое ребячество рассчитывать, что крестьяне, выслушав их прокламации, поднимутся на восстание! Народ их не принял, ничего не понял из того, что они хотели ему втолковать.
В памяти всплыли ужасные казни, которые в далекую пору детства двенадцатилетний Дмитрий видел на Хлебном рынке в Екатеринбурге. Так же поднимался на помост священник, напутствовал осужденного, давал целовать крест. Потом начиналась кровавая экзекуция. Палач бросал на «кобылу» жертву, привязывал ее ремнями и начинал хлестать плетью по обнаженному телу, до крови рассекая кожу.
Те публичные казни, с кнутом, отменены. А чем отличается нынешняя позорная казнь? Только тем, что на столичной площади не свистел кнут, не раздавались крики истязуемых? Нет, есть и более существенная разница. Тогда наказывали темных, невежественных мужиков за действительные преступления. Ныне судят и наказуют публично образованных, умных людей за убеждения. Какая же казнь ужаснее?
…Царская судебная машина продолжала работать. Не успело еще замолкнуть дело долгушинцев, как в июле 1875 года состоялся новый гласный процесс над группой петербургских студентов, обвиняемых в политических преступлениях. Снова заседало Особое присутствие правительствующего Сената, разбиравшее это дело. Судили Дьякова, Сирякова, Герасимова, Александрова, Зайцева и Ельцова, обвиненных в распространении революционных идей между рабочими на фабриках и среди солдат в гвардейском Московском полку.
Главные обвиняемые Дьяков и Сиряков, как сообщалось в стенографическом отчете, печатавшемся в «Правительственном вестнике», отказались от официальных защитников.
В обвинительном заключении излагалось:
«В начале апреля 1875 года рабочий фабрики Чешера, крестьянин Яков Самойлов и бессрочноотпускной бомбардир Антон Андреев подали начальнику Санкт-Петербургского жандармского управления заявления, в коих объяснили: 1-й, что на дворе фабрики в квартиры рабочих Михаила Васильева, Матвея Тарасова, Никифора Кондратьева и других приходил молодой человек, который читал им после занятий о старине, потом о самарском голоде. Когда Тарасов, Кондратьев и другие переехали на новую квартиру на Черной речке, то чтения и там продолжались; и 2-й, что в конце марта 1875 года брат его бессрочноотпущенный рядовой Яков Андреев, работавший на фабрике Чешера, принес ему книгу «Историю одного французского крестьянина», объяснив, что подобные книги в квартиры рабочих, живущих на Выборгской стороне, на даче Бобошина, носят студенты. Заметив, что в принесенной книге нехорошо говорится, он ходил к брату несколько воскресений и заставал там читавшего студента и нескольких рабочих. После чтения был разговор о том, что всем соединиться и произвести бунт. Студент говорил, что нужно уничтожать купцов, дворян и царя.
…Высказывалось, что нужно вырвать корень, а если посшибать одни сучья, то пойдут отростки и опять будет то же, что и теперь».
Подсудимые не отрицали своих связей в рабочей и армейской среде. Они действительно были убеждены, что фабрики и заводы должны стать общественным достоянием, а земля поделена поровну среди крестьян.
Когда председательствующий предоставил последнее слово Дьякову, тот ответил:
– Говорить в свою защиту после того, как в числе свидетелей выступили три агента сыскной полиции, я нахожу неуместным.
– Я считаю свою защиту невозможной ввиду тех обстоятельств, о которых заявил Дьяков, – поддержал своего товарища Сиряков.
Главные обвиняемые были приговорены: Дьяков, Герасимов и Александров – к десяти годам каторги. Сиряков – к шести.
Среди обвиняемых были два студента Медико-хирургической академии: Владимир Ельцов и Всеволод Вячеславов.
Дмитрий Мамин хорошо знал их, встречался несколько раз на сходках.
От Наркиса Матвеевича приходили тревожные письма. Он беспокоился за сына, за его судьбу и решительно осуждал студентов, которые пренебрегли возможностью получить образование и занялись предосудительной деятельностью.
«В предыдущем своем письме вы много распространялись насчет дела Сирякова и Дьякова, – сдержанно писал Дмитрий отцу, – забывая две вещи: 1. что можно даже своими ошибками принести великую пользу, 2. что лежачего не бьют. Насколько эти господа были мечтателями и непрактичными людьми, показывает все дело их рук, за которое следовало бы им давать побольше холодной воды, чтобы дать время поостынуть, но что было, того не воротишь, и бедняги должны теперь всю жизнь выстрадать за свою ребяческую, даже глупую неосмотрительность».
Продолжались аресты среди студенчества. Дмитрий, опасаясь внезапного обыска, перечитал все письма отца и большую часть их сжег, чтобы не дать повода к каким-либо обвинениям. Совет о том же дал и отцу относительно своих писем.
В это лето – 1875 года – он опять поселился в полюбившемся ему Парголове. На этот раз с другим земляком – Петром Аркадьевичем Арефьевым, родом из-под Ирбита. Как и в прошлом году, неподалеку от дачи Аграфены Николаевны. Они больше не скрывали своих отношений.
Дмитрий жил надеждами, что этот год будет к нему добрее. А он оказался еще более суровым. Пережитые трудности казались сейчас пустяковыми по сравнению с теми, что навалились на него.
Скромный успех первых рассказов окрылил его, но ненадолго. Оказалось, что и с художественной прозой была своя маета, не легче газетной. Дмитрий сообщал отцу, что мало написать рассказ и напечатать его, надо еще уметь и деньги у издателя вырвать.
«Приходишь раз – нет, придите, пожалуйста, в другой раз; приходишь в другой. Ах, извините, пожалуйста, денег нет, будьте так добры, зайдите в такой-то день. И так далее, и так далее. За деньгами приходится прогуляться иной раз 5—6 раз, а это будет около шести верст взад и вперед».
Дмитрий уже не был похож на того юношу, что три года назад выходил из вагона на перрон Николаевского вокзала полный радужных надежд на будущее. Жизнь, казалось, делала все, чтобы разрушить его иллюзии и сломить нравственно. Он стал свидетелем жестоких расправ с молодыми людьми, пытавшимися помочь угнетенным. Сильные притесняют слабых, ловкие обходят простодушных. В газетной и журнальной среде Дмитрий насмотрелся, как погибают, словно ненужные обществу, натуры способные, одаренные, но изнемогшие в борьбе с обстоятельствами. И сгорают от алкоголя эти пролетарии умственного труда или заканчивают свои дни на больничной койке.
Для Дмитрия каждый день был днем жестокой борьбы за право продержаться в столице. Порой его настигал голод. Настоящий голод, когда несколько дней он совсем не ел. Самый тяжелый – первый день голодовки, второй проходит полегче, а на третий вообще уже и есть не хочется. Но Дмитрий не падал духом. И все же страх голода у него сохранился на многие годы.
Русское общество переживало десятилетие мучительных противоречий. Старые отношения, когда помещики существовали за счет крестьян, мало беспокоясь о будущем, а вся система государственного управления покоилась на фундаменте крепостного права, рухнули. Новые еще не приобрели устойчивых форм. Лишь явственно бросалось в глаза: главной силой становились деньги. Не «благородное» происхождение, не занимаемые посты, а деньги – десятки, сотни тысяч, миллионы. Чем больше денег, тем увереннее и наглее вел себя их обладатель. Это было новым явлением, ошеломляющим, шокирующим. Раньше в высших сферах о богатстве предпочитали умалчивать. Говорить о деньгах считалось дурным тоном, к разбогатевшим выскочкам относились брезгливо. Теперь перед ними заискивали. Родовитые фамилии, чтобы как-нибудь продержаться, входили в сговор с капиталом. Как ни свирепствовала цензура, литературе все-таки удавалось иногда отразить новые отношения в обществе, возникновение новой морали и нравственности. Остро, обнаженно писал о разрушении старых форм, о новой силе денег и неизбежной при этом ломке сознания Достоевский. Роман «Подросток» как раз начал печататься в журнале Некрасова «Отечественные записки».
«Нынешнее время, – говорил Ф. М. Достоевский устами одного из персонажей романа, – это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею… Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево – все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало».
Дмитрий болезненно воспринимал обнаженный цинизм своего времени. Он с горечью писал домой:
«Как вам известно, я не принадлежу к разряду счастливых, потому что небо моего счастья часто заволакивается густыми тучами… Издали, конечно, интересно смотреть, как шумит и хлопочет вечно суетящаяся разношерстная толпа наших городов, но вмешиваться в эту толпу не стоит, потому что единственный двигатель здесь деньги, деньги и деньги, и неприхотливое сероватое лоно родной провинции покажется в десять раз лучше. Конечно, все это говорится про незлобивых сердцем и чистых, как голуби; повесть о волках, приходящих в мир в овечьей шкуре, повесть о хитрых, как змеи, наводняющих нашу землю, совсем в другом тоне: они – жители теперешних городов, сделавшихся каждый в своем роде Вавилоном в той или другой степени… Таков мой личный взгляд, хотя сам я пока и не желал бы закупориться в провинции, потому что мне еще нужно потолкаться между людьми да поучиться уму-разуму…»
Потом он будет много писать о силе денег и о волках в овечьей шкуре. Вокруг денег будут кипеть страсти уже в первом его романе «Приваловские миллионы».
На Парголово Дмитрий возлагал большие надежды. Конечно, он не рассчитывал, что сможет написать произведение, равное тому, что выходило из-под пера Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. До них ему еще далеко.
Но где возьмешь этот твердый фундамент?
Товарищу по даче Петру Арефьеву Мамин излагал свою позицию так:
– Понимаю, что в литературе выигрышный билет выпадает на миллион пустых. Буду себя пытать и пытать, авось он мне и выпадет. Но кормилицей до той поры будет моя будущая профессия – ветеринария.
Пока же Дмитрию нужно было позаботиться о мало-мальски сносных условиях жизни. Рассказы нашли издателя и принесли частичную независимость. Отлично! Они помогли Дмитрию убедиться, что он способен на большее, чем репортерские отчеты в газете. Значит, надо работать, работать, как можно больше писать.
Сюжетов сколько угодно. Дмитрий читал текущую литературу и убеждался: о жизни он знает больше, чем многие авторы. Перелистаешь подряд десятки журналов, и становится стыдно – что печатают! То сюсюкают о крестьянстве, то липко восхищаются добренькими господами, будто бы заботящимися о простом люде. Сюда бы уральского мужика с Чусовского завода. Дать бы понюхать, чем пахнет рубашка после трудового дня, какими кровавыми слезами порой плачут люди!
Дмитрию очень хотелось написать роман, дать простор воображению и волю чувствам. И он думал о нем, просиживая дни и ночи над рукописями рассказов. Хотелось подробнее, ярче рассказать о Висиме, окруженном горами, о фабрике с ее потемневшими стенами, где полыхает негасимый огонь, о жителях поселка, не вылезающих из вечной нужды, об их семейных историях, житейских драмах. Вспомнил крепостное право, когда фабричное начальство – от смотрителя до управителя – было полновластным хозяином над рабочими людьми, над их жизнью не только на работе, но и дома.
Действие романа могло бы происходить на Межегорском заводе, – а описывать он будет родной Висим. Главными в романе станут отношения народа с хозяевами. Дмитрий покажет судьбу рабочего, тяжкую долю женщин и правдиво изобразит тех, по чьей вине страдают простые люди.
Дело кончилось тем, что Дмитрий бросил рассказы и принялся за роман.
Он назвал его – «Виноватые».
Действие начиналось с шумной свадьбы молодого заводского мастера Архипа Рублева и Аграфены Заплатиной. В разгар веселья в горнице вдруг появляется нежданный гость – приказчик Назар Зотеич Рассказов, крутой и самовластный заводской распорядитель. Красота невесты поражает его, рождает в нем похоть. В таких случаях Назар Зотеич удержу не знает. Последняя его жертва – Алена. Но она уже надоела, лишь по привычке изредка заглядывает он к ней.
Новая страсть затуманила голову Рассказова. Все настойчивее преследует он молодую женщину, смущая ее посулами.
Архип, подозревая неладное, ожесточается. Однажды, измученный ревностью, он жестоко избивает ни в чем неповинную жену. И тем самым разрушает в ней сильное и чистое чувство к нему.
Дмитрий описывал картину за картиной, словно видел их:
«Фабрика была старая, и черные ее растрескавшиеся стены имели весьма непривлекательный вид. Сверху от одной стены до другой безобразно тянулись железные связи, в просвете слуховых окон железной крыши виднелось голубое небо, жар от печей, сырость от стен, яркий свет и черные тени в углах – все вместе сливалось в одну фантастическую картину, ярко освещаемую снопами искр, летевших от большой крицы, которую четверо рабочих обжимали под большим молотом».
На этом заводе и работает Архип Рублев. Здесь он почти каждый день сталкивается со своим соперником – приказчиком.
Приказчик Назар Зотеич – не примитивный обольститель. Мамин рисует его человеком недюжинных способностей на производстве, но нравственно искалеченным крепостным режимом.
«Не щадя себя проводил он дни и ночи около машин, не отходя ни на шаг от рабочих».
Архип, потерявший голову от ревности, пытается убить Рассказова. Это ему не удается. Хозяин, по рапорту Рассказова, выносит приговор Архипу.
Заковав в кандалы, его отправили в знаменитый на Урале Верхотурский острог. Далее следует цепь драматических событий, в ходе которых судьба (на кого же было надеяться еще?) наказывает Назара Рассказова за все причиненное зло. Погибла его жизнь, но погибла и жизнь Архипа Рублева.
Стремясь попасть «в тон» печатной продукции, наиболее охотно принимаемой коммерсантами-редакторами, Мамин придал реалистически описанным событиям мелодраматическое звучание. Это, безусловно, портило роман.
Летом в Парголове удалось написать половину романа.
Увлеченный работой, Дмитрий снова впал в бедственное положение. Отложив работу над романом, он опять возвращается к мелким рассказам для еженедельных расхожих журнальчиков.
Прочные связи устанавливаются с журналом «Кругозор». Он солиднее «Сына отечества», хотя общественная репутация редактора крайне сомнительна. Издавал «Кругозор» В. П. Клюшников, автор печально известного романа «Марево», откровенно направленного против молодежи с демократическими убеждениями. До этого Клюшников редактировал журнал «Ниву». М. Е. Салтыков-Щедрин в «Отечественных записках» на его второй роман «Цыгане» отзывался в рецензии так:
«Он написал два романа, в которых не отыщется и следа мысли; мало того, он редактирует целый журнал без мысли и в этом журнале предлагает премию за лучшую повесть, в которой совсем не будет мысли».
В журнале «Кругозор» Клюшников намеревался поставить дело широко, объявив, что в нем будут сотрудничать писатели Данилевский, Крестовский, Достоевский, Мельников-Печерский. Печатал же «Роковую месть», «Убийство Арабель Моротон», «Кто меня женил – небывалое приключение»; произведения никому не известных авторов – Ваке, Гиллиса и других подобных.
Мелкие рассказы Дмитрия в «Кругозоре» пошли ходко. Под будущие даже выдали аванс.
В канун нового 1876 года Дмитрий писал родителям:
«Я могу сказать, что 75-й год хотя и не сделал многого, чего я ждал от него, но и начало дело великое, а начало положено: я попытал счастья по части беллетристики, рассказов, и могу сказать, что на моей стороне такой выигрыш, какого я не ожидал. Прежде всего и, главным образом, мне и Вам интересны те 200 р., которые я получил за свои произведения (?!), а потом и та уверенность, что я могу писать в этом направлении не хуже других.
Если я упоминаю о моих рассказах, так только потому, что за них получил деньги; что же касается другой стороны дела, именно успеха, то это я меньше всего ожидал, да и не рассчитывал, потому что такой успех и на такой почве не считаю особенно лестным. Деньги, деньги и деньги… вот единственный двигатель моей настоящей литературной пачкотни, и она не имеет ничего общего с теми литературными занятиями, о которых я мечтаю и для которых еще необходимо много учиться, а для того, чтобы учиться, нужны деньги. Вам не понравится, папа, это откровенное признание за деньгами такой важности, но если приходится вырывать у судьбы чуть ли не каждый грош почти зубом, то эта сила денег делается совершенно очевидной».
Вот как он умел быть беспощадным к себе.
4
Дмитрий не сразу обратил внимание на свое недомогание. По утрам он испытывал такую вялость, что не хотелось отрывать головы от подушки. Перемогая себя, все же вставал, пошатываясь, и, стараясь соблюдать заведенный порядок, как обычно, наскоро выпивал чай и но темным еще улицам, ежась от озноба, насквозь продуваемый в худом пальтишке ветром, шел на лекции. По вечерам усаживался было за стол, но скоро, ослабев, оставлял работу, укладывался в постель. То не мог согреться, его знобило, хоть укрывался всем, что было под руками, то задыхался от жары, обливался потом.
Так продолжалось около двух недель. Потом он решил отлежаться несколько дней, дать себе поблажку. Тут болезнь словно караулила: ждала, когда он сдастся, ослабнув духом, свалила его. Временами он впадал в забытье и тогда почти не узнавал своей комнаты. Потом приходила бессонница. Он забывался лишь под утро.
Болезнь вцепилась крепко.
Мысли его в дни болезни не раз возвращались в далекое прошлое. Дмитрий испытывал сладостную и мучительную радость от этих воспоминаний.
Однажды, в тяжком жару, ему представилась уютная детская комната в Висиме и он сам, лежащий в постели, где возле его изголовья всегда теплилась лампадка под иконами. Ему тогда было отчаянно плохо, он много плакал от слабости и жара, полыхавшего во всем теле. Но жар стихал всякий раз, когда подходила мать и, наклоняясь, дотрагивалась губами до горевшей в огне головы. Прикосновение губ матери как бы смягчало эту боль. Он с трудом открывал глаза, смотрел на мать и затихал, стараясь больше при ней не плакать. Она вытирала его влажное лицо, меняла ему-рубашку. Каждое прикосновение ее рук было желанным, ему становилось легче. Из ее рук он пил какое-то снадобье, пахнущее травами. Она его о чем-то тихо спрашивала, и Дмитрий тихо отвечал. Потом он впадал в легкий освежающий сон. Заходил и отец. Он наклонялся к Мите так близко, что тот видел каждый завиток его пышной бороды, протягивал руку и касался ее.
Сколько дорогих людей стояло тогда возле него, помогая в борьбе с болезнью.
Потом вспомнилась еще одна тяжелая болезнь в пору, когда он учился в Екатеринбурге. Митя лежал на полу на своем обычном месте возле подоконника в комнате, где не было ни одной кровати. Товарищи осторожно обходили его; иногда появлялась хозяйка и подавала теплую воду. Он чувствовал себя одиноким, всеми забытым.
Приехал из Горного Щита дед. Взглянул на внука и захлопотал вокруг него.
– Митус, Митус, – приговаривал он по обыкновению. – Ты это что удумал, брат? А? Ну-кось, приподнимись, накинь лопотину. Сейчас поедем, все твои хворости живой рукой разведем.
В доме деда Митя плакал так тихо, что никто не слышал и не видел, призывая в мыслях отца и мать. Но они были далеко, очень далеко…
Как же обрадовался Митя, когда однажды под вечер, открыв глаза, увидел строгое и доброе лицо отца. Тот сидел за столом и о чем-то тихо разговаривал с дедом.
Отец, словно почувствовав взгляд Мити, повернулся к сыну, молча смотревшему на него, верившему и не верившему, что тот услышал его отчаянный зов.
Отец подошел, положил на горевший Митин лоб большую ласковую руку и поглядел на сына влажными глазами.
Сердце мальчика дрогнуло от счастья, он схватил другую руку отца и прижал ее к губам. Какая это была счастливая минута.
Наркис Матвеевич пробыл в Горном Щите только три дня. Митя знал, что отцу нельзя надолго отлучаться из прихода. Да и погода была дождливая – самая распутица. Какую же тяжелую дорогу преодолел он, поспешив к занедужившему сыну. Митя думал об этом, и на его глаза навертывались слезы признательности. Когда прощались, Митя даже не попытался попросить отца задержаться еще хотя бы на денек. Он только молча и благодарно кивал отцу, выслушивая его наставления.
Отец будто влил в него силы, и после его отъезда Митя быстро пошел на поправку…
Аграфена Николаевна оказалась настоящим другом. Она тяжело переживала болезнь Дмитрия, он даже слезы на глазах ее видел. В самую нужную минуту Аграфена Николаевна, словно сердцем предугадывая, оказывалась рядом. Добрая душа! Как и чем он сможет отблагодарить ее? Всегда рядом. Не раз она присаживалась к его постели, проявляя сочувствие ко всем его делам, делилась и собственными заботами. Она хлопотала, чтобы устроить сына и дочь в учебные заведения с казенным содержанием. Обращалась ко многим влиятельным лицам, ей что-то обещали, но дело пока подвигалось медленно. Нелегко приходилось Аграфене Николаевне, как и у Дмитрия, у нее каждая копейка была на счету.
– Вы хоть домой написали о болезни? – спрашивала Аграфена Николаевна.
Дмитрий кивнул, хотя о болезни в Висим не сообщал. Зачем тревожить родителей? Чем они могут помочь? У них и без того забот хватает: собираются переезжать в Нижнюю Салду.
Врач, приведенный Аграфеной Николаевной, осмотрев и выслушав Дмитрия, посоветовал:
– Больше отдыхайте, не переутомляйте себя, в питании – больше жиров, мяса. Физически вы ослабли. Избегайте простуд – с легкими у вас неблагополучно.
Эти требования врача были трудновыполнимы. Дмитрий переживал пору крутого безденежья. Он был счастлив, что последнее время обходился без помощи родителей, и сейчас никак не мог решиться просить у них денег. Здесь же больше не у кого было занять. Все, что можно было заложить, – давно заложено. Даже учебники. Да еще тяготила задолженность в академию.
Придется все же протянуть руку за помощью к отцу. Дмитрий понимал эту неизбежность, но откладывал обращение, надеясь на что-то, ставя этим себя в еще более трудное положение.
Мучило и то, что накапливались незавершенные рукописи: отложенный роман о династии Приваловых, недописанная «Легкая рука», роман «Виноватые». Начав роман в летние месяцы в Парголове, он надеялся завершить его до начала учебного года. А роман, независимо от воли автора, разрастался и разрастался, конца ему не виделось. Расчет на быстрое его завершение и получение под него денег не оправдался.
Когда болезнь отпускала, он присаживался к столу, к прерванным работам. В первую очередь – роман «Виноватые».
В эту пору с одной из рукописей он решил обратиться в передовой литературный журнал.
Но произошла катастрофа.
Впоследствии, много лет спустя, когда давно утихла боль обиды и поражения, Дмитрий Наркисович нашел в себе силы с юмором описать все произошедшее:
«Домашняя уверенность и литературная храбрость сразу оставили меня, когда я очутился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то работали здесь, а нынешние знаменитости проходят вот этой же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое сознание собственной ничтожности… Принимал статьи высокий представительный старик с удивительно добрыми глазами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спокойным сердцем.
Ответ по обычаю через две недели. Иду, имея в виду встретить того же любвеобильного старичка-европейца. Увы, его не оказалось в редакции, а его место заступил какой-то улыбающийся черненький молодой человек с живыми темными глазами. Он юркнул в соседнюю дверь, а на его месте появился взъерошенный пожилой господин с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хриплым голосом проговорил:
– Мы таких вещей не принимаем…
Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление… И от кого? Я его узнал по портретам. Это был громадный литературный человек, а в его ответе для меня заключалось еще восемь лет неудач».
Так состоялась первая и единственная встреча Дмитрия Мамина с М. Е. Салтыковым-Щедриным.
Рассказы же шли один за другим. В «Сыне отечества» и «Кругозоре» появились рассказы «Старцы», «Старик», «В горах», «Не задалось», «Красная шапка», «Русалка», «Тайна зеленого леса» и другие.
Позже он не любил вспоминать и говорить о рассказах и романе студенческих лет. Плоды молодости и не изжитого к той поре дурного вкуса. Только как-то обмолвился, что не нашлось в ту пору, при первых шагах, рядом, к сожалению, дружеской и опытной руки. Может, все пошло бы по-иному. Но не нашлось. Газетные же друзья смотрели на его журнальную работу, как на удачу своего брата-журналиста.
Рассказы выходили слабыми. Правда, попадались места яркие по, выразительности, с точной обрисовкой характеров действующих лиц. В авторской речи и языке персонажей немало было такого, что резко отличало его рассказы от других. В свои он принес живую разговорную речь, народные речения, меткие и хлесткие словечки, непривычные для ремесленных журнальных литераторов: «Не гляди сентябрем, а гляди россыпью», «Вам смешки да смешки, а мне и полсмеха нет», «На посуле, как на стуле», «Пень не околица, глупая речь не пословица», «Вольному – воля, ходячему – путь». По колориту – кровно уральское. Дмитрий сам не замечал, как все это срывалось с его пера, – он не только видел своих героев, но и слышал их речь.
Из тех первых работ кое-что оказалось впоследствии перенесенным в написанные спустя годы рассказы и очерки «Бойцы», «Старатели» и другие, но в иной окраске, ограненные уже рукой чуткого к слову художника.
И в другом выигрывали его ранние рассказы – в выборе героев и сюжетов. Он писал о социальных низах – о крестьянском и рабочем люде, об их обездоленности и придавленности. Главная мысль: «Везде ворочает деньга», «Деньга сила, потому и ворочает».
Врач при очередном визите более настойчиво посоветовал:
– Вам нужен длительный отдых. Подзапустили вы себя, юноша, весьма основательно. Не нравятся мне ваши температурные скачки, к тому же и кашель у вас скверный. Вы должны помнить, что климат нашего Петербурга коварен для легочников.
Дмитрий и сам чувствовал, как нуждается в длительном отдыхе, но об этом думать сейчас не приходилось.
К редактору-издателю «Журнала русских и переводных романов» А. Кехрибарджи Дмитрий обратился с письмом.
«Милостивый государь! – писал он. – 16 апреля мной была передана в контору Вашей многоуважаемой редакции рукопись «Виноватые». Эта рукопись представляет половину всего труда, и я осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой, нельзя ли просмотреть эту рукопись поскорее, потому что в непродолжительном времени мне придется оставить Петербург. Вторая половина рукописи будет представлена в самом непродолжительном времени, причем беру на себя смелость обратить Ваше внимание на то, г. редактор, что как сюжет «Виноватые», так в особенности его подробности отличаются особенной оригинальностью как отдельных характеристик действующих лиц, так и всей обстановки и бытовых особенностей той местности и того времени, во время которого происходит действие рассказа».
Он твердо решил, что как только справится с денежными делами, так уедет на Урал. Надо последовать совету врача, заняться поправлением здоровья.

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





