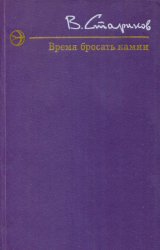
Текст книги "Время бросать камни"
Автор книги: Виктор Стариков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
– Я изучал жизнь народа практически… – начал Долгушин, но опять был оборван.
Подсудимый Плотников объяснял свою позицию:
– Говорят, я давал такое показание, что хотел идти на пропаганду революционных идей. Но дело в том, что когда старое миросознание сталкивается с новым миросознанием, когда старые идеи сталкиваются с новыми, то старые идеи уступают натиску новых…
– Нам этого не нужно, – резко оборвали Плотникова. – Нам нужны лишь факты.
– Я только хотел сказать, – начал было Плотников, – что в этом смысле новые идеи считаются революционными.
– Я опять повторяю, – снова, раздраженнее, оборвали его, – что нам нужны только факты, а не эти объяснения.
15 июля было оглашено решение Особого присутствия правительствующего Сената. Оно было жестоким. Главных обвиняемых приговорили к каторге: Долгушина и Дмоховского – к десяти годам, Гамова – к восьми, Папина и Плотникова – к пяти.
Жестокость приговора над молодыми людьми, которые скромными средствами пытались помочь народу понять, свое несчастное положение, потрясла лучшую часть русского общества. Весть об этой расправе дошла до самых глухих уголков России, возбуждая сострадание к осужденным и гордость за высоту их душевного подвига.
В день обнародования приговора в Парголове на даче у Мамина и Псаломщикова, не сговариваясь, собрались студенты, жившие неподалеку. Это был траурный вечер. Говорили о долгушинцах, сочувствуя им, восхищались их смелостью и последовательностью в борьбе за убеждения. Невольно разговор перешел к студенческим делам, к попыткам начальства ограничить самостоятельность учащихся, к взаимоотношениям с профессурой. Вспомнили по-доброму профессора Ивана Михайловича Сеченова, у которого опять возникли какие-то крупные неприятности с министерством просвещения. Разошлись поздно, после полуночи.
В это лето товарищи по академии еще несколько раз собирались у Дмитрия Мамина, как-то заглянули и к Аграфене Николаевне.
Дмитрий и Паша не подозревали, что полицейские власти в это тревожное лето усилили надзор за учащейся молодежью. За их дачей тоже установили негласное наблюдение. Поводом послужило донесение – здесь по вечерам собирается студенчество, засиживается допоздна, ведет шумные разговоры, но, главное, под гитару – это по вине Псаломщикова, любителя пирушек – поются многие непозволительные песни.
Пугали даже песни.
Мысленно Дмитрий не раз возвращался к отложенным рукописям, пытаясь разобраться, почему же ему не пишется? Может, он слишком увлекся злободневными идеями, а подлинного материала для убедительного изображения не хватает? Не попытаться ли написать о том, что ему ближе, что он хорошо знает?
Отрыв от Урала Дмитрий переживал болезненно. Зато издали отчетливее, яснее видел жизнь своего горного края. Вспоминались десятки лиц, среди которых он провел двадцать лет, их заботы, судьбы; плавание по осенней Чусовой с бурлаками, встречи в пути. Казалось, что он слышит голоса своих земляков, их красочную речь, сдобренную метким словцом. А перед глазами стояли картины уральской природы, не отпускали его. В такие минуты тянуло к письменному столу.
Дмитрий поделился с отцом своими мечтами о литературной деятельности. Они все сильнее начинали овладевать им.
Письма встревожили Наркиса Матвеевича.
«Чтобы быть хорошим писакой, – решился высказаться отец, – надобно иметь на то особые способности, нужны верные средства в содержании, прежде получения вознаграждения за литературные труды, которых должно быть очень и очень много, если кто дорожит честью своего имени; нужно для литератора очень серьезное образование: нужно много, очень много перечитать и всегда помнить все, что написано и напечатано чуть ли не за сто лет, а ведь это, согласись, потребует очень много времени и труда, – без этих же необходимейших условий лучше не совать суконного рыла в калашный ряд, если не хочешь отдать себя людям на посмеяние и поругание».
Это были серьезные советы. К литературному труду в семье Маминых относились с высоким уважением. Да никому не верилось, что Дмитрий, их Дмитрий, может стать писателем. Родителей пугала опрометчивость сына, его метания.
И Дмитрий прислушивался к советам, но уже прочно поселилось в нем что-то, что беспощадно и неотвратимо заставляло думать о героях своих зреющих произведений. Образы жили в воображении, стучались в сердце.
У Решетникова в «Подлиповцах» чердынские темные мужики по воле злой судьбы попадают бурлаками на Чусовую. Все тут Пиле и Сысойке чуждо и в диковинку. У него же героем будет потомственный рабочий, знающий заводское и рудобойное дело, на все готовый, но больше всего привязанный к реке. Возле нее кормился его отец, пока не утонул на весеннем сплаве железа. От голода умерли пятеро братьев, и остался один с матерью. Его мужик будет человеком бывалым, мастеровым, на все гораздым. Однако не добра к нему судьба. Героя будут звать Исачкой, по прозвищу Легкая Рука. С таким прозвищем Дмитрий знал одного бедолагу в Висиме. В насмешку окрестили. Какая там легкая рука. Бьется, бедный, бьется, чтобы вырваться из нищеты, но даже старуху мать прокормить не может. Чусовая у Дмитрия будет Быстрой. Точнее слова для определения характера этой своенравной реки не найдешь.
Назовет он свое сочинение – «Легкая рука».
Работа увлекла Дмитрия. Исачка как живой стоял перед глазами, словно только вчера видел его на берегу Чусовой, у Пристани, разговаривал с ним, потом вместе плыл на барке: энергичный, ловкий, многое знающий, многое умеющий. Ростом невелик, глаза юркие, но умные, худой от вечной голодухи, нечесаный, с длинными волосами, руки с большими кистями. Доведенный до крайности, не знающий, как ему все нужды избыть – и мать, умирающую на холодной печи, от голода спасти, и просроченные чертовы подати заплатить, – решился Исачка на крайнее: унес с барки, как ни стерегли, чушки хозяйской меди, чтобы продать.
Совсем скрутило мужика.
Перо торопливо бежит по бумаге, плотно ложатся слова, буковка к буковке, тесно прижатые друг к другу:
«И вот завсегда так, – раздумывал Исачка, – уж кажется, чево бы, возьми да в рот положи, ан не тут-то было, ты-то руку протянул, а тебе сейчас же и покажут кузькину мать, что она такое, значит, есть… Э-эх! Уж сколько раз хаживал я на сплав, и на заводы, и на рудники, вот-вот навертывается в руки счастье, вот оно мое будет, – и опять кузькина мать, опять Исачка с голыми руками, опять Исачке мыкаться по белому свету с пустыми руками… Эх ты, горе-горькое житьишко, голь перекатная, легкая рука!
И представляется Исачке, как старуха-мать ждет его с обещанным сарафаном, как староста придет за оброком… Тошно Исачке смотреть на белый свет, не хочется ему идти на Быструю, а деваться больше некуда. Впрочем… есть у Исачки за пазухой последний-распоследний рубль, пойдет он отсюда прямо в царев кабак, пропьет Исачка этот рубль до копеечки и поставит ребром каждый грош».
Такой была самая ранняя попытка Дмитрия Мамина создать характер уральского рабочего. Черты его потом будут повторены во многих рассказах зрелого писателя.
Дмитрий писал «Легкую руку» и вспоминал студенческие вечеринки, разговоры о тяжелом положении петербургских рабочих. Страшна, беспросветна жизнь заводского и фабричного люда, но разве можно сравнить ее с жизнью уральских мастеровых? Например, заработки. На Урале они в несколько раз ниже. Ни земли после отмены крепостного права, ни свободного выбора работы. Одни заводы закрылись из-за невыгодности, другие сократили производство. Кругом полно незанятых рук. Куда деваться с земли, где жили деды и прадеды? Куда уходить с места, где хоть собственный дом стоит? Кругом на сотни верст никакого дела. Вот и шатаются голодные мужики в поисках случайного заработка.
Вся современная литература посвящена крестьянину. Хорошая литература! О мужике пишут сейчас Николай Успенский, Слепцов, Златовратский, Салов и другие. О тяжкой крестьянской доле говорит Некрасов. Художник Илья Репин выставил картину «Бурлаки». Но еще никто, кроме умершего недавно Федора Решетникова, не написал об уральцах. Мелькнули, правда, в «Отечественных записках» рассказы Кирпищиковой… Дмитрий должен сказать свое слово об уральском рабочем.
Дмитрию писалось легко. Все глубже развертывалась драма жизни Исачки. Иногда и рассвет Дмитрий встречал за столом. А потом отправлялся побродить по Шуваловскому парку.
Как же не хотелось расставаться с Парголовом в разгар работы над «Легкой рукой»! Но пошли дожди, реже стало появляться солнце… Кончилось лето, пришла ранняя осень.
Пора возвращаться в столицу – к занятиям в академии и к заботам о куске хлеба.
А за городскими делами, нахлынувшими на Дмитрия, захватившими в свой водоворот, «Легкая рука» так и осталась незавершенной.
Многие радикалы не одобряли хождения «в народ» с освободительными лозунгами, бунтарскими речами. Благоразумные люди с уважением относились к чуткой совестливости молодого поколения, но сокрушались из-за наивности идеализма народников, считали бессмысленным самопожертвование, а борьбу с царизмом бесплодной.
Однако репрессии, даже самые жестокие, на которые так щедра была самодержавная Россия, не утишали, а усиливали политическую борьбу с деспотизмом. В нее включались все новые и новые слои общества. Не уменьшалось, а увеличивалось «хождение в народ», все шире развертывалась и работа среди фабричных.
Спустя двадцатилетие В. И. Ленин с глубочайшим уважением говорил о народниках шестидесятых и семидесятых годов, поднимавшихся на героическую борьбу с правительством:
«Вера в коммунистические инстинкты мужика, естественно, требовала от социалистов, чтобы они отодвинули политику и «шли в народ», – писал В. И. Ленин. – За осуществление этой программы взялась масса энергичнейших и талантливых работников, которым на практике пришлось убедиться в наивности представления о коммунистических инстинктах мужика». «И вы не сможете упрекнуть социал-демократов, – писал он, – в том, чтобы они не умели ценить громадной исторической заслуги этих лучших людей своего времени, не умели глубоко уважать их памяти».
Студенчество становилось все более революционным, организованным и решительным.
Осенью 1874 года Дмитрий Мамин стал участником серьезных беспорядков в Медико-хирургической академии, весть о которых дошла даже до провинциальных городов.
С самого начала эти события приняли бурный характер.
Не угодный администрации из-за своих политических взглядов профессор Иван Михайлович Сеченов был отстранен военным министерством от кафедры физиологии в Медико-хирургической академии. Его место занял профессор Цион, известный в научной и студенческой среде крайними реакционными убеждениями. Вступив на кафедру, он повел борьбу по «изничтожению нигилистов и нигилизма», нападал на Сеченова, как нравственного развратителя молодежи революционными идеями, отрицал публично значение учения Дарвина. Студенты устраивали ему шумные обструкции, нарушали порядок на лекциях. Дошло до того, что Цион попросил выставлять у дверей аудитории полицию.
На общем сборе студенты выразились еще энергичнее, отказавшись слушать лекции профессора Циона. По всем факультетам прошли бурные собрания с поддержкой этого решения.
В защиту профессора Сеченова выступили студенты и других высших учебных заведений столицы. Движение стало всеобщим, охватило всю петербургскую интеллигенцию. Для властей вопросом престижа стало поскорее приостановить его.
Профессор Цион покинул кафедру физиологии якобы в связи с длительным отпуском для поездки за границу. Однако профессора Сеченова в прежней должности не восстановили.
Как только был внешне наведен порядок, начались репрессии. Двадцать студентов академии, наиболее активных, схватили и препроводили без всяких обвинений в пересыльную тюрьму, а затем по этапу отправили в родные места.
Последовали и новые аресты среди студенчества, уже не только в Петербурге, но и в Москве, Харькове, Киеве, Одессе. Поползли слухи, что существует разветвленная сеть тайных антиправительственных союзов.
Так начался этот учебный год в Медико-хирургической академии.
3
В самую крутую безденежную пору, когда перепуганные благонамеренные жители столицы старались не иметь дел с репетиторами из студентов-бунтарей, Дмитрия Мамина свели с влиятельным газетным людом. Так он вошел в неизвестный ему дотоле мир петербургской журналистики.
В Петербурге хватало всяких злачных мест, куда стекалась городская нищета, вроде печально знаменитой ночлежки «Вяземская лавра» близ Сенной. Существовали многочисленные трактиры и кабачки на любой вкус, всякие подозрительные притоны. Портерная возле Фонтанки у Симеоновского моста, где состоялось первое знакомство Дмитрия с газетчиками, выглядела получше других, чуточку почище, чуточку поприличнее были и ее посетители. Узкая комната, с окнами почти вровень с тротуаром, с низким сводчатым потолком, какими-то темными закоулками, была заставлена столами, накрытыми несвежими, с рыжими разводами, скатертями; в тесноте бойко сновали половые. Газетчики, облюбовавшие это место, считались почетными гостями, «литераторами», украшавшими своим присутствием заведение.
Два предприимчивых журналиста – Юлий Осипович Шрейер и Николай Иванович Волокитин – организовали «Общество репортеров», став посредниками между полуголодным пишущим народом и многочисленными газетами и журналами столицы. Они поставляли в редакции хронику и репортажи на самые широкие темы и наживались на бедственном положении журналистской братии.
Посвящение студента в журналистику состоялось не без торжественности. Оба – Шрейер и Волокитин – чуть ли не вдвое старше Дмитрия Мамина, прошедшие суровую школу газетного дела и мелкой литературной маеты, держались по отношению к новичку покровительственно, но с ласковостью меценатов. Их окружала почтительная свита, державшаяся с чувством достоинства, хотя и понимавшая свое место. За столом, заставленным выпивкой и закусками, языки развязались быстро. Дмитрия ввели в курс дела, объяснив, что ему дадут заработать, но спустить деньги он обязан здесь, в их доброй компании.
Дмитрий плохо помнил, как он поздно ночью добрался до квартиры, на каких условиях договорились с ним о работе. Помнил лишь, что газета, которую он должен был обслуживать репортерскими отчетами с заседаний различных научных обществ, называлась «Русский мир». К следующему утру надо было уже приготовить первый отчет.
«Командовал» газетой «Русский мир» лихой генерал М. Г. Черняев, по убеждениям закоренелый крепостник, кровавый покоритель Ташкента.
Газета «Русский мир» требовалась генералу, чтобы удовлетворить широкие честолюбивые замыслы. Он вел, завоевывая популярность, резкую полемику с военным министерством по поводу реформ в армии, а заодно не гнушался травлей демократических изданий, замахивался на крупных писателей.
В этой газете и начали появляться репортажи Дмитрия Мамина.
Журналистский хлеб по наивности показался ему на первых порах легким. Студент приносил в портерную отчеты о заседаниях научных обществ, газета их печатала; Шрейер и Волокитин расплачивались, как говорится – не отходя от стойки, из расчета пять копеек строка. На этом все отношения автора с редакцией заканчивались. Привлекало удобство расчета: сегодня тебя напечатают, сегодня же можно получить заработанные деньги. Правда, львиную долю гонорара забирали Шрейер и Волокитин.
Дмитрий радовался, что наконец имеет работу и все теперь зависит от него – чем больше сил вложит, тем больше заработает. Но… «Общество репортеров» существовало по неписаному, однако железному закону: получил деньги – поделись с теми, кому сегодня не повезло. Завтра помогут тебе.
При таких условиях, естественно, находились любители поживиться на труде и порядочности других. Самая обыкновенная газетная богема. Приходилось «поддерживать» не одного, а нескольких, всех, кто подсядет к столу. Кроме обеда, неизбежно на столе появлялось пиво, а рядом с ним и водка.
Поднималась полная чаша, и провозглашался первый тост:
– Между первой и второй не дышат…
Газета давала заработок двенадцать – пятнадцать рублей в месяц, иногда и до тридцати, если было много научных заседаний. Широко не разживешься, однако и с голоду не помрешь. Хорошо и то, что можно не просить Висим о денежной поддержке и обходиться своими хлебами. Дмитрий ясно представлял, какие крупные бреши в финансовом положении родительского дома пробивал он просьбами о денежной помощи. Но заработанные деньги быстро расходились, а куда? Понять было невозможно.
Впоследствии Дмитрий Наркисович, не без иронии, писал об этом периоде петербургской жизни:
«Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника… Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому в семь вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день…»
Служба газетного солдата оказалась нелегкой. Она основательно мешала занятиям в академии. О домашней литературной работе и думать не приходилось. Осуществление дорогих писательских замыслов пришлось отложить на будущее. О трудностях жизни, о своих репортерских мытарствах Дмитрий написал отцу.
Наркис Матвеевич старался утешить Дмитрия:
«Верь, что и ныне в глазах наших, – писал он ему в ноябре 1874 года, – ты тот же добросовестный, честный труженик, каким был прежде, только жестоко обескураженный судьбой. Еще раз прошу тебя – не унывай, трудись и трудись, чем больше труда, тем больше чести и выше заслуга».
И Дмитрий трудился… Но случилось непредвиденное.
В начале марта 1875 года газета «Русский мир» была закрыта на три месяца. Мотив запрещения: систематическая дискредитация действий военного министра.
Дмитрий отчаялся – потерян хоть небольшой, но верный заработок, однако те же Шрейер и Волокитин помогли ему перейти на репортерскую работу в газету «Новости». Это издание, начинавшееся как листок известий и объявлений, по своим общественным позициям недалеко ушло от «Русского мира», правда, внешне газета выглядела более респектабельно, имела больше подписчиков, ее знали за пределами Петербурга, она доходила и до глухого Висима.
Наркис Матвеевич, так энергично противившийся литературным увлечениям Дмитрия, в перемене его журналистской судьбы увидел некоторое возвышение сына.
«В последнем письме нам приятно было узнать, что ты работаешь для газеты «Новости», – писал он ему. – Кроме платы за работу для газеты, нам очень приятно знать, что счастье доставило тебе занятие приятное и полезное для ума, даже можно надеяться, что это твое занятие раздвинет твой разумный взгляд на умственную и практическую деятельность многих образованных личностей, между которыми, вероятно, встретятся тебе люди даровитые, передовые, о которых приятно будет вспоминать и которые невольно могут иметь полезное влияние на твои умственные и деятельные стороны жизни».
Наивные, трогательные заблуждения.
Наркис Матвеевич считал репортерскую работу Дмитрия занятием приятным и полезным, представляя, что сына окружают даровитые и выдающиеся передовые личности. А для Дмитрия хлеб от этой новой газетной солдатчины был, может быть, даже погорше прежнего. В «Русском мире» Дмитрий среди рядовых газетных поденщиков как-никак стал своим человеком; в «Новостях» он ходил в чужаках, отбивающих работу у «стариков». Заработки его сократились до минимума. Дошло до того, что он, гордившийся достигнутой независимостью, должен был, хотя и тяжко это, снова просить денежной помощи из Висима.
«Газетное братство, – писал он позже, – распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведывающие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности, получалось две неравных «половины»: с одной стороны – газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой – безымянная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии».
Журналистская богема с каждым днем все более тяготила Дмитрия. Какой разительный контраст – циничная, духовная распущенность газетчиков и мир тесных студенческих комнатушек, в которых дышишь воздухом честных помыслов, благородных порывов. Два разных мира… Тут живут, волнуясь только о том, как сегодня пропитать свое тело при помощи чернил, там – чем должно жить сердце, душа. Здесь – низкая, ничем не гнушающаяся материальность, там – высокие взлеты идейных исканий.
В это безденежное время Дмитрий, уставший от газетной поденщины, решил поискать другие возможности для заработков. О репетиторстве, тем более о переписке бумаг, и думать не хотелось. Репортерство, размышлял он, учитывая, сколько народу им кормится, занятие ненадежное. Кроме того, это ярмо тяжелое, душевно опустошающее. Но ведь есть же иные способы добычи хлеба насущного? Разве он не способен на что-то большее, чем отчеты о заседаниях научных обществ?
Газета не развратила Дмитрия в главном – не потушила любви к труду. Что бы ни было – работа на первом месте. Что бы ни было – надо идти на очередное научное собрание, потом садиться за стол и готовить необходимое количество строк в завтрашний номер газеты.
Журналисты, знакомые с Дмитрием, уважали его, несмотря на молодость, за обаяние, живость ума. Умен, однако! Завидовали его выносливости: посидит с ними в заведении, они еле плетутся домой, а он за ночь накатает корреспонденцию – можно сразу наборщику давать. Предчувствовали, что у Дмитрия будущее, коли с круга не собьется, не сломится в борьбе. Но не должно быть. Внутренне крепок Мамин. Пусть репортерство будет для него ступенькой. Если сможет – шагнет выше.
Дмитрий собирается попробовать свои силы в рассказах. Николай Иванович Волокитин с сочувствием выслушал молодого человека, замысел рассказа одобрил, назвал несколько расхожих журналов, где можно попытать счастья. Пообещал даже слово за него замолвить.
Итак, за дело. Рассказ! О чем же? Конечно, об Урале, на близком материале. Небольшой кусочек уральской жизни.
Дмитрию припомнилась одна из легенд, ходившая среди жителей Висима. Колорит подчеркнуто уральский – таежная глухомань, раскольничий скит. Драматичностью сюжет должен захватить читателя. Федька, лихой парень, едва не прикончивший приказчика, чтобы не попасть в солдаты, давно находится в бегах. Скрытно увозит он покоренную его красотой Груню, дочь богатея-кержака, в потаенный от людского глаза дальний скит.
В скиту, по легенде, жили три одичавших от одиночества старца: дряхлый, глухой и слепой Мелахий, еще бодрый в шестьдесят лет Варнава и приставший к ним сорокалетний Акила, скрывающийся десять лет от наказания за убийство соперника в любовных делах. Появление молодой девушки переворачивает скитскую жизнь: вместе с Груней к старикам врывается любовный соблазн.
Понадобилось Федьке отлучиться из скита. По пути он навестил отца Груни. Тот, не простивший парню похищения любимой дочери, убивает его. Груня, беззащитная, остается одна. Самый молодой среди скитников и потому более других мучающийся – Акила – решается войти в келью, дабы «искус сделать над собой». Груня становится его наложницей… Отлучился ненадолго в лес Акила. Шестидесятилетний Варнава, которого «бес» замучил окончательно, воспользовался этим, ворвался в келью и накинулся на девушку. В ужасе от содеянного Варнава убивает Груню. Вернувшийся Акила, увидев истерзанный труп девушки, кидается на старцев, сначала удушает Варнаву, а потом и дряхлого Мелахия.
Рассказ был написан быстро – в несколько вечеров.
Молодой автор сознавал незрелость своего сочинения. Но чувствовал: кое-что, пусть немногое, удалось. Виден симпатичный автору главный герой – Федька. Его и писать было увлекательно. Характеристику его дает отец Груни:
«Этот самый Федька из нашего поселка, сдал его помещик в солдаты. А он – тягу! Поймали его, да в кандалы, да в острог, а он опять бежать. Таким манером его, может, раз пять садили в острог, а он все убегал, да еще раз самого приказчика чуть не убил… Лихой парень! Ведь что делает!.. Приедет ночью, кричит: отворяй ворота! А то: не хочу в ворота, разбирай забор. Что ты с ним будешь делать, и разберешь, пустишь варнака, только не кричи ради истинного Христа, а то, пожалуй, приказчик узнает – беда».
Замысел и воплощение – вечная проблема творчества. Дмитрий понимал: не так просто выразить словами та, что легко складывается в воображении. Рассказ, в замысле, казался ему значительнее того, что вышло из-под пера.
Может, все же сойдет?
Свой рассказ, по совету Волокитина, автор отнес в еженедельник «Сын отечества». Издатель журнала «Сын отечества» И. И. Успенский по одним свидетельствам в недавнем прошлом владел мучным лабазом, по другим – служил певчим и на чем-то так разбогател, что приобрел по дешевке расхожий журнальчик. За славой издатель не гнался. Лишь бы росла подписка, а следовательно, и доходы. Старался угодить на все вкусы. Из известных писателей с рассказами и очерками о жизни городской бедноты здесь появлялся И. Кущевский. В основном страницы его заполняли французские романы. Мелькали зазывные названия: «Барон бросил баронессу», «Необычная женщина», «Роковая тайна»… Дрянь, как говорится, первосортная.
О своем рассказе Дмитрий самоуничижающе думал: «По купцу и товар…» Возьмут ли еще? Название о себе не кричит, да и место действия непривычное. Всяких сочинений голодных писак у них, в редакции, наверняка пруд пруди.
Он оставил в конторе журнала рассказ и больше сюда не заглядывал, хотя его попросили осведомиться о результатах через две недели. Не заходил от застенчивости, от досадной неуверенности в себе. Терпеливо ждал.
Рассказ «Старцы», подписанный латинской литерой «N», Дмитрий увидел в апрельском – 16 – номере еженедельника «Сын отечества».
Своим первым скромным успехом он поспешил поделиться прежде всего с милой Аграфеной Николаевной.
– Я же верила в ваш талант. – Она поцеловала автора в голову. – Так за вас рада, так рада…
Появление рассказа было отпраздновано и в компании газетчиков, в той самой портерной, где они так часто собирались.
За «Старцев» выплатили сразу тридцать рублей и даже попросили приносить новые произведения. Тридцать рублей!.. Давно Дмитрий не держал такой суммы. Как вовремя пришли эти деньги. Они давали передышку от жестокой нужды, возможность какое-то время существовать. И, главное, укрепляли надежды. Что ж, значит, в самом деле есть у него какие-то литературные способности, которые надо развивать.
Вскоре Дмитрий опубликовал и еще несколько небольших рассказов.
В письме к отцу он скромно писал:
«Благодарю за посланные мне деньги, они подоспели как нельзя более кстати, потому что теперь перебираемся в летнюю резиденцию, значит, деньги дороги. Я уже писал вам, папа, что перед пасхой в виде сюрприза получил 30 р. за небольшой рассказ. После пасхи по сей день у меня напечатано еще три небольших рассказика, и такое удовольствие мне стоит 50 р.
Вы спросите, куда деньги я девал? Кажется, денег много, как говорится – не было ни гроша, да вдруг алтын, но, с другой стороны, столько дыр, которые трудно заткнуть сразу сотней рублей. Кроме того, я уплатил вперед за дачу, приобрел кое-что из летней одежды, необходимых книг, белья и пр., пр. Вообще стоит только позволить себе мало-мальски что-нибудь – деньги так и потекут. Делаешь, по-видимому, все копеечные расходы, из кармана убывают рубли.
Экзамены мои пока идут сносно, сдал еще половину, остается вторая, менее трудная, значит, дело идет на лад…»
Дмитрий слышал, как вернулись соседи, ходившие на Конную площадь смотреть гражданскую казнь руководителей антиправительственной тайной организации. За стеной шумно обсуждали подробности, называли имена Александра Долгушина, Льва Дмоховского, приговоренных к десяти годам каторги, и Дмитрия Гамова – к восьми… Ни капли сочувствия к ним, к их тяжкой судьбе.
– Студенты всех мутят, – убежденно произнес кто-то.
– Против царя и бога пошли! – поддержал густой бас – Помните, как этот… как его… Гамов отвернулся от священника. Не хотел целовать крест, бесстыжая морда. И это при народе! На виду у всех.
Дмитрий сидел за столом, отодвинув листы рукописи. Он думал о том, что могут сейчас испытывать, после свершения публичной гражданской казни, молодые люди, ровесники его, обреченные на многолетнюю каторгу, отторгнутые от свободы, от всего, чем прекрасна жизнь? Какой тяжелый путь избрали они! А каково их родителям?
В дверь заглянула хозяйка.
– Дмитрий Наркисович, не хотите завтра пойти на Конную? Других казнить будут. Может, вместе, в компании веселее…
– Нет, нет, – с непривычной для него резкостью отказался Дмитрий.
Рано утром за стеной начались сборы. Торопились, как на представление. Скоро соседи ушли, дом опустел.
Неожиданно Дмитрий поднялся и вышел на улицу. Почему он изменил решение? Что толкнуло его? Ему подумалось: пусть осужденные увидят и глаза тех, кто внутренне глубоко уважает их подвиг.
Майское утро, как нарочно, выдалось ясное, свежее, почки на деревьях лопнули, вдоль линий улиц пробрызнула весенняя нежная зелень.
Громкий конский топот раздался за спиной. Дмитрий оглянулся. Усиленный конвой на легкой рыси сопровождал тюремную карету с зарешеченными окнами. Люди, бежавшие следом по тротуарам и мостовой, едва не сшибли с ног.
Плотная толпа уже заполнила площадь, посредине которой был возведен грубый помост из неструганых досок. Дмитрий огляделся. Самый простой народ: торговцы, приказчики, уличные разносчики, мужики с дровяных барок, трактирный люд, бойкие кухарки и горничные, квартирохозяйки. Глазеют, посмеиваются, а на лицах нетерпение – скоро ли начнут?
«И вот этой тупой, довольствующейся пищей земной, толпе, не имеющей потребностей в пище духовной, они, эти прекрасные, светлые и высокие души, хотели нести свое Слово, чтобы пробудить их от духовной спячки. Да возможно ли это? Как жадно тянутся эти зеваки к зрелищу и как мало света в их глазах, сочувствия к ближнему, страдающему ради них. Ради них! – Дмитрий поежился от охватившего его озноба отчаяния. – Возможно ли, что прекрасное, истинно человеческое может пропасть втуне? Нет, нет. Капля камень долбит… Очнется и эта толпа. Но ценой каких страданий! Боже мой, сколько же света должно погаснуть, чтобы чуть-чуть затлело в этих глазах?!»

![Книга Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы] автора Михаил Колесов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)





