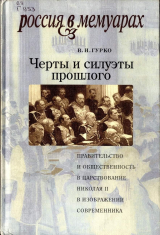
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 67 страниц)
К человечеству он питал такое же презрение, как и Витте, но у Витте это презрение сказывалось в его отношении к отдельной конкретной личности, с которой ему приходилось иметь дело и на худших струнах которой он неизменно желал играть. К человечеству как целому, в особенности к русскому народу, он не относился безразлично и прилагал все усилия к улучшению его положения, в особенности же к возвеличению России. Словом, Витте был патриотом, убежденным и горячим. У Горемыкина презрение к человечеству принимало иную форму и выражалось главным образом в индифферентизме. В соответствии с этим власть для Витте имела значение не сама по себе и даже не как способ удовлетворить свое честолюбие и тем не менее обеспечить свое материальное положение[127]; она ему была нужна для применения к делу его кипучей энергии, его огромных, несомненно, творческих сил. Власть для Горемыкина в этом отношении была не важна, и имела она значение преимущественно ради того значения и того материального довольства, того комфорта, которые она ему доставляла. Такая сравнительно мелочь, как пользование казенной квартирой, для Горемыкина имела огромное значение. Для сохранения власти Витте мало перед чем останавливался, но отказаться ради нее от живой деятельности, от проявления своей воли и осуществления своих мыслей он даже если бы в уме и решил, то на практике осуществить бы не мог. Стремился к сохранению власти, а при утрате ее – к возвращению к ней всемерно и Горемыкин; однако к средствам, практикуемым Витте, не прибегал. Присущее Горемыкину джентльменство не позволяло ему действовать через тех темных личностей, содействием которых не пренебрегал и не брезгал Витте. Чужда была Горемыкину широко практиковавшаяся Витте система создания сторонников путем подкупа. Но зато, достигнувши власти, все склоняло Горемыкина к бездеятельности или, по крайней мере, к медлительности и осторожности. В каждом новом возбуждаемом вопросе он видел прежде всего те неприятности, которые при его разрешении могут для него возникнуть, то беспокойство, которое он может ему причинить. Подходил он к каждому вопросу ввиду этого с величайшей осторожностью, и если не мог или не считал почему-либо для себя выгодным его просто обойти или спихнуть, то принимался за его разрешение с нарочитой медлительностью, стремясь взять его измором, так сказать, тихой сапой, предварительно обеспечив сочувствие к предположенному его разрешению среди нужных для него лиц, а в особенности самых верхов.
Тихонько, сидя у себя в кабинете в покойном кресле, обдумывал Горемыкин свои ходы и затем нередко составлял имевшие у него особое назначение записки. К составлению таких записок он привлекал лиц, хорошо знающих предмет, причем предварительно набрасывал сам те выводы, к которым надлежало прийти, и те главные мотивы, которые надо было развить. При этом он неизменно требовал возвращения ему вместе с составленной запиской и его собственноручных набросков ее. Самую записку он затем тщательно рассматривал и всегда делал в ней некоторые изменения, так что автор никогда не знал, что, собственно, из его записки достигало назначения. Такими, в сущности, маленькими средствами он строил свою карьеру, и, устроив ими свою судьбу, он, по-видимому, думал, что ими же может обеспечить судьбу государства.
С общественным мнением Горемыкин, по крайней мере в бытность министром внутренних дел, по существу не считался, но идти против него, а тем более чем-либо его раздражать всячески избегал, и это все по той же причине – нежеланию нарушить не только свой, но и общественный покой. С земскими учреждениями, с которыми он сам был до известной степени связан, так как состоял в течение нескольких трехлетий уездным гласным Боровичского уезда, он стремился сохранить не только мирные, но даже дружественные отношения. Одной из мер его в этом направлении было увольнение от должности тверского губернатора П.Д.Ахлестышева, даже невзирая на то, что у Ахлестышева были большие связи и что, следовательно, его увольнение могло даже создать Горемыкину могущественных врагов в правом лагере. Ахлестышев при – надлежал к той породе администраторов, про которых Тургенев говорил, что они страдают административным восторгом[128]; носился он с своим званием, как с сырым яйцом, все боясь его как-нибудь уронить, а с тверским земством стал в столь неприязненные отношения, что создал ему исключительное положение в общественном мнении. Достаточно ска – зать, что на смету тверского уездного земства, не помню на какой год, Ахлестышев предъявил 165 протестов. Тверское губернское земство, в сущности не отличавшееся от многих других, благодаря стараниям Ахлестышева приобрело особый ореол, а тверская губернская управа при нем почти постоянно состояла из лиц по назначению от правительства. Горемыкин вполне понял всю невыгодность такого положения для министра внутренних дел и, войдя в переговоры с представителями большинства тверского губернского земского собрания, добился от них выбора такого личного состава управы, который давал ему возможность его утвердить, не капитулируя явно перед оппозиционными правительству земскими людьми.
Такими частными мерами Горемыкин, однако, не ограничился, он, кроме того, остановил введение в действие получившего силу закона нового лечебного устава[129], по которому от земства фактически отнималось заведование содержимыми на земские средства больницами и приемными покоями.
Приостановил он и другие разрабатывавшиеся в Министерстве внутренних дел предположения о сокращении компетенции земства и даже взял обратно представленный его предшественником в Государственный совет проект изъятия из ведения земства всего продовольственного дела[130].
Однако наиболее решительно проявил Горемыкин свое отношение к земским учреждениям по поводу представленного им в 1898 г. в Государственный совет проекта введения земств в западных губерниях, а также в губерниях восточных – Астраханской, Оренбургской и Ставропольской[131]. В ответ на приведенный мною выше отзыв на этот проект Витте, в котором последний говорил, что «земство непригодное орудие управления», Горемыкин не без пафоса писал: «Основой действительной силы государства, какова бы ни была его форма, есть развитая и окрепшая к самостоятельности личность; выработать в народе способность к самоустройству и самоопределению может только привычка к самоуправлению, развитие же бюрократии и правительственной опеки создает лишь обезличенные и бессвязные толпы населения, людскую пыль».
На почве этого проекта и выраженных по его поводу суждений, по-видимому, и удалось Витте поколебать доверие к нему государя.
Желание Горемыкина использовать общественные силы для обеспечения при их помощи местных потребностей и сознание необходимости развития местной самодеятельности и воспитания культурных слоев населения в целях их постепенного приобщения к работе государственной были использованы Витте для внушения государю, что Горемыкин стремится к ограничению прав монарха, к введению в России конституции. По существу это было совершенно неверно. Существовавший в России государственный строй Горемыкин почитал совершенно незыблемым и, по-видимому, не предвидел не только его возможного крушения, но даже постепенной эволюции. Насколько в нем крепко было это убеждение, можно судить по тому, как он отнесся к мнению, высказанному ему королем греческим Георгом, которого он посетил при плавании в 1908 г. по Средиземному морю на яхте небезызвестного миллионера, грека по происхождению, англичанина по подданству, Захарова (Горемыкин, как я уже упомянул, умел заводить приятные знакомства и ими при случае пользоваться). Король Георг сказал ему, что главное, как для России, так в особенности для благополучия царского дома, чтобы государь строго соблюдал конституцию, и при этом сослался на собственный пример. «Оставаясь на почве конституции, – сказал Георг, – я всегда совершенно спокоен за свою судьбу». Горемыкин приводил эти слова как пример полного незнакомства иностранцев с условиями России. «Что же он воображает, что русский император и король торговцев губками и коринкой – одно и то же. Власть русского царя тем сильнее, чем больше он ее проявляет» – вот как заканчивал свой рассказ Горемыкин.
Если Горемыкин не отличался энергией, то силой воли и упорством он, несомненно, обладал. Хорошо знакомый с техникой административного управления, он умел заставлять своих многочисленных подчиненных вполне точно исполнять сделанные им распоряжения и вообще согласовывать свой образ действий с данными им указаниями. Сам он всегда знал, чего хотел, и к раз намеченной цели шел осторожными, тихими, но верными шагами. Приступая к всякому действию неохотно и лишь после всестороннего его обдумания, он, остановившись на каком-либо решении, уже не испытывал колебаний и проводил его без всякой горячности, но решительно и настойчиво. При этом он не терял хладнокровия и самообладания ни при каких обстоятельствах. В этом отношении он тоже не был сходен с Витте, который при всей своей решимости и кипучей энергии не отличался непоколебимостью характера и исключительной силой воли. Чрезвычайные события нарушали внутреннее равновесие Витте, и он способен был при этом растеряться. С особой яркостью обнаружилось это различие между Горемыкиным и Витте в 1905 и 1906 гг.
При совокупности всех очерченных свойств и особенностей Горемыкина понятно, что четырехлетнее его управление Министерством внутренних дел ничем не отразилось на ходе дел в государстве и не оставило следов не только в стране, но и в самом министерстве. Между тем одним из мотивов назначения Горемыкина министром было желание двинуть давно назревший вопрос о реформе так называемого крестьянского законодательства, знатоком которого он не без основания признавался. С этой целью назначен он был в начале 1894 г. товарищем министра внутренних дел и, если мне память не изменяет, по его указаниям был составлен перечень вопросов, касающихся крестьянского управления, которые должны были обсудить учрежденные еще в 1894 г. губернские совещания. Совещания эти, действовавшие под председательством губер – наторов, имели в своем составе местных общественных деятелей (включенных в них по избранию администрации) и должны были закончить свои работы к весне 1896 г. Однако труды этих совещаний Горемыкин по назначении министром внутренних дел не использовал и вообще за все четыре года управления министерством лишь однажды собрал своих сотрудников для обсуждения крестьянского вопроса, причем не дал им никаких ни указаний, ни поручений и, побеседовав с ними часа два, ограничил этим всю свою деятельность в этой области.
Такое отношение к крестьянскому законодательству у Горемыкина было сознательное: он вполне постигал все те огромные трудности, которые были сопряжены с осуществлением какой-либо реформы в крестьянском деле, и все те препятствия и нападки, которые он неизбежно встретил бы при проектированном им в любом направлении пересмотре положений 19 февраля 1861 г. Препятствия и нападки эти неизбежно последовали бы, с одной стороны, либо от сторонников общины, либо из лагеря защитников личного землевладения, а с другой – либо из среды почитателей особого крестьянского управления и суда, либо от приверженцев всесословного административного и общего судебного строя. Но идти на эти препятствия и неизбежные нападки значило по меньшей мере утратить спокойствие и рисковать своим положением. Ни то ни другое Горемыкина отнюдь не прельщало. К тому же сам он сохранял некоторую приверженность к народническому направлению 60-х годов, причем хвалился своим участием в проведении крестьянской реформы 1864 г. в Царстве Польском, где он занимал должность вице-губернатора. Его перу принадлежали очерки истории крестьян Польши[132], в которых он passim[133] высказывался за политику государственной опеки над крестьянами. Им же в качестве одного из чиновников сенаторской ревизии Саратовской и Самарской губерний было произведено в 1880 г. исследование экономического быта и юридического положения местного крестьянства. Составленная им по этому поводу записка обладала, по заклю – чавшимся в ней данным, серьезными достоинствами, но, собственно, сколько-нибудь определенных мер для улучшения положения крестьянства не заключала. Однако народническая жилка и в этой записке сквозила довольно ясно, а отзвуки ее, хотя уже слабые, сохранились в словах Горемыкина еще в 1905 г. Как ни на есть, в бытность министром внутренних дел Горемыкин, по-видимому, и по существу не усматривал особенной надобности в пересмотре положений 19 февраля 1861 г. Он, конечно, понимал, что положения эти устарели, но думал, что постепенно силою вещей и под напором жизни они сами отчасти отомрут, отчасти изменятся кассационными решениями Сената, как раз по тому департаменту, обер-прокурором которого он еще столь недавно состоял.
В таком отношении к крестьянскому вопросу, в сущности, отражался, как в фокусе, весь Горемыкин, все его миросозерцание, весь его умственный склад. Тишина и спокойствие – вот к чему надо прежде всего стремиться во всех областях. Усыплять общественное мнение, употребляя для этого в количестве неограниченном лавровишневые капли[134]; не возбуждать каких-либо волнующих общественность вопросов; не принимать вызывающих критику мер; стремиться со всеми быть в ладу – вот к чему должна сводиться вся система внутренней политики, не исключавшая, однако, принятия в исключительных случаях мер решительных и бесповоротных.
Как ни однобока подобная политика, она, однако, была несравненно лучше той, которая у нас постоянно проводилась, а именно: много треску, бесконечные угрозы, беспрестанное раздражение общественности и окраин с их населением и полное отсутствие последовательности и настойчивости.
Избегая всяких крутых, а тем более острых вопросов, ясно, что Горемыкин ни с какими важными или хотя бы сложными законопроектами не выступал, а поэтому в Государственном совете почти не являлся. Вместе с тем он избегал принимать участие и в разыгрывавшихся в стенах Мариинского дворца междуведомственных пререканиях, благоразумно предпочитая быть лишь их сторонним свидетелем. Вообще, в вопросы, не касавшиеся его ведомства, он не вторгался, так как это могло также нарушить его столь им ценимый покой. При таких условиях политическую фигуру Горемыкина в Государственном совете определить было трудно или, вернее, невозможно. За сессии 1897–1898 и 1899 гг. припоминаю лишь его участие в рассмотрении департаментами новых штатов петербургской полиции или, вернее, образования полицейской конной стражи. Способ его защиты обсуждаемых предположений был совершенно своеобразный; самого проекта он совершенно не касался, да едва ли даже он его читал, а ограничился рассказом о том, что происходило на улицах Петербурга при незадолго перед тем состоявшемся приезде президента Французской республики[135] и как-то очень ловко и умно сумел придать сделанным им тогда распоряжениям либеральный характер, в смысле предоставления возможности населению принять свободное и широкое участие в чествовании высшего представителя демократической республики. Затем он незаметно перешел к общей внутренней политике, касаясь ее, однако, так сказать, с анекдотической стороны. При этом всем своим обращением и своей речью он как бы вводил членов Совета в закулисную сторону политики, словно вел с ними конфиденциальную беседу. Мерно поглаживая и расправляя свои пышные бакенбарды – любимый и постоянный жест, – он с добродушным видом и слегка прищуренными, лукаво смеющимися глазами как бы ставил себя на одну доску с рядовыми членами Государственного совета, превращал их в своих конфидентов и сотрудников. Члены департаментов, имевшие почти постоянно дело лишь с товарищами министров, обычно заменявшими начальников ведомств, вообще очень ценили участие в их суждениях самих министров. Принятый Горемыкиным тон и вся его речь, как бы дававшая просветы в самые тайники нашей внутренней политики, и, наконец, тот легкий либерализм, которым была подернута его речь, – все это как нельзя больше не только нравилось, но даже льстило членам Совета. В обсуждавшемся вопросе они, несомненно, в особенности сознавали свое подневольное положение и невозможность не согласиться с предположениями главного представителя административной власти в деле полицейской охраны царской резиденции. Легко и охотно сделанные Горемыкиным уступки по некоторым вызвавшим возражения подробностям проекта окончательно их прельстили: Горемыкин ушел из заседания под общий хор одобрительных о нем отзывов.
Горемыкин твердо знал правило фонвизинской придворной грамматики, согласно которому несколько полугласных подчас сильнее и могут одолеть одну гласную[136], и неизменно стремился завязать и сохранить хорошие отношения с лицами и маловлиятельными, но которые могут стать таковыми в любую минуту путем того или иного назначения.
Невзирая на все свое искусство лавировать в петербургских сферах, Горемыкин осенью 1899 г. во время своего отсутствия из Петербурга был заменен на должности министра внутренних дел Д.С.Сипягиным. Очевидно, что одно Горемыкин упустил из виду, а именно, что отсутствующие всегда виноваты; его увольнение было для него страшным ударом и притом совершенной неожиданностью; он узнал о своей отставке на русской границе при возвращении из Парижа.
Но что же, собственно, было причиной отставки Горемыкина? Установить определенно я не могу, скажу лишь, что та причина, которая в то время признавалась достоверной, а именно борьба Витте с Горемыкиным на почве отстаивания последним прав земских учреждений, едва ли по существу верна. Что такова была внешняя сторона этой борьбы, несомненно: именно к этому времени относится записка Витте о несовместимости местного земского самоуправления с самодержавным государственным строем. Однако, думается мне, что Витте избрал этот вопрос, так как именно он сулил ему наибольшие шансы успеха в деле отстранения Горемыкина от одной из важнейших отраслей правления. На деле же это была борьба двух противоположных характеров, а в особенности темпераментов. Витте был весь натиск и энергия, Горемыкин – олицетворением постепеновщины и медлительности при упорстве в столкновении с инакомыслящими. Действовать совместно эти два характера не могли, и более горячий противник, играя на охранении прав престола, победил рассудительного и по существу более преданного самодержавному строю кунктатора[137].
Глава 6. Министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин
Заместитель[138] Горемыкина Д.С.Сипягин был типичным представителем старого русского барства, со взглядами которого совпадало и его представление о государственном управлении. Россия для него все еще представлялась вотчиной, которой должен отечески править русский царь. От природы ограниченного ума, он хотя и обладал дипломом высшего образования[139], однако и образованностью отнюдь не отличался. Бесконечная сложность назревших и вновь возникавших вопросов, связанных с дальнейшим развитием России, от него ускользала. Наравне со всеми он видел, что русский государственный корабль явно сбивается с пути, что сколько-нибудь определенного курса он не держит, а как-то безнадежно толкается в разные и притом иногда прямо противоположные стороны, но основные причины этого грозного явления были вне его понимания. Зло, по его мнению, состояло в особенности в том, что отдельные министры недостаточно оберегали царскую власть, причем этой же властью пользо вались при проведении тех мер, которые расшатывали прочность самодержавия и уничтожали престиж его ставленников на местах.
Сущность своих взглядов в этом отношении Сипягин обнаружил еще до назначения министром, а именно за год до того, состоя главноуправляющим собственной Его Величества канцелярией по принятию прошений[140]. В составленной им тогда записке он проектировал установление в виде общего обязательного правила, чтобы министры все свои принципиальные меры и имеющие политический характер законодательные предположения, ранее испрошения царского согласия на их осуществление, передавали в управляемую им канцелярию, с тем чтобы главноуправляющий этой канцелярией (т. е. он, Сипягин) докладывал их государю. Таким незатейливым путем он предполагал, что будет достигнуто единство государственной политики и уловлены зловредные покушения на рас – шатывание патриархально-самодержавного государственного и сословно-административного местного управления. Это до невероятности странное предположение, имевшее в виду не то воскрешение опричнины, не то учреждение в лице управляющего канцелярией должности Eminence grise[141], казалось Сипягину верным средством как для объединения деятельности отдельных министров, так и для обеспечения более близкого участия верховной власти в фактическом управлении государством. Сипягин при этом, очевидно, не отдавал себе отчета в том, что устанавливаемая им застава с контрольным пунктом могла лишь явиться лишним тормозом для развития государства, но отнюдь не обеспечивала единства действий начальников отдельных ведомств, политика которых фактически сказывалась и отражалась на управлении не столько в силу тех или иных предполагаемых ими преобразований, сколько от суммы того множества единичных решений, которые они ежедневно принимали, и распоряжений, которые отдавали. Впрочем, в основе предположений Сипягина заключалась правильная мысль, а именно, что в рамках самодержавного строя наладить на единый дружный лад высшее государственное управление, придать ему творческую силу можно было лишь путем образования однородного кабинета, возглавляемого од – ним лицом, ответственным перед престолом, но и обладающим властью по отношению к отдельным членам кабинета и лично их избирающим из среды своих единомышленников. Не имея возможности прямо высказать эту мысль и хорошо сознавая, что осуществление ее возможно лишь косвенным путем в каком-либо замаскированном виде, Сипягин решил провести эту контрабанду под ложным флагом. Причем он мог рассчитывать, что, сделавшись поначалу лишь контролером политической деятельности министров, он со временем силою вещей превратится в их руководителя, а затем и формально станет в их главе.
Проект Сипягина, разумеется, привел в ужас министров. Не только по личным соображениям не желали они пропускать через сипягинское сито свои предположения; они вполне понимали и государственную нелепость изобретенного им порядка. Между тем Сипягин, имевший обширные связи при дворе, уже успел получить предварительное одобрение своего проекта. Необходимо было, следовательно, пустить в ход все средства и нажать все пружины. Это и было сделано, причем прибегли к старому, испытанному способу провала нежелательных мер – учреждению особой комиссии для рассмотрения сипягинского проекта, с привлечением в состав комиссии лиц, облеченных в силу своей прежней государственной деятельности особым авторитетом. Комиссии этой стоило, однако, немало труда достигнуть своей цели. Затруднение состояло в том, что у комиссии не было уверенности, что ее заключения будут приняты, если автор проекта будет все же настаивать на благодетельности своих предположений. Совещанию удалось, однако, уговорить Сипягина самому отказаться от своего проекта, что и положило конец всему этому делу. Это, однако, не помешало тому, что Сипягин после назначения министром внутренних дел все же продолжал стремиться к осуществлению своей основной мысли и намерения – объединению всей министерской коллегии под своим главенством, но уже иными путями. Как бы то ни было, но назначенный министром внутренних дел Сипягин, конечно, тотчас взял обратно из Государственного совета представленный его предшественником проект распространения земского самоуправления на западные и некоторые восточные губернии, причем вознамерился построить свою политику на усилении значения дворянства как служилого сословия. При этом он обнаружил, однако, лишь свой изумительный дилетантизм. Избранный им для этого способ был наивен до чрезвычайности; состоял он в учреждении в составе Министерства внутренних дел особого департамента по делам дворянства. Соответственный проект был им представлен в Государственный совет, причем он уже наметил и директора этого нового департамента – екатеринославского губернского предводителя А.П.Струкова, известного консервативностью своих взглядов, а в особенности преданностью идее упрочения за дворянством роли и значения коренного служилого сословия. Осуществить этот проект ему, однако, не было суждено, так как Государственный совет до убийства Сипягина его не рассмотрел, а заменивший Сипягина Плеве взял его из Государственного совета обратно[142].
Наряду с этим Сипягин, занимавший в течение некоторого периода должность губернатора, носился с мыслью всемерного возвеличения этой должности и придания ей исключительного значения в общем правительственном аппарате. Начальники губерний в его представлении должны были быть не простыми администраторами, а местными представителями верховной власти, изображающими, подобно послам при иностранных державах, особу монарха. Надо сказать, что действующий закон, не в силу предоставленной им губернаторам фактической власти, а в части, определяющей характер их деятельности (так называемая Бибиковская инструкция[143], по имени министра внутренних дел времени Николая Павловича, ее составившего, и впоследствии введенная в положение о губернском управлении), давал для этого некоторую почву. Способ, к которому при этом прибег Сипягин, был, однако, столь же детский, как и избранный им в вопросе об увеличении значения дворянства: он убедил государя принимать приезжающих в Петербург губернаторов отдельно от других представляющихся лиц и выслушивать от них подробный доклад о состоянии вверенной им губернии и вообще о всех местных нуждах. Сипягин, по-видимому, однако, сам вскоре убедился, что получавшаяся при этом разноголосица лишь усиливала об – щий хаос: по крайней мере, порядок этот продолжался недолго и Сипягин не стремился его восстановить.
Что же касается управления министерством, то он понимал его тоже своеобразно. В министре внутренних дел он видел всероссийского губернатора. Не охватывая в должной мере вопросов общегосударственных, он поневоле вдавался во все мелочи управления, причем, по-видимому, был убежден, что может, сидя в своем кабинете на Фонтанке, деятельно участвовать в разрешении всех местных дел. Время свое он посвящал ввиду этого преимущественно продолжительным беседам с приезжавшими в Петербург представителями местной администрации. Завел он при этом любопытный порядок, а именно: каждый прибывавший в столицу губернатор должен был до приема его Сипягиным представить список тех вопросов, по которым он намерен был говорить с министром. Заключавшиеся в этом списке вопросы распределялись между соответствующими той отрасли управления, которой они касались, департаментами, с тем чтобы последними были составлены подробные по каждому вопросу справки. По получении этих справок и внимательного их изучения Сипягин принимал прибывшего губернатора и часами с ним беседовал по поводу какого-нибудь моста, необходимого, по мнению губернатора, для какой-либо местности управляемой им губернии или какого-нибудь перешедшего в Сенат, вследствие поданной на него жалобы, решения губернского присутствия или присутствия по земским и городским делам. Разговоры эти в огромном большинстве случаев не только были бесплодны, но и не могли быть иными по многим вполне понятным, казалось бы, причинам. Но это, однако, не влияло на Сипягина, и этой системы он держался все время управления министерством, причем количество требовавшихся справок все увеличивалось. Дошло до того, что в департаментах почти все дело сводилось к составлению справок, составлению всегда спешному, но очень подробному. Ходячей шуткой между чиновниками некоторых департаментов было называть министерство конторой Капаныгина (бывшее в то время бюро в Петербурге по получению справок о сдающихся квартирах). Немудрено, что при таких условиях никаких мер общего характера, связанных в большинстве случаев с необходимостью издания новых законов, министерством не разрабатывалось, а тем более не осуществлялось. В сущности, даже решение текущих дел фактически перешло к товарищам министра, причем была учреждена новая третья должность товарища министра внутренних дел, на которую был назначен занимавший в то время должность товарища государственного секретаря А.С.Стишинский. Одновременно взамен состоявшего при Горемыкине товарищем министра барона Икскуль-фон-Гиль-денбандта он избрал П.Н.Дурново, бывшего в царствование Александра III директором департамента полиции, а со времени увольнения от этой должности находившегося в Сенате по его 1-му (административному) департаменту. С назначением этих лиц, в определенно консервативных взглядах которых Сипягин был вполне уверен, важнейшей частью министерства бесконтрольно правил Дурново, а частью, подведомственной Стишинскому, а именно крестьянскими учреждениями, – никто.
Прекраснейший и честнейший человек, чуждый всякой интриги, душою преданный делу и отличающийся необыкновенной добросовестностью и трудолюбием, Стишинский был органически не способен ни к какой власти.
Необходимо, однако, отметить, что при своей умственной ограниченности и малой образованности Сипягин обладал каким-то особенным внутренним чутьем (чего Витте, например, был в значительной мере лишен). Так, вернувшись из совершенной им в 1900 г. поездки по России, где он, однако, силою вещей видел лишь внешнюю показную сторону, кроме администрации и представителей лишь той части русской общественности, которая в общем в то время отнюдь не была охвачена революционными стремлениями, он, к немалому изумлению сопровождавших его чиновников министерства, определенно им заявил, что в России творится что-то неладное и нарождается революция. Замечательно, что Витте, вполне сознававший умственную ограниченность Сипягина, однако признавал за ним какой-то, как он выражался, «женский инстинкт». Однако инстинкта, хотя бы и женского, для управления Россией, очевидно, было недостаточно. Сознание, что «что-то в Дании подгнило»[144], не давало еще возможности изобрести способ замены подгнившего крепким и здоровым.
В департаментах Государственного совета Сипягин появлялся редко, заменяя себя и там своими товарищами, а в те исключительные разы, когда появлялся, производил впечатление жалкое. Не обладая ни даром слова, ни логическим мышлением, ни знанием техники порученного ему дела, он беспомощно путался в своих объяснениях. Обстоятельство это, однако, не мешало тому, что вносимые им законопроекты, хотя и с разногласиями и урезками, все же благополучно принимались Советом, хотя многие из них отнюдь не нравились его членам. Так, при Сипягине было введено положение о земских начальниках в трех западных и трех северозападных губерниях; при нем же было передано все продовольственное дело от земских учреждений – крестьянским[145]. Слишком было известно то влияние и благоволение, которым пользовался Сипягин, чтобы большинство членов Совета решалось идти против него. К тому же по многим вопросам у Сипягина был могущественный защитник в лице Витте. Так, именно Витте фактически провел в Государственном совете закон о передаче продовольственного дела земским начальникам и уездным съездам. Руководствовался при этом Витте, вероятно, надеждою, что с этой передачей уменьшатся периодически производимые ассигнования из казны на продовольственные нужды неурожайных местностей. Надо признать, что в ведении земских учреждений дело это было поставлено плохо, в особенности в отношении пополнения продовольственных сельских запасов крестьянскими обществами. Не обладая правом принять какие-нибудь принудительные меры по отношению к этим обществам, земские учреждения лишены были возможности понудить их к накоплению этих запасов.








