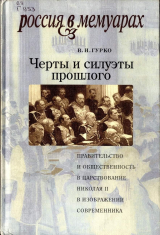
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 67 страниц)
Вот этот-то человек, сблизившись с Витте, имел на него в течение известного периода весьма определенное и значительное влияние. Лишь увидев его на конкретном деле, а именно на должности обер-прокурора Синода, которую он занимал в его кабинете, убедился наконец Витте, насколько Оболенский был вздорный, решительно во всех отношениях дилетант, что Витте определенно и высказал в своих воспоминаниях[301][302]. Но это было значительно позднее, а в 1902–1905 гг., именно начиная со времени наступления борьбы между Плеве и Витте, последний почитал Оболенского почти за оракула.
Что же касается второго лица, возымевшего к тому времени влияние на Витте, М.А.Стаховича, то он, несомненно, обладал многими привлекательными свойствами. Талантливый, литературно весьма образованный, М.А.Стахович отличался необыкновенным умением завязывать связи и вступать в близкие дружеские отношения с лицами самых различных взглядов и общественных положений. Он был своим человеком и в высшем петербургском обществе, и в мире художников и артистов, и, само собой разумеется, в земской среде. С гр. Толстым он ходил на богомолье, а с художественной богемой проводил бессонные ночи, осушая не одну бутылку вина. Помогали ему при этом и его чрезвычайная общительность, и некоторые салонные таланты – он был прекрасный чтец, и готовность оказать услугу и даже серьезную помощь, причем все это было сдобрено какой-то своеобразной бесцеремонностью, не лишенной нахальства. Приятный собеседник, веселый собутыльник, неоценимый корреспондент, он поддерживал корреспонденцию с сотнями лиц – Стахович умудрялся быть в течение многих трехлетий орловским губернским предводителем дворянства, хотя по исповедуемым им политическим взглядам он был значительно левее преобладающего большинства орловского дворянства. Чрезвычайно характерно для Стаховича и то, что он был избран членом Первой Государственной думы, хотя по составу избирателей этой Думы одно то обстоятельство, что он состоял губернским предводителем дворянства, казалось, совершенно лишало его возможности пройти на этих выборах.
В дальнейшей своей политической карьере Стахович выказал то же необыкновенное умение сидеть зараз на нескольких стульях. Так, в день открытия Первой Государственной думы он явился в Зимний дворец на прием государем членов законодательных палат в придворном камергерском мундире и тем составил яркую противоположность с, в общем-то, серой, как бы нарочито неряшливо одетой толпой членов нижней палаты. Одновременно в Первой Государственной думе он сумел войти в дружеские отношения с лидерами преобладавшей там кадетской партии, не вступая, однако, официально в ее ряды. Эти отношения он сумел сохранить до самого конца старого режима. Так, будучи впоследствии членом Государственного совета по избранию орловского земства, он был в лучших отношениях с левым крылом Совета – академической группой, причем, однако, официально в ней не числился. Любопытно и характерно для Стаховича и то, что, обладая несомненным ораторским талантом, он тем не менее более чем редко высказывался по какому-либо вопросу с трибуны.
Само собой разумеется, что Стахович разделял мнение кн. Оболенского по вопросу о том, что все живое и дельное в России сосредоточено в земских учреждениях, правительственный же аппарат состоит из бюрократов, мертвящих всякое дело, которым ведает или к которому прикоснется. Разница между Стаховичем и Оболенским состояла в том, что Оболенский, клеймя и презирая русскую бюрократию, всемерно, однако, стремился войти в ее состав и занимать в ней высшие должности. Стахович этого вовсе не добивался. Так, когда он явился главным посредником между Витте и теми общественными деятелями, которых последний хотел в 1905 г. включить в свой кабинет, сам он определенно и с места заявил, что никакого министерского портфеля принимать не желает. Объяснялось такое отсутствие честолюбия у Стаховича его преобладающим свойством, а именно нежеланием в чем-либо себя стеснять, а тем более чем-либо серьезно заняться. Природная лень еще в Училище правоведения привела к тому, что, несмотря на свои природные способности, он кончил его последним из всего курса; желание невозбранно пользоваться всеми прелестями свободной холостой жизни богатого человека никогда не покидало Стаховича. Честолюбие у него, несомненно, было, но преобладала над ним распущенность богемы, а посему он ограничивался стремлением к занятию таких положений, которые при внешнем почете ни в чем бы не стесняли его в удовлетворении своих, несколько цыганских, наклонностей и в пользовании всеми благами жизни.
Правда, впоследствии, после революции, он принял назначение на должность финляндского генерал-губернатора, но это объясняется, вероятно, тем, что он отнюдь не имел в виду управлять Финляндией, а лишь явиться живой связью между империей и Великим княжеством, предоставив управление этим краем в полной мере местным деятелям.
Он, как большинство самого Временного правительства, полагал, что достаточно для сохранения связи Финляндии с Россией проявить широкую благожелательность по отношению к местным общественным силам. Дилетантизм, которым отличался почти весь состав Временного правительства, был основной чертой Стаховича, лишенного к тому же государственного понимания и даже смысла. Это отсутствие государственности, которым отличались многие представители нашей либеральной земщины, было типичной особенностью обоих вдохновителей Витте в эпоху его борьбы с Плеве и далее, вплоть до его пребывания в течение нескольких месяцев русским премьером, но из двух кн. Оболенский был, несомненно, легкомысленнее и самонадеяннее Стаховича. Типичные продукты эпохи, они олицетворяли в его двух разновидностях мягкотелый русский земский либерализм, сплетенный из отсутствия глубоких познаний, поверхностного ума и туманных чаяний космополитического уклона. Сколько-нибудь определенной политической программы по самым основным вопросам народной жизни у них не было, да и не были они в состоянии ее выработать, но дух критики в них был сильно развит, причем он нередко или, вернее, обыкновенно превращался в простой persiflage[302].
Возвращусь к борьбе Витте за сохранение за собой господствующей роли при разрешении крестьянского вопроса.
Отослав на разрешение местных комитетов программу, составленную в сельскохозяйственном совещании, он временно лишился возможности использовать это совещание для проведения своих взглядов. Между тем до сведения Витте доходило, что работы по пересмотру узаконений о крестьянах производятся в Министерстве внутренних дел с лихорадочной спешностью, и у него возникает опасение, как бы Плеве не опередил его в этом вопросе. Тогда он прибегает к новому средству, а именно – учреждает при Крестьянском поземельном банке межведомственное совещание по вопросу о той общей политике, которую должен проводить этот банк при продаже крестьянам как приобретаемых за счет особых ассигнуемых ему на это ежегодно сумм, так и передаваемых ему Дворянским банком оставшихся у него на руках земельных имуществ. Председателем этого совещания он назначил того же кн. А.Д.Оболенского, полагая, что он сумеет провести там свои общие взгляды по крестьянскому вопросу. Расчет был, на первый взгляд, правильным. Установить политику Крестьянского банка без предварительного или, по крайней мере, попутного разрешения коренных основных вопросов крестьянского быта, очевидно, не было возможности. Между тем принятые в межведомственном совещании решения этого вопроса приобретали сразу значительно большее значение, нежели какие-то предположения, выработанные исключительно в недрах одного ведомства.
Плеве, разумеется, сразу понял, к чему клонится затея Витте. Возражать против образования упомянутого совещания, имеющего формально в виду лишь определение деятельности учреждения, подведомственного министру финансов, Плеве, однако, не имел возможности. Вынужденный ввиду этого ограничиться зорким наблюдением за деятельностью этого совещания, он назначил в него представителем Министерства внутренних дел состоявшего при нем А.П.Струкова, бывшего екатеринославского губернского предводителя дворянства, известного своими весьма консервативными взглядами, начальника утвержденной по мысли Сипягина в составе министерства канцелярии по дворянским делам – Н.Л.Мордвинова (бывшего управляющего Ставропольской казенной палатой, которого Плеве почитал за знатока в крестьянском вопросе), директора департамента полиции Лопухина, пользовавшегося в то время исключительным доверием Плеве, и автора этих строк. При этом Плеве счел даже нужным собрать этих лиц у себя для совместного обсуждения той линии поведения, которой они должны держаться в этом совещании. Однако, так как никакой программы деятельности этого совещания не существовало, то ясно, что определить заранее, чего должны держаться представители Министерства внутренних дел, не было возможности, а потому все ограничилось указанием Плеве, чтобы выбранные им лица держали его в курсе занятий совещания и ни к каким принципиальным решениям не присоединялись без предварительного получения его на то согласия.
Со своей стороны и Витте мобилизовал на это совещание особенно ценимых им сотрудников, а именно директора департамента государственного казначейства И.П.Шилова, директора департамента окладных сборов Н.Н.Кутлера и правителя канцелярии министерства А.И.Путилова, бывшего, впрочем, вообще непременным представителем Министерства финансов во всех межведомственных совещаниях. Эти три Аякса, из которых два первых были впоследствии и министрами: Шипов – финансов, а Кутлер – земледелия, в кабинете Витте выступали всегда общим дружным фронтом, хотя Шипов был сторонником общины, а Путилов – личного землевладения, и, разумеется, голосовали как один. Наибольшее участие в прениях принимал Кутлер, который, по-видимому, являлся наиболее точным выразителем взглядов самого Витте. Общий тон всех троих был неизменно либеральным, а в вопросах, касающихся крестьянства, они определенно отстаивали взгляды, господствовавшие в передовых земских кругах.
Опасения Плеве были, однако, совершенно напрасны, равно как и возлагаемые Витте на совещание надежды были тщетны. Под председательством кн. А.Д.Оболенского никакое совещание ни к каким сколько-нибудь конкретным решениям прийти вообще не могло.
На чем, собственно, сосредоточивались те горячие споры, которые происходили в совещании, я сейчас не припомню, знаю лишь, что вопроса о единоличном и общинном землепользовании не касались вовсе, причем вообще все суждения отличались необыкновенной расплывчатостью. Зависело это главным образом от того, что у самого Оболенского никаких сколько-нибудь точных предположений и взглядов по крестьянскому вопросу не было. Он хотел что-то изменить, что-то исправить, по-видимому, насколько можно было понять из его туманных речей, стоял за распространение на крестьян общих гражданских законов, но так как вопросы эти на совещании поставлены не были, то прямо этого и не высказывал. Определеннее был Кутлер. Стрелы свои он направлял преимущественно против правительственной опеки над крестьянами, и в частности против деятельности земских начальников. Речь Кутлера была всегда логичная и как будто убежденная. По крайней мере, всегда говорил он тоном хотя неизменно спокойным, но твердым и проявлял наименьшую уступчивость. В общем, повторяю, совещание кн. Оболенского представляло какую-то странную мешанину самых разнообразных вопросов, нередко подвергавшихся одновременному обсуждению, по которым, однако, не только не приходили к какому-либо определенному решению, но и разрешать которые вообще не предполагалось. Приглашались в это совещание различные специалисты. Так, участвовал в нескольких заседаниях Лохтин, автор весьма известных исследований в области сельского хозяйства, причем, однако, его книга[303] была гораздо толковее и умнее, нежели произнесенные им в совещании пространные речи. Проник в это совещание и небезызвестный в то время Н.А.Павлов, носивший прозвище «Дворянин», так как он сопровождал свою подпись на печатаемых им журнальных статьях этим званием. Весьма неглупый, а в особенности талантливый, Павлов не был серьезным мыслителем, но зато, несомненно, обладал свойствами художника и писателя. Написанная им книга, заглавие которой не припомню, рисующая наш сельский быт и условия, в которых находилось наше сельское хозяйство, изобиловала картинами сельской жизни, изображенными с художественной правдой[304]. Однако дальше изображения более или менее внешней стороны русской действительности он не пошел, что все же не мешало ему сочинять различные проекты, столь же необъятные по замыслу, сколь мало соображенные в порядке их реального осуществления. Отличительным свойством Н.А.Павлова было необузданное честолюбие и страсть красоваться в любом виде на жизненной, преимущественно политической, сцене. Если не непосредственно за славой, то за известностью, хотя бы несколько скандального характера, он гонялся всеми средствами, чем, между прочим, и объяснялось его крикливое присоединение к своей подписи звания дворянина. Не обладая ни терпением, ни усидчивостью, он хотел вырвать у жизни все сразу и потому стремился сделать служебную карьеру не обыкновенным путем посредством более или менее медленного восхождения по иерархической лестнице, а одним скачком. Состоял он чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, но без содержания, а потому фактически никаким делом занят не был, выступать же предпочитал, где только мог, под флагом общественного деятеля и публициста. При этом составленными им довольно пространными записками по различным вопросам он забрасывал всех министров и вообще влиятельных лиц. Занятию этому предался он с особым рвением, когда Манифестом 18 февраля 1905 г. было предоставлено всем обывателям так называемое право подачи петиций непосредственно государю. Канцелярия Комитета министров, куда поступали эти петиции, была вообще ими завалена, но среди подававших их не было ни одного, который бы представлял такое количество отдельных записок, касающихся самых разнообразных вопросов, как Павлов. Мотив был, очевидно, все тот же – сразу, на гребне составленного им проекта, достигнуть до «степеней известных». В то время, насколько помнится, он интересовался преимущественно вопросом пере – селения крестьян на восток, причем предлагал некоторые, не лишенные живой оригинальной мысли планы устройства переселенцев на новых местах. Именно благодаря записке, касающейся этого вопроса, проник он в совещание кн. Оболенского, но здесь, когда вопрос пошел о способах реального осуществления его сырых и притом довольно хаотически изложенных мыслей, не сумел ни защитить их, ни, тем более, развить. Попытка его присоединиться через Плеве к работе по пересмотру узаконений о крестьянах тоже не увенчалась успехом, хотя он и был в числе тех лиц, на которых Плеве мне указал как на возможных сотрудников в этом деле. Познакомившись с его записками и поговорив с ним лично, я пришел к убеждению, что он принадлежит к числу тех широких фантазеров, участие которых в каком-либо определенном практическом деле лишь сбивает эту работу с правильных рельсов и в конце концов задерживает ее исполнение, но ничего серьезного в нее не вносит, и потому от его сотрудничества я отказался. Павлов не преминул приписать это моей боязни его талантов и знаний и даже произвел меня в своего личного врага. Этой чести я ему, однако, никогда не оказывал, а просто почитал его за интересного собеседника, но за рабочую силу признать не мог.
Как бы то ни было, совещание, учрежденное Витте под председательством Оболенского, ни к чему определенному не пришло за полной невозможностью согласовать тот хаос разнообразных мыслей и предположений, которые были в нем высказаны, в сколько-нибудь приемлемые для членов совещания заключения. Представители Министерства внутренних дел за исключением меня перестали его посещать. Лопухин, насколько помнится, участвовал лишь в первом заседании, а Струков и Мордвинов если иногда и присутствовали, то лишь в качестве молчаливых свидетелей происходящего. Фактически, таким образом, в прениях участвовали Кутлер со стороны Министерства финансов и я со стороны Министерства внутренних дел. Можно, однако, спросить, почему я, в общем разделявший взгляды, проводимые не столько Оболенским (за невозможностью выяснить, в чем они, собственно, состояли), а Кутлером, тем не менее вел с ним по их поводу оживленную словесную перестрелку? Причин было несколько, причем не скрою, что едва ли не основной было нежелание выпустить из своих рук дело, которому я посвятил уже много труда и которое надеялся лично довести до благополучного конца. Словом, нет сомнения, что тут было затронуто и ведомственное, и личное самолюбие. Оправдывал же я мысленно свой образ действий тем, что вообще считал невозможным осуществить какие-либо серьезные реформы в крестьянском деле путем, избранным Министерством финансов. Мне казалось, что крестьянский вопрос мог быть разрешен только при общей широкой его постановке, а не путем отдельных мероприятий, принимаемых в порядке управления. Между тем фактически именно лишь к этому в лучшем случае могли свестись заключения совещания кн. Оболенского. К тому же, повторяю, я не верил, что кн. Оболенский мог вообще довести какое-либо дело до реальных результатов. В его руках оно неминуемо должно было кончиться en quene de poisson[305]. Последнее и произошло, так как даже не удалось составить по нему журнала. Все попытки в этом направлении оказались совершенно тщетными. Журнал был, разумеется, составлен: чего только не были способны составить искусные перья петербургских чиновников, но собрать под ним подписи участников не удалось.
Припоминается, что еще в начале занятий этого совещания Плеве по поводу возбужденных в нем вопросов обратился к Витте с официальным письмом, в котором указывал, что некоторые из этих вопросов не могут быть решены до окончания порученного Министерству внутренних дел общего пересмотра крестьянского законодательства, а посему на участие в их рассмотрении вверенное ему министерство не может согласиться. Как бы то ни было, но намерение Витте овладеть крестьянским делом предположенным им путем не удалось, и дальнейших попыток он, в бытность министром финансов, уже не предпринимал.
Еще большую неудачу испытал Витте в другом вопросе, по которому велась борьба между ним и Плеве, а именно на подчинении фабричной инспекции министру внутренних дел. В этом вопросе Плеве действовал в согласии с Лопухиным, причем стремления их имели связь с зубатовской политикой.
На фабричную инспекцию департамент полиции косо смотрел едва ли не с самого момента ее учреждения. Он видел в ней организацию, недостаточно благонадежную по своему составу, и притом препятствующую работе охранной полиции.
Казалось бы, что зубатовская политика совпадала с этим направлением, но на деле разница была громадная. Фабричная инспекция наблюдала за исполнением работодателями закона о фабричном труде и отстаивала его обязательность. Зубатов хотел внедрить в сознание рабочих, что закон вообще не имеет значения, а существует правительственная власть, отечески заботящаяся о рабочих, и именно на нее надо возложить все надежды, независимо от того, предвидит ли то или иное положение либо обстоятельство закон или нет. При таких условиях конфликты между чинами охранной полиции и фабричной инспекцией были неизбежны, и ради их прекращения и стремился департамент полиции подчинить эту инспекцию административной власти. Наряду с этим было полное недоверие к личному составу фабричной инспекции, зараженной в массе интеллигентскими взглядами и недостаточно зорко наблюдавшей за пропагандой революционных взглядов среди рабочей массы. Жандармское ведомство было в этом отношении вне подозрений. Таким образом, путем передачи в ведение Министерства внутренних дел фабричной инспекции достигалось, с одной стороны, изменение ее личного состава в сторону ее большей консервативности или, вернее, благонадежности с правительственной точки зрения, а с другой – возможность проведения через ее посредство зубатовской политики.
Правда, в полной мере Плеве в этом вопросе не осуществил своих предположений. Фабричная инспекция осталась в ведении Министерства финансов, но по последовавшему 30 мая 1903 г., на основании всеподданнейшего доклада министров финансов и внутренних дел, Высочайшему повелению все местные чины этой инспекции были подчинены руководству губернаторов в отношении применения закона и изданных в его развитие правил, инструкций и наказов относительно соблюдения на фабриках и заводах благоустройства и порядка. Мало того, само назначение фабричных инспекторов, распределение их по участкам и даже представление к наградам должно было впредь производиться по предварительному сношению с губернатором. Последнему было предоставлено, кроме того, право требовать от фабричных инспекторов представления очередных и срочных докладов, а в известных случаях отменять своей властью распоряжения чинов фабричной инспекции без передачи их на предварительное рассмотрение местных по фабричным и горнозаводским делам присутствий. При этом права окружных фабричных инспекторов были доведены до минимума, а именно ограничены правом ревизий дел, производимых чинами фабричной инспекции, и предварительной разработкой сведений по промышленной статистике.
Совокупность произошедших в положении фабричных инспекций изменений, несомненно, привела к фактической передаче этой инспекции в ведение Министерства внутренних дел и местной администрации и радикально изменила сам характер деятельности этого института. Цель создания этой инспекции состояла в учреждении посреднического органа между рабочими и работодателями и надзора за соблюдением законов, регулирующих фабричный труд в видах охраны жизни, здоровья и благосостояния трудящихся. С передачей в подчиненное положение администрации она превращалась из фабричной инспекции в фабричную полицию.
Признать, однако, что Плеве не имел никаких оснований стремиться к подчинению фабричной инспекции администрации, тоже нельзя. Дело в том, что рознь, существовавшая между ведомствами в их центральных учреждениях, отзывалась на деятельности местных, принадлежавших разным ведомствам учреждений и нередко приводила к полной несогласованности действий органов одной и той же, по существу, государственной власти. Устранить эту несогласованность, иногда переходившую в открытый антагонизм между ними и иногда приводившую к печальным результатам, министр внутренних дел, ответственный за сохранение порядка и спокойствия в стране, не мог не желать. Беда была лишь в том, что такими частными мерами устранялся не первоисточник этой несогласованности, а лишь некоторая часть ее последствий, причем попутно, несомненно, извращался основной характер деятельности отдельных органов управления.
Как бы то ни было, но приведенная мера, состоявшаяся как будто по взаимному соглашению Плеве с Витте, была, разумеется, не чем иным, как решительной победой первого над вторым.
Действительно, не подлежит сомнению, что уже к началу 1903 г. Плеве упрочил свое положение у престола и настолько подорвал доверие к Витте, что удаление последнего являлось лишь вопросом времени. Витте это, конечно, чувствовал, но все же цеплялся за власть, хотя бы ценой таких уступок, к которым он до тех пор отнюдь не привык.
Внешним проявлением благоволения к Плеве и утверждения его программы государственной деятельности явился Высочайший Манифест 26 февраля 1903 г., первый в ряду государственных актов, последовательно в течение ближайших трех лет извещавших о предначертаниях, направленных к усовершенствованию государственного строя.
Нельзя сказать, чтобы начертанная в манифесте программа отличалась определенностью и конкретностью. Содержала она не столько сущность предположенных изменений в общем строе государственного управления, сколько их дух и политическое направление. Плеве спешил закрепить свои намерения хотя бы в самых общих чертах и даже ранее их более точного выяснения для самого себя государственным актом, исходящим с высоты престола.
Для ясности последующего считаю нужным привести здесь его резолютивную часть:
Высочайший Манифест 26 февраля 1903 г.
…Укрепить неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основных законах империи Российской, которые, благоговейно почитая Православную Церковь первенствующей и господствующей, предоставляют всем подданным Нашим инословных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужения по обрядам оной. Продолжать деятельное проведение в жизнь мероприятий, направленных к улучшению имущественного положения Православного сельского духовенства, усугубляя плодотворное участие священнослужителей в духовной и общественной жизни их паствы.
В соответствии с предлежащими задачами по укреплению народного хозяйства, направить деятельность государственных кредитных установлений, особливо дворянского и крестьянского поземельного банков, к вящему укреплению и развитию благосостояния основных устоев русской сельской жизни: поместного дворянства и крестьянства.
Предначертанные Нами труды по пересмотру законодательства о сельском состоянии, по их первоначальном выполнении в указанном Нами порядке, передать на места для дальнейшей их разработки и согласования с местными особенностями в губернских совещаниях при ближайшем участии достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных. В основу сих трудов положить неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения, изыскивая одновременно способы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины. Принять безотлагательно меры к отмене стеснительной для крестьян круговой поруки.
Преобразовать губернское и уездное управление для усиления способов непосредственного удовлетворения многообразных нужд земской жизни трудами местных людей, руководимых сильной и закономерной властью, перед Нами строго ответственной.
Поставить задачею дальнейшего упорядочения местного быта сближение общественного управления с деятельностью приходских попечительств при Православных Церквах там, где это представляется возможным.
Призывая всех Наших верноподданных содействовать Нам к утверждению в семье, школе и общественной жизни нравственных начал, при которых, под сенью Самодержавной Власти, только и могут развиваться народное благосостояние и уверенность каждого в прочности его права, Мы повелеваем Нашим Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, к ведомству коих сие относится, представить Нам соображения о порядке исполнения предначертаний Наших.
Невзирая на всю его неопределенность, манифест этот все же заключал ответ на несколько злободневных, волновавших общественность вопросов. Он, во-первых, отвергал мысль об учреждении мелкой земской единицы на тех началах, которые признавались желательными передовыми земскими кругами, и взамен этого предлагал «сближение общественного управления с деятельностью приходских попечительств при православных церквах». В чем именно это сближение должно было состоять, я никогда уразуметь не мог, и никто объяснить этого мне был не в состоянии. Правда, мысль о построении земской жизни на церковноприходской территориальной единице в то время усиленно проповедовалась правой прессой – «Московскими ведомостями», «Гражданином», отчасти и «Новым временем», но сколько-нибудь определенного способа построения этой единицы и связи ее с земскими учреждениями мне не приходилось встречать. В общем, это была одна из туманностей славянофильского миросозерцания.
Затем в манифесте имелось прямое указание на намерение правительства усилить влияние и власть местной администрации над выборными городским и земским учреждениями до такой степени, что именно это ставилось целью преобразования губернского и уездного управлений.
Наконец, по наиболее злободневному вопросу – крестьянскому – имелось указание на дальнейшее охранение земельной общины от насильственной ломки при облегчении отдельным крестьянам выхода из нее. Одновременно предписывалось «принять безотлагательные меры к отмене стеснительной для крестьян круговой поруки[306]». Эту единственную вполне конкретную меру, которую предуказывал манифест, легко было включить в него в императивной форме, так как ко времени его издания законопроект по этому предмету был не только внесен в Государственный совет, но в соответственном его департаменте уже рассмотрен и одобрен, так что оставалось для издания соответствующего закона лишь по существу формальное заслушание его общим собранием Государственного совета и утверждение его Высочайшей властью, что и последовало в ближайшие после издания манифеста дни, а именно 12 марта 1903 г.
Имелась, однако, в манифесте и одна, по тогдашнему времени, существенная новелла, а именно привлечение к предварительному рассмотрению нового законодательства о сельском состоянии местных губернских совещаний «при ближайшем участии достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных».
По этому поводу, быть может, небезынтересно рассказать здесь, как именно составлен был приведенный манифест.
Произошло это так. 25 февраля Плеве, вернувшись от государя, у которого он был с очередным докладом, вызвал меня по телефону и объяснил мне, что государю угодно завтра же, 26 февраля, в памятный день рождения императора Александра III, издать манифест, в коем были бы изложены основные черты будущей правительственной деятельности, как то: поддержка поместного дворянства и крестьянства, а также православного духовенства, устроение земской жизни на основе приходского попечительства с вящим подчинением деятельности существующих земских учреждений административной власти. Кроме того, манифест должен оповестить страну, что разрабатываемые законы о сельском состоянии должны оставить общинный строй неприкосновенным, причем они, проекты этих законов, будут переданы на рассмотрение местных совещаний с участием в них представителей от дворянства и земства. При этом Плеве мне объяснил, что вступительную лирическую часть манифеста он поручил составить начальнику своей канцелярии Д.Н.Любимову, меня же просит изложить в весьма кратких положениях сущность высказанного им. Согласование обеих частей манифеста и его окончательная редакция должны быть произведены сегодня же вечером, так как он должен представить манифест к подписи в тот же день не позднее 12 часов ночи.








