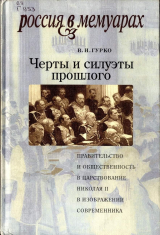
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 67 страниц)
Сам Витте весьма интересовался этим вопросом и вел личные беседы по этому предмету с представителями ведомств по этом поводу. Со мною он беседовал на эту тему дважды, причем, разумеется, в первую очередь был поставлен вопрос о праве выхода из общины, который в Государственном совете провести не удалось.
Само собою разумеется, что одновременно им была упразднена предварительная до представления на законодательное утверждение переписка между «заинтересованными» ведомствами по выработанным законопроектам и заменена их внесением в Совет министров, где они и подвергались обсуждению всех членов кабинета.
Вообще, к встрече с Государственной думой Витте приготовлялся всемерно и, надо полагать, заранее обдумывал те разнообразные способы, которые он пустит в ход, чтобы ее прельстить и покорить.
Одновременно он прекрасно понимал, что начать совместную работу с Государственной думой с пустым государственным казначейством и, следовательно, при необходимости с места предстать перед нею в роли просителя, ходатайствующего о разрешении произвести государственный заем, значит сделаться ее рабом. Между тем средства казны были в высшей степени подорваны теми огромными расходами, которые поглотила несчастная Японская война.
Ввиду этого, как только внутреннее состояние страны настолько установилось, что возможно было рассчитывать на совершение государственного займа на иностранных денежных рынках, он тотчас вступил в переговоры с группой парижских банкиров, причем ему удалось, конечно не без труда, достигнуть предварительного соглашения на заключение столь крупного по размерам займа, какого до того еще нигде в мире никогда реализовано не было, а именно 800 миллионов рублей золотом.
Однако в последнюю минуту сделка эта чуть-чуть не расстроилась. Посланный в Париж для подписания условия займа В.Н.Коковцов встретился там с другими посланцами, прибывшими с целью помешать его заключению. Посланцы эти были, увы, русские люди, из которых один носил громкое историческое имя, а действовал от имени кадетской партии[562].
Среди темных деяний, значащихся на активе этой партии, посылка в иноземную страну эмиссаров с целью подорвать там кредит собственной страны, хотя бы это и облекалось в форму подрыва силы и значения имеющегося в ней в данное время законного правительства, едва ли не самое темное, скажу прямо – постыдное.
Обстоятельство это, несомненно, в высшей степени затруднило Коковцову исполнение возложенного на него поручения, не столько, однако, в отношении самого совершения займа, сколько охранения тех условий, на которых поначалу соглашались кредиторы России.
Действительно, самое обращение к иностранцам кадетских посланцев в достаточной степени свидетельствовало как о слабости партии, которая ищет поддержки своей деятельности не у себя дома, а вне страны, так и степени ее государственности, ибо представить себе, что патриотически настроенная организация может строить козни своему правительству, опираясь для этого на чуждые стране элементы, – этого на западе Европы культурные круги понять решительно не могут. Иное дело, учесть благородный поступок радетелей о русском народном благе для того, чтобы заставить русское правительство согласиться на более тяжелые условия займа. И этого, конечно, не преминули попытаться сделать представители международного капитала. Коковцову стоило больших усилий парализовать удар, занесенный кадетами над тощей мошной русского народа.
Удачное совершение необходимого заграничного займа развязывало руки Витте, и он уже заранее предвкушал ту силу, которая сосредоточится в его руках, когда он, лавируя между верховной властью и народным представительством и внушая каждой из этих сторон, что проводимые им реформы составляют непременное желание другой стороны, будет беспрепятственно и стремительно осуществлять свою волю.
В этом розовом настроении поддерживали Витте, а вместе с ним и весь Совет министров первые сведения о результатах произведенных населением выборов членов Государственной думы. Согласно этим сведениям, избранные в подавляющем большинстве принадлежали к крестьянскому сословию; прошло на выборах и значительное число священников. Между тем не только Витте вместе с правительством, но и общественные элементы были убеждены, что крестьяне, вошедшие в Государственную думу, будут мягким воском в руках власти. Предполагалось, что добрые мужички выберут в члены Думы наиболее степенных и разумных своих сочленов, подходящих к типу наших волостных старшин. На этом главным образом и основывалось требование революционных и оппозиционных элементов об изменении намеченной правительством выборной системы и замены ее четырехвосткой. Социалисты различных толков на том же основании решили даже бойкотировать выборы в Государственную думу, стремясь тем развенчать в глазах рабочего слоя ее личный состав.
Мне пришлось участвовать в том заседании Совета министров, которое непосредственно следовало за получением в Петербурге первых сведений о произведенных в большинстве местностей империи выборах. Сведения эти вызвали всеобщую радость среди присутствующих, причем Витте, несомненно, выразил общую мысль, сказав: «Слава Богу, Дума будет мужицкая». Обер-прокурор Синода Оболенский к этому лишь прибавил: «Ну, и поповская, что тоже недурно». Возражений ни с чьей стороны не последовало, и Совет министров в благодушном настроении перешел к рассмотрению текущих дел. При обмене мнений по этим делам остальные члены Совета неоднократно с своей стороны говорили: «Ну, теперь будет легче, с Государственной думой мы это проведем». Словом, никому в голову не приходило, что звание крестьянина еще не гарантирует политической благонадежности облеченного им лица.
Однако следом за сведениями о сословной принадлежности избранных в члены Государственной думы стали поступать сведения и о их партийной принадлежности. Очень скоро выяснилось, что преобладающее большинство избранных именует себя кадетами. При таких условиях крестьянское большинство являлось уже не плюсом, а минусом, так как для всех было понятно, что это будет серая толпа, всецело находящаяся в руках нескольких десятков интеллигентов кадетского образца.
Витте по мере выяснения истинного состава Государственной думы становился чернее тучи, вновь выказывал признаки повышенной нервности и запальчиво приписывал результаты выборов деятельности Дурново – принятым им крутым мерам в смысле подавления революционного движения. Предположение это было неверное, ибо как могли действия Дурново, почти всецело сосредоточившиеся в городах, повлиять на настроение сельских масс, составляющих большинство выборщиков. Причина была, разумеется, другая, а именно широко расточавшееся кадетами обещание дать крестьянам землю в любом размере, причем об условиях ее получения крестьянами благоразумно умалчивалось.
Однако Витте, по-видимому, искренно верил, что виноват именно Дурново. Полученные Витте приблизительно в это время (судя по упомянутым запискам Лопухина) сведения о высылке в административном порядке 45 тысяч человек, конечно, укрепили его в этом мнении. Но спрашивается, если бы эти 45 тысяч агитаторов не были высланы, были бы результаты выборов более благоприятны?
В одном Витте был прав, а именно когда утверждал, что он многократно просил Дурново ослабить репрессии, не упоминая, однако, что делал он это лишь с января 1906 г., когда революция на улицу почти больше не выступала.
Вообще, отношения между Витте и Дурново стали портиться именно с начала 1906 г., когда Дурново был утвержден в должности министра внутренних дел (до тех пор он был лишь управляющим министерством), а дочь его пожалована во фрейлины[563]. Благоволение государя к Дурново, несомненно, внушало Витте опасения, что он будет им заменен на посту председателя Совета министров.
Уже с этих пор Витте стал прилагать все усилия к тому, чтобы так или иначе отделаться от Дурново. Революция, по крайней мере посколько она представляла опасность для государственного строя, по представлению Витте, была окончена, а потому надобности в Дурново он более не ощущал. Независимо от того Витте вполне понимал, что предстать перед Государственной думой, хотя бы лишь в части своей оппозиционной, имея в своем кабинете столь неприятную общественную фигуру, как Дурново, ему будет очень трудно. Ведь недаром вся пресса называла его министерство не иначе как двойным именем – кабинет Витте – Дурново. Вновь облечься в белые ризы либерализма Витте мог, только отсекши от названия своего министерства этот ставший и ему ненавистным, но крепко к нему приставший привесок.
Но как было этого достигнуть? Государь, в октябре предоставивший Витте свободный выбор всех членов его кабинета, с тех пор, несомненно, изменился в этом отношении и на простое заявление Витте о его желании заменить Дурново другим лицом, по всей вероятности, ему отказал бы в этом. При таких условиях Витте решил действовать напролом. Он представил государю мотивированное прошение об увольнении его от Должности и в этом прошении указал на несовпадение его взглядов со взглядами Дурново. Исходил Витте при этом, несомненно, из никогда не покидавшего его убеждения, что он сам незаменим и что в ответ на поданное им прошение государь его не отпустит, а Дурново сам уволит[564].
Но Витте глубоко заблуждался. Доверием государя он не пользовался с давних пор, а именно еще за некоторое время до своего увольнения от должности министра финансов. Но во время состояния Витте председателем Совета министров чувства государя к Витте превратились в определенно неприязненные. За это время Николай II пришел к убеждению, что Витте не только не отличался той лояльностью, которую он вправе был ожидать от своего первого министра, а, наоборот, способен и готов его продать в любую минуту.
Для меня лично увольнение Витте не подлежало никакому сомнению приблизительно недели за две до того времени, когда оно состоялось. В первых числах апреля я по какому-то поводу представлялся государю. Во время беседы с Его Величеством, предметом которой было предстоящее собрание Государственной думы, я высказал, что одним из необходимых условий для успешной работы с Государственной думой является абсолютная солидарность всего министерства. Я даже позволил себе сказать, сопровождая свои слова соответствующим жестом, что министерство должно быть едино и крепко как кулак. Государь, по-видимому, не придавал этому значения. «Да, да, разумеется, – ответил мне государь, как бы отстраняя что-то второстепенное, – но главное, чтобы правительство было в верных руках. Вы понимаете, о ком я говорю».
Признаюсь, слова эти меня просто ошеломили. Чтобы государь, весьма мало меня знавший и очень редко меня видевший, поведал мне то, что им было сказано, нужно было, чтобы его неприязненные чувства к Витте дошли до крайнего предела. Во всяком случае, сомневаться в том, что Витте будет уволен до собрания Государственной думы, не приходилось.
Однако сам Витте этого не предчувствовал до самых последних дней состояния у власти. Так, еще за три дня до своей отставки он в Совете министров продолжал говорить на тему о том, как нужно будет правительству держать себя по отношению к Думе, и с обычным ему оптимизмом высказывал убеждение, что сговориться с нею все-таки можно будет без особого труда. А тем временем в собственной Его Величества канцелярии составлялся уже прощальный рескрипт гр. Витте[565].
Решающую роль в деле смены Витте сыграл тот небольшой центр, о котором я упоминал в предыдущем изложении, состоявший под главенством Горемыкина из В.Ф.Трепова и А.В.Кривошеина. Действуя через Д.Ф.Трепова, имевшего в то время по занимаемой им должности дворцового коменданта ежедневный доступ к государю, кружок этот не упускал случая почти с самого назначения Витте председателем Совета министров представить его деятельность государю в неблагоприятном свете. Некоторые данные доставлял этому кружку и Дурново через посредство находившегося с ним в близких сношениях В.Ф.Трепова.
Однако от этого сам Дурново ничего не выгадал. Неблагоприятный результат выборов в Государственную думу и проявляемая общественностью к Дурново непримиримая ненависть побудили этот кружок рекомендовать государю сместить одновременно с Витте и Дурново. Имелось в виду доказать таким образом общественности, что увольнение Витте вовсе не обозначает поворота политики в сторону реакции. Устранение от дел одним общим указом Витте и Дурново должно было, наоборот, как бы связать эти два лица воедино и таким образом окончательно развенчать Витте в глазах передовых элементов общества, лишив его того ореола либерализма, которым он так старательно стремился себя окружить.
Надо, однако, сказать, что полной солидарности в мнениях между самым кружком и избранным им орудием действий – Д.Ф.Треповым – не было. Кружок, в особенности в лице Горемыкина и В.Ф.Трепова, стоял на том, что с народным представительством особенно считаться нет надобности, и, во всяком случае, не следует возвеличивать его в представлении страны. Наоборот, Д.Ф.Трепов исходил из того положения, что с Государственной думой надо по возможности сговориться и, во всяком случае, избегать всего того, что может усилить ее оппозиционность и повысить общественное возбуждение. В особенности же необходимо устранить все элементы, раздражающие общественность. К ним Д.Ф.Трепов не без основания причислял Дурново. Свою роль усмирителя революции Дурново, по мнению Трепова, уже сыграл, и дальнейшее его пребывание у власти не вызывалось государственной необходимостью. При этом в Горемыкине он усматривал человека, отличительной чертой которого является спокойная рассудительность, с которым, ввиду создавшейся между ними связи, и ему лично легко будет сговариваться и вообще сохранить свое влияние у государя.
В результате получилось то компромиссное решение, к принятию которого удалось склонить Николая II. Указом 20 апреля (следовательно, за шесть дней до открытия Первой Государственной думы) Витте и Дурново были уволены от занимаемых ими должностей, а председателем Совета министров назначен Горемыкин.
Указ этот был совершенной неожиданностью не только для тех лиц, коих он непосредственно касался, но и для всех, как бюрократических, так и общественных, кругов.
Витте, увидя себя связанным с Дурново, пришел в положительное бешенство и в этом состоянии продолжал состоять в течение долгих лет, можно сказать, почти до своей кончины. Спокойно пережить вынужденную бездеятельность как раз в ту эпоху, которая, в его представлении, открывала наибольший простор для его творческих замыслов, он положительно не был в состоянии.
Неоднократно пытался он впоследствии вернуться тем или иным путем к власти, хотя и на сравнительно второстепенный пост, обращаясь даже по этому поводу к лицам, к которым он испытывал скорее враждебные, чем дружеские чувства, как, например, к Кривошеину, но все его старания были тщетны.
В глазах Николая II Витте окончательно и бесповоротно превратился в предателя, до такой степени, что когда в 1915 г. Витте скончался и весть об этом дошла до Ставки, где в то время пребывал государь, он выразился в том смысле, что наконец исчез опасный очаг смуты.
Этого же мнения придерживался и Столыпин. Так, когда, по просьбе Витте, Кривошеин стремился убедить Столыпина назначить Витте председателем особой железнодорожной комиссии, имеющей пересмотреть всю постановку у нас железнодорожного дела, а также наметить план полного оборудования страны путями сообщения, Столыпин ему шутя сказал: «Я должен передать, Александр Васильевич, ваше заявление прокурорскому надзору для возбуждения против вас обвинения в государственном предательстве».
Сколь ни велико было отчаяние Витте, вызванное его увольнением, все же оно не могло быть для него совершенно неожиданным. Независимо от поданного им самим прошения об увольнении многое другое должно было ему предвещать близкую опалу.
В ином положении был Дурново. У него не было никаких оснований думать, что близок час потери им власти. У государя он неоднократно встречал приветливый прием и выражение ему доверия; с обоими братьями Треповыми он был в лучших отношениях и, следовательно, с этой стороны не мог ожидать никакого, выражаясь вульгарно, подвоха. Конечно, он хорошо знал, как к нему относилась общественность, и, несомненно, ожидал неприятной встречи со стороны Государственной думы. Но со всем этим он мечтал успешно справиться. Усиленно готовился он к этой встрече и еще накануне говорил П.М.Кауфману: «Вот они (Государственная дума) увидят, какой я реакционер». План его состоял в развитии перед Государственной думой целой программы либеральных мероприятий, подкрепленной немедленно вслед за этим внесенными на обсуждение Государственной думы соответственными законопроектами. Внезапно все это рухнуло.
Прочитав 20 апреля в газетах указ об увольнении Дурново, я, разумеется, немедленно к нему приехал. Застал я его за письменным столом, разбирающим какие-то бумаги. Сохраняя по наружности спокойный облик, не обнаруживая никакого возмущения, он был в определенно подавленном, грустном настроении и отнюдь не старался этого скрыть. «Да, для меня это большой удар, – сказал он мне откровенно, – быть у власти и лишиться ее для людей, посвятивших всю свою жизнь государственной службе, очень тяжело. Вы, впрочем, сами это когда-нибудь испытаете, – добавил он, взглянув на меня несколько иронически. – Ну а теперь пока что принимайте от меня власть на законном основании».
Переговорив со мною о некоторых не терпящих отлагательства делах, касающихся департамента полиции, и сказав, между прочим, что, по его мнению, необходимо вернуть из Архангельска сосланного туда профессора Гредескула, выбранного членом Государственной думы от города Харькова, Дурново на прощание, внезапно оживившись, воскликнул:
«Нет, а Витте – вот злится-то, наверно, что мы с ним вместе уволены!»
Этими словами как бы закончил Дурново свое управление Министерством внутренних дел.
Глава 3. Первое министерство И.Л.Горемыкина и Государственная дума первого созыва (23 апреля —9 июня 1906 г.)
Кратковременное, продолжавшееся всего два с половиною месяца министерство Горемыкина, решившее роспуск Первой Государственной думы и одновременно с нею сошедшее со сцены, по своему личному составу отличалось прежде всего пестротою и раздвоенностью. Не заключая в себе, в сущности, за исключением Извольского, ни одного искреннего сторонника конституционного образа правления, оно имело, однако, в своей среде лиц, примирившихся с произведенной реформой, признавших ее не могущим быть измененным фактом и потому желавших, при возможно меньшем числе уступок народному представительству, в особенности в области присвоенной им власти, установить с ним сносный modus vivendi[566], так или иначе с ним сговориться. Но были и такие члены нового кабинета, которые не хотели отречься от основного положения – царь самодержавный – и потому стремившиеся, в сущности, не к совместной работе с Государственной думой, а к углублению того антагонизма, который ясно проявлялся с первого же дня заседаний Государственной думы между народными представителями и короной, с тем чтобы в результате покончить с конституционной идеей и вернуться к прежнему порядку неограниченного произвола.
Странное положение занял при этом председатель Совета министров Горемыкин. Враг всяких решительных мер, склонный предоставлять ход событий их естественному развитию, бессознательный поклонник формулы laissez faire, laissez aller,
Горемыкин отнюдь не стремился к фактическому упразднению Манифеста 17 октября и его естественных последствий. Напору общественности он хотел противопоставить не активную, действенную силу, а спокойное, но упрямое пассивное сопротивление. Что касается до способа правления государством и требуемых реформ, то первый он полагал сохранить в полной неприкосновенности, а вторые осуществить сколь можно в меньшем количестве и притом сколь можно менее вносящих в народную жизнь какие-либо существенные изменения. Государственную думу он хотел ограничить рамками, определенными законом: рассматривай новые законопроекты: «Не примешь – останемся при старых».
В лице своих сотрудников-министров он желал иметь лиц, себе послушных, более или менее знающих порученную им область управления, разумеется, не склонных к либерализму, а тем более к осуществлению радикальных реформ, и прежде всего боялся людей с инициативою и пылом, причем мало интересовался их отношением к состоявшемуся изменению образа государственного правления. Сам он с места решил как бы игнорировать существование Государственной думы и, во всяком случае, ни в какие сношения ни с ее председателями, ни с отдельными ее членами не входить. «Пусть выкричатся», – говорил он. Идея сговора правительства с Государственной думою ему была абсолютно чужда. Он с места решил, что такой сговор неосуществим и потому, полагая, что всякие попытки в этом отношении бесплодны, а пожалуй даже, и вредны, ибо будут знаменовать некоторую капитуляцию власти, а последнего он совершенно не допускал, будучи уверен, что малейшая капитуляция приведет в конечном результате к ее гибели. Интересуясь с давних пор вопросами иностранной политики (его мечтой, по-видимому, было занятие поста посланника в одном из главных европейских центров), он на них в особенности хотел сосредоточить свое внимание, не допуская в этой области никакого вторжения народного представительства. Политику гр. Ламздорфа Горемыкин почитал за в корне неверную, и поэтому первой заботой его было подыскание такого министра иностранных дел, который проводил бы те взгляды, которые он бы ему внушал.
Природный лентяй, он не хотел взять никакого портфеля, а ограничиться проведением своих мыслей. Доклады ненавидел. Зная или, вернее, предполагая, что государь в особенности дорожит именно гр. Ламздорфом, он решил, что может от него избавиться, лишь выставив перед государем необходимость предстать перед Государственной думой с абсолютно новым составом кабинета, за исключением тех министров, назначение которых должно происходить вне всякого влияния на их выбор председателя Совета министров, а именно военного, морского и императорского двора, и всецело исходить от само – го престола. Таким образом, должен был с самого начала утвердиться принцип зависимости всех министров, за исключением помянутых трех, от главы правительства. Велико было удивление Горемыкина, которое он мне сам высказал, изложив тут же причину, побудившую его набрать новый состав всего кабинета, когда государь на его предложение заменить Ламздорфа новым лицом не оказал ни малейшего сопротивления. Тут, однако, выразилась одна из типичных черт Николая II – полнейшее странное равнодушие к самым личностям своих главных сотрудников. Некоторых из них он со временем не возлюбил, так было с Витте, а затем со Столыпиным, причем произошло это главным образом вследствие того чувства их умственного и волевого превосходства над ним, которое он испытывал, но любить, испытывать чувство душевной привязанности к окружающим его лицам он не был способен и расставался с ними без всякого сожаления. Так это было не только с министрами, с преобладающим большинством которых он имел лишь строго официальные отношения и вне докладов совсем не видел, но и с лицами его ближайшего окружения, введенных по роду их служебных обязанностей в интимную жизнь царской семьи. С получением нового назначения, удаляющего их от непосредственной близости к царской семье, они сразу исключались из интимности и о самом их существовании как бы забывалось.
Ярким примером такого отношения может служить В.И.Мамантов, бывший в бытность управляющим канцелярией Министерства двора чрезвычайно близким к царю и даже царице и с назначением товарищем главноуправляющего Канцеляриею по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, оказавшийся сразу отрезанным от всей царской семьи, ни разу не удостоившимся приглашения к царскому столу и даже на царские охоты, постоянным участником которых он до тех пор был.
Равнодушие к людям, отсутствие отзывчивости к событиям даже исключительной важности, какая-то индифферентность к добру и злу и к их проявлениям были, несомненно, одним из отличительных свойств характера этого несчастного во всех отношениях монарха. Ничто его не возмущало, не вызывало порыва его гнева, ничто его не восхищало, не порождало в нем желания отметить обнаруженную доблесть или иное высокое человеческое свойство и соответственно возвеличить их носителя.
Именно эти свойства Николая II привели к тому, что он расстался с Ламздорфом, который, несомненно, был ему более симпатичен, чем большинство других министров (по всей вероятности, вследствие его ничтожества и безграничной угодливости, а также односложности его речей: Николай II терпеть не мог длинных докладов – они его утомляли: умственная непреодолимая лень была тоже его уделом), без малейшего колебания и сожаления, и это тем более, что, имея дело с самого воцарения с безвольным министром иностранных дел, он почитал себя в этой области огражденным от министерского натиска.
Но если Горемыкину удалось легко сменить старых министров, то это вовсе не обозначает, что выбор новых министров зависел всецело от него. Так, прежде всего выбор министра внутренних дел был сделан самим государем, причем царь счел нужным лишь считаться в этом вопросе с мнением председателя Совета.
Вернувшись с первого по назначении доклада у государя, Горемыкин вызвал меня к себе и, рассказав о предположении царя назначить Столыпина министром внутренних дел, спросил меня, что я могу про него сказать. Сам Горемыкин его вовсе не знал. С своей стороны, я сказал, что Столыпина я знаю весьма мало, имел с ним дело лишь однажды, когда он приезжал в Петербург с проектом переселения крестьян селений, входивших в состав Беловежской пущи, на другие земли в видах прекращения бесконечных претензий этих крестьян на будто бы производившиеся зубрами пущи в их полях опустошения. Произвел он на меня тогда впечатление человека неглупого, но вместе с тем и не выдающегося, не умеющего даже плавно излагать факты и соображения, что касается его личной репутации, то она безупречна.
Прошло, однако, лишь два дня, и Горемыкин меня вновь вызвал и сказал, что государь останавливается ныне на другом кандидате на пост министра внутренних дел, а именно на смоленском губернаторе Н.А.Звегинцове. «Мне, – сказал Горемыкин, – предстоит ныне сделать выбор между Столыпиным и Звегинцовым. Что вы скажете?» На это я ответил, что между этими двумя лицами выбирать не приходится. «Звегинцов по общим отзывам весьма не глупый и ловкий человек, но в денежном отношении пользуется весьма плохой репутацией. Будучи предводителем одного из уездов Воронежской губернии, он растратил суммы губернской дворянской опеки, а ныне по должности смоленского губернатора слывет за взяточника».
В результате тут же Горемыкиным была послана телеграмма, вызывавшая в Петербург Столыпина, которого я увидел тотчас по его приезде. Объяснив ему цель его вызова и что он должен на следующий же день представиться государю, я воспользовался этим случаем, чтобы постараться убедить его, что без упразднения общины Россия дольше мирно развиваться не может и что чрезвычайно важно ему тотчас заручиться согласием государя на эту меру. Но, увы, тут же я убедился, что Столыпин совершенно не в курсе этого вопроса и даже плохо понимает, что такое земельная община. Он мне стал говорить о каких-то стародушных и младодушных, и я сразу убедился, что у него пока что весьма узкий провинциальный кругозор.
Тем не менее, вернувшись на другой день от государя, Столыпин мне сказал, что он высказал государю мысль о необходимости перевода крестьянского землевладения на право личной собственности и возражений не встретил. Одновременно Столыпин сказал, что он сначала отказывался от предлагаемого ему поста, когда же государь сказал, что это его непременное желание, то он, высказав, что для него как верноподданного желание царя священно, поцеловал у него руку. В это время обаяние царя и царской власти вдали от столицы, в дворянских кругах было еще живо и крепко.
Что сказать про Столыпина, сыгравшего, несомненно, значительную роль за те несколько лет, что он был у власти?
Как это ни странно, но Столыпин, избранный из среды губернской администрации и имевший довольно продолжительный административный опыт, был гораздо ближе к политическому деятелю, нежели к администратору. У него прежде всего совершенно отсутствовало умение разбираться между людьми и, следовательно, подбора сотрудников.
Сотрудники, выбранные им из среды саратовских сослуживцев, отличались и умственною ограниченностью (например, взятый им в товарищи, впоследствии заменивший его на посту министра внутренних дел А.А.Макаров), и двуличным подхалимством (как назначенный им управляющим его канцелярией И.И.Кнолль), и просто бездарностью (как переведенный им из Саратова чиновник особых поручений Голованов и посаженный им в директора департамента полиции Белецкий – самарский вице-губернатор). Не более счастлив был он и в выборе лиц из среды петербургской бюрократии – как, например, А.И.Лыкошин – ничтожная козявка, лишенная самостоятельности мысли и воли, ровно как П.Г.Курлов – умный, ловкий, но совершенно беспринципный пройдоха, незаметно для самого Столыпина не только его обошедший, но сумевший его развенчать в представлении Николая II.
Однако и в качестве политического деятеля у Столыпина был серьезный пробел, а именно полнейшее отсутствие какой-либо собственной, строго продуманной, сколько-нибудь целостной программы.
Прибыв в Петербург, у него было только весьма туманное в смысле способа его осуществления стремление примирить общественность с государственной властью. Политику примирения он стремился проводить и в своих отношениях с земскими деятелями в Саратовской губернии и успел там завоевать их симпатии. С этой провинциальной меркой он и появился в Петербурге и, несомненно, мечтал в первое время идти тем же путем и в отношении Государственной думы, с которой с места стремился установить некоторые личные связи через посредство знакомых ему членов Думы от Саратовской губернии, в особенности Н.Н.Львова. У Столыпина был нюх – познаний не было.
С удивительной быстротой разобрался Столыпин в петербургской придворной и бюрократической сложной обстановке и сумел быстро завязать связи с теми кругами и лицами, которые были наиболее влиятельны, в чем ему помогло его обширное родство, причем делал он это не ради укрепления своего личного положения, а в целях успешного осуществления своих политических предположений.








