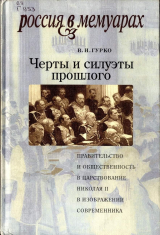
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 67 страниц)
Сам Горемыкин с внешней стороны не занимал господствующего положения и никакой властности не проявлял. Председательствовал он вяло, но одновременно с таким видом, что, дескать, болтайте, а я поступлю по-своему.
Первый вопрос, по которому Совет вынужден был прийти к определенному решению, касался выработанного Государственной думой адреса монарху. Надо ли на него реагировать, и если надо, то как. Говорили об ответном послании от имени верховной власти, что, основываясь на западной практике, отстаивал Извольский, однако скоро сообразили, что это приведет к непосредственному конфликту между монархом и народным представительством, вследствие чего Горемыкин склонен был не обращать вовсе внимания на думский адрес, продолжая, таким образом, принятую им политику ее полного игнорирования. Но против этого решительно восстали некоторые министры (Столыпин и тут не высказался), указывая между прочим на то, что правительство в таком случае в глазах общественности окажется положительно в нетях. Решили наконец, что правительство должно стать между троном и народным представительством и ответить от своего имени на требования, предъявленные Государственной думой. После весьма суммарного обсуждения думского адреса и выяснения, какие именно заключающиеся в нем предположения могут быть, хотя бы частично, осуществлены, поручили министру юстиции Щегловитову и мне – каждому отдельно – составить проект правительственного ответа на всеподданнейший адрес. Остановились, между прочим, на мне, вероятно, потому, что я с жаром настаивал на необходимости для правительства прервать игру в молчанку и определенно высказать свой взгляд.
На следующий же день Совет приступил к обсуждению составленных нами проектов. Первым прочел свой проект Щегловитов. Он был написан не столько в мягких, сколько в униженных тонах заискивания перед Государственной думой и отличался достаточной неопределенностью.
Не приступая к его обсуждению, предложили мне прочесть мой проект, отличавшийся едва ли не противоположными свойствами: он был написан языком власть имущих и заключал весьма определенное изложение взглядов правительства на затронутые в думском адресе вопросы. Тут выяснился Горемыкин, трудно на что-либо решающийся, но, раз решившись, идущий твердыми шагами к намеченной цели. Он определенно высказался за мой проект, который ввиду этого вслед за тем подвергся подробному обсуждению. В результате было предположено ввести в него некоторые, в общем незначительные, смягчающие его изменения, и затем мне было поручено, сделав соответствующие исправления, разослать на следующий день в гектографированном виде исправленную редакцию всем членам Совета, с тем чтобы они в тот же день мне их вернули со своими замечаниями, буде таковые у них встретятся. Мне же предоставлено было согласовать эти замечания и, установив таким образом окончательный текст, сдать его в печать, дабы одновременно с прочтением правительственного сообщения председателем Совета, что было назначено на другой день, текст этого сообщения мог быть разослан всем членам Думы.
Заседание Совета министров, затянувшееся, как всегда, за полночь, вынудило меня, вернувшись домой, тотчас приняться за порученную работу. Вызванный мною ранним утром ремингтонист с гектографом[575] перестукал и размножил исправленную редакцию правительственного ответа, а часам к пяти дня я уже получил разосланные экземпляры обратно. Не имея их ныне в своем распоряжении (я, разумеется, их сохранил), я, конечно, не могу сказать, к чему сводились полученные мною замечания; помню лишь, что замечания эти исходили преимущественно от В.Н.Коковцова и от А.С.Стишинского, которые с присущей им добросовестностью вчитались в проект и отметили свои возражения. К счастью, возражения эти друг другу не противоречили, а потому легко было их принять, и на другой же день Горемыкин имел возможность прочесть правительственный ответ с кафедры Государственной думы.
Голос Горемыкина был слабый, и хотя в зале господствовала полная тишина, его расслышать было трудно, а потому принятая предосторожность об одновременной раздаче членам Государственной думы печатных экземпляров речи Горемыкина оказалась весьма кстати. На одном лишь месте своей речи Горемыкин усилил свой голос, подняв даже при этом в виде угрозы свой указательный палец, а именно где говорилось о недопустимости принудительного отчуждения частновладельческих земель в целях дополнительного наделения крестьян землей.
Само собою разумеется, что лидеры Государственной думы, разозленные не столько тем, что правительство не разделяет их программы, что они, разумеется, предвидели заранее, сколько решительностью его тона и усмотрев в этом, не без основания, что оно собирается оказать действенное сопротивление их притязаниям, сочли нужным усилить тон своих речей на основании правила «ай да Моська, знать, она сильна, коль лает на слона»[576]. Тон правительственного сообщения был тем более непредвиден для лидеров Государственной думы, что до тех пор те весьма краткие выступления, которые были сделаны отдельными членами правительства, отличались необыкновенной приниженностью, причем в особенности счел нужным расстилаться перед Думой Щегловитов, тот самый Щегловитов, который в третьей Думе, а затем в качестве председателя Государственного совета, почуяв, что правительство одолело, принял совершенно иной, недопустимый по резкой наглости тон в своих обращениях к законодательным палатам и к составляющим их отдельным членам. Подобно всем лишенным внутреннего благородства трусам и перевертам, он был тем нахальнее, чем почитал себя неуязвимее, и тем приниженнее, чем менее был уверен в прочности своего положения.
Между тем мне казалось, что польза дела требует как раз обратного способа действия.
До какой степени в то неопределенное в смысле его исхода время Щегловитов был склонен на всевозможные уступки явно революционной общественности, свидетельствуют те законопроекты, которые он предполагал внести в Государственную думу. Один из них касался ответственности должностных лиц, а другой – совершенной отмены смертной казни, даже военными судами[577].
Первый из этих законопроектов был по существу, несомненно, правильный. Порядок, по коему должностные лица за преступления по должности не могли быть привлекаемы к ответственности без согласия на то определенных ведомственных коллегиальных учреждений, иначе говоря их начальства, не выдерживал критики, и Щегловитов был прав, когда во время обсуждения этого законопроекта, встретившего, разумеется, возражения со стороны некоторых членов Совета, наклонясь ко мне, сидевшему с ним рядом, шепнул: «Ну, если и эта реформа недопустима, то надо прямо установить порядки времен Чингисхана».
Столыпин, высказавшийся при голосовании за предположения Щегловитова, уклонился в этом случае от участия в прениях. В конечном результате был ли принят Советом законопроект Щегловитова, я не помню. Если мне память не изменяет, Щегловитову было предложено до его представления в законодательные учреждения внести в него некоторые изменения. Во всяком случае, порядок привлечения к ответственности должностных лиц за преступления по должности остался неизменным до самого конца старого строя.
Предположение Щегловитова об отмене смертной казни не встретило, насколько помнится, в среде Совета ни одного защитника[578]. Восстал против этого и Столыпин, ограничившийся, однако, простым, ничем не мотивированным заявлением, что он находит эту меру несвоевременной, и предоставивший подробно развивать причины такого его отношения переведенному им из Саратова на должность своего товарища прокурору Судебной палаты А.А.Макарову, которого я едва ли не впервые при этом и увидел.
Макаров был типичный судебный деятель из прокуратуры, у которого форма и буква брали неизменно верх над сущностью дела. Свое судебное дело он, однако, знал в совершенстве и, хотя его мотивы были преимущественно формального свойства, тем не менее он разбил предположения Щегловитова вдребезги. Возражали и некоторые другие члены Совета, выставляя преимущественно то веское соображение, что отмена смертной казни как раз в то время, когда революционеры возвели убийство должностных лиц и вообще правительственных агентов в широко применяемую систему, более чем странно. При голосовании сторонников предположения Щегловитова, насколько помнится, не оказалось.
Пытался и я убедить Совет министров в необходимости представления в Государственную думу отвергнутого по формальным причинам Государственным советом во времена министерства Витте проекта, направленного к освобождению крестьянства от обязательного пребывания при общинном порядке землевладения. Без всякого труда убедил я Столыпина внести в Совет министров отвергнутый Государственным советом законопроект по этому предмету, но против него решительно восстал Горемыкин, а Столыпин не произнес в его защиту ни единого слова, и предположение это господами министрами было преблагополучно провалено. Впрочем, Горемыкин был в данном случае, пожалуй, и прав, не по существу, разумеется, а в том отношении, что он шел вразрез с желанием кадетских лидеров, а посему надежд на его принятие Государственной думой не было никаких.
Если Совет министров топтался на месте и, в сущности, ни единого серьезного законодательного предположения не одобрил, Государственная дума, продолжавшая принятую ею политику, продолжала также вести деятельную атаку на правительство, причем сосредоточила свое внимание в первую очередь на аграрном вопросе. За подписью 33 членов Государственной думы были внесены главные основания предположенной ими земельной реформы. Правда, предположения эти отличались чрезвычайной краткостью и носили скорее декларативный характер. Расчет был простой – усилить народные волнения, в сущности ничем не рискуя, так как были уверены, что на это не согласится ни правительство, ни Государственный совет.
В самой Государственной думе нашлись, однако, отдельные лица, которые не хотели идти столь явно плутовским путем к власти. Против предположения 33 членов выступили с возражениями такие передовые общественные деятели, как Н.Н.Львов и кн. Волконский. Высказался, наконец, по этому поводу и Совет министров. На дневном заседании, на котором, не помню почему, я не присутствовал, решено было выступить с возражениями по существу. Остановились для выражения этих возражений с думской кафедры на А.С.Стишинском и на мне, причем, однако, в чем должны были состоять эти возражения, не решили. Стишинский прямо из заседания Совета приехал ко мне в министерство и передал мне решение министерской коллегии.
На мой вопрос, что же именно должно быть положено в основу возражений, а в особенности, какая же положительная программа правительства в области земельного вопроса, так как и по существу, и по техническим соображениям мне представляется невозможным ограничиться одним отрицанием и критикой предположений Государственной думы, мне Стишинский ответил, что об этом речи в Совете министров не было. «Извольте возражать завтра утром, а что вы скажете, дело ваше».
Такое положение, разумеется, развязывало мне руки. Тем не менее я не мог игнорировать, что лишь за несколько дней перед тем Совет министров, правда, почти без обсуждения, а на основании лишь краткого заявления председателя Совета Горемыкина, отклонил предположение министра внутренних дел о внесении законопроекта, предоставляющего каждому общиннику право свободного выхода из общины. После недолгого размышления и принимая во внимание, что упомянутый проект был внесен в Совет министров за подписью Столыпина и что, следовательно, его согласие на эту меру официально закреплено, я решил, что закончу свою речь в Государственной думе указанием на то, что единственным способом подъема крестьянского благосостояния является не упразднение частного землевладения, а, наоборот, вящее его закрепление посредством упразднения общинного землевладения.
Проработав почти всю ночь над составлением моей речи, я к 11 часам утра уже был в Таврическом дворце. Весть о выступлении членов правительства с возражениями по существу уже облетела членов Государственной думы, и собрались они почти в полном составе. В министерском кабинете (особый министерский павильон в то время не существовал – он был выстроен значительно позднее) я застал приехавшего еще ранее меня Столыпина, который немедленно, с заметным волнением, проступавшим через обычно присущее ему спокойствие и хладнокровие, обратился ко мне со словами: «Я вас прошу сегодня в Государственной думе не выступать». Слова эти меня так и огорошили. Досадно было, во-первых, на кой черт я целую ночь сидел за составлением речи, а во-вторых, я и по существу не без удовольствия предвкушал возможность публично помериться с теми дилетантами, которые выступали по этому вопросу в нижней палате. Действительно, земельный вопрос чрезвычайно сложен, и я заранее был уверен, что никаких дельных возражений на собранный мною фактический материал, доказывающий как дважды два четыре, что передача всех плодородных земель Европейской России крестьянству увеличить его благосостояние не может, так как увеличить площадь уже принадлежащих им земель сколько-нибудь значительно не в состоянии: для преобладающего большинства крестьянства увеличение это выразится в дробных частях одной десятины земли на душу населения.
– Почему? – естественно спросил я Столыпина.
– В качестве министра внутренних дел вопрос земельный и связанные с его окончательным разрешением те или иные предположения должны исходить от меня. Я не могу допустить, чтобы в этом коренном, важнейшем вопросе впервые выступил на кафедре Государственной думы кто-либо иной, а не я.
– Это замечание вы, Петр Аркадьевич, должны обратить не ко мне, а к Совету министров, который мне поручил выступить сегодня, а потому без отмены этого решения Советом министров или хотя бы его председателем я исполнить вашего желания не могу.
– Но, однако, вы же не можете выступить против моего желания.
– Я уже высказал вам мою точку зрения и изменить ее не могу. Вот телефон (во время этого разговора мы оба нервно ходили по комнате, проходя мимо телефона, которым был снабжен министерский кабинет). Позвоните И.Л.Горемыкину, и если он после разговора с вами скажет мне, что мне выступать не надо, то я, разумеется, не выступлю.
Этот способ разрешения вопроса Столыпин почему-то признал для себя неудобным[579], и мы продолжали еще в течение довольно продолжительного времени шагать по ком – нате, причем Столыпин продолжал мне развивать причины, по которым он признает мое выступление неудобным, а я упорно твердил одно и то же: «Вот телефон, звоните к Горемыкину».
Убедившись наконец, что меня ему не убедить, он наконец сказал: «Во всяком случае, прошу вас касаться лишь фактической стороны и ни в какие общие рассуждения не входить», на что я, разумеется, никакого внимания не обратил. Моя речь, продолжавшаяся более часа, уже была составлена, и изменить ее я не мог, да и не хотел, но другое желание, им высказанное, а именно чтобы я сказал, что я говорю не от имени Министерства внутренних дел, а от себя лично, я вынужден был принять к исполнению, что в конечном результате тоже имело некоторые последствия.
Часов около двенадцати наконец открылось заседание Государственной думы. Председательствовал товарищ председателя Государственной думы кн. Петр Дмитриевич Долгоруков в качестве специалиста по крестьянскому вопросу, хотя познания его были довольно элементарные, а смотрел он на весь этот вопрос исключительно с интеллигентской точки зрения и экономические последствия предполагаемого отчуждения частновладельческих земель совершенно игнорировал. В противоположность, однако, преобладающему большинству кадетской партии он искренно был убежден в государственной полезности этой меры и поддерживал ее вопреки своим личным интересам, которые она, несомненно, нарушала. Началось, однако, заседание с какого-то другого значащегося в повестке предмета, и собственно к земельному вопросу приступили лишь в 4 часа дня. Лицам, которым приходилось выступать (да еще впервые) перед многолюдным собранием, конечно, будет понятно, если я скажу, что продолжительное ожидание выступления было не только томительно, но и усиливало то волнение, которое я не мог не испытывать, выступая перед всероссийским народным представительством, сколь бы я к составляющим его отдельным личностям ни относился отрицательно. Мое положение было тем более трудное, что, в сущности, это было первое выступление правительства с кафедры Государственной думы, и, таким образом, оно как бы превращалось в экзамен правительства перед общественностью.
Первым выступил Стишинский, причем говорил он около часа. Речь его, как всегда плавная и спокойная, была по существу не чем иным, как юридическим докладом, изобиловавшим многими справками – как это не преминула отметить пресса – в доказательство того, что ни существующие узаконения, ни решения Правительствующего сената не дозволяют производства дополнительного наделения крестьян землей.
После этого наступил и мой черед. Согласно желанию Столыпина, я начал свою речь со слов: «Позвольте мне выйти из рамок того ведомства, в котором я имею честь состоять, и в мере моего разумения и сил рассмотреть обсуждаемый вопрос в качестве лица, специально его изучившего». Закончил же я свою речь словами: «Не упразднением частного землевладения, не нарушением прав собственности на землю, а предоставлением крестьянам состоящих в их пользовании земель в полную собственность заслужит Государственная дума – собрание государственно мыслящих людей – великое спасибо русского народа».
Сказана была моя речь громко, решительно и авторитетно – словом, говорил я языком власти, но Государственная дума слушала ее со вниманием, о чем можно было судить по господствующей в зале полной тишине, и я могу по совести сказать, что она произвела большое, скажу не обинуясь, огромное впечатление, причем столь же большую роль сыграла в этом отношении самая манера произнесения речи, как и заключающиеся в ней фактические по земельному вопросу данные. Лидеры Государственной думы, и прежде всего лидеры кадетской партии, сразу поняли, что свергнуть правительство будет не так легко, как они это предполагали, что оно еще сумеет постоять за себя. Мнится мне, что они постигли тут же всю тщетность их усилий сначала развенчать, а затем и свергнуть власть и захватить ее в свои руки. Отсюда у них возгорелась уже прямая ненависть к личному составу правительственной коллегии, и они решили усилить свою атаку на него.
Впрочем, первым последствием моей речи, или, вернее, ее вступительной части, было, что следом за мною выступил на кафедру один из так называемых трудовиков (этим термином окрестили себя социалисты, пришедшие в Государственную думу) и обратился к председателю с просьбой не давать голоса «посторонним лицам». Долгоруков, очевидно, не понял, чем вызвано это заявление, ибо с изумлением в голосе ответил, что он посторонним лицам голоса не предоставлял. Засим вышел мне возражать кто-то из кадетской партии, если память мне не изменяет, Герценштейн, и хотя возражения его и были в высшей степени слабы, но так как основаны они были на умышленном извращении сказанного мною, то я тотчас же записался отвечать.
Я забыл упомянуть, что едва я начал свою речь, как Столыпин, остававшийся до того времени в Думе, встал и вышел.
С величайшим трепетом я ожидал момента, когда мне придется возражать. В голове у меня внезапно образовалась полная пустота, и, несмотря на все усилия, я решительно не представлял себе, что я скажу, не был в силах составить малейший план ответного возражения. Всем существом своим я сознавал, что тотчас с треском провалюсь, а впечатление первой речи пропадет без следа. Иначе смотрели на мое вторичное выступление лидеры Государственной думы. Они ожидали, что она окончательно их провалит в глазах многочисленных крестьян, входивших в состав Государственной думы, так как вполне сознавали слабость высказанных их глашатаем возражений на сообщенные мною фактические данные. Поспешили они ввиду этого внести за соответствующим количеством подписей предложение о закрытии заседания, хотя час был сравнительно ранний и далеко не достиг обычного времени закрытия думских заседаний. Предложение это, к моему безграничному удовольствию, было принято. Судьба, усилиями моих противников, меня спасла от провала.
Ближайшие дни Государственная дума посвятила другим вопросам и лишь по прошествии трех дней на четвертый вернулась к вопросу земельному.
Если речь моя произвела впечатление на Государственную думу или, вернее, именно так как речь эта произвела впечатление на собрание народных представителей, Столыпин самым фактом ее произнесения был в высшей степени недоволен или, вернее, почел себя оскорбленным. Прямо из заседания Государственной думы поехал он к Горемыкину и заявил ему, что выходит в отставку, так как не может допустить, чтобы глашатаем по вопросам, касающимся его ведомства, являлся бы не он, министр, а его товарищ. Принял он это так болезненно остро, как мне на другой день объяснил Горемыкин, вследствие того, что Совет министров поручил мне выступить по земельному вопросу, невзирая на то, что он тогда же возражал против этого. Я, впрочем, должен сказать, что некоторое основание он имел, чтобы отнестись именно так к этому, по существу, ничтожному обстоятельству. Во-первых, потому, что наряду со мною выступал главноуправляющий землеустройством, т. е. глава ведомства, а не второстепенный его представитель, во-вторых, потому, что сам он ни разу не выступал с кафедры Государственной думы, и, наконец, ввиду того, что земельный вопрос был главным боевым вопросом данного времени.
Само собою разумеется, что Горемыкин отставки Столыпина не принял и кое-как его успокоил, а в разговоре со мною просил меня по возможности загладить происшедшее у меня со Столыпиным недоразумение.
Тем временем Государственная дума, по-видимому тоже осведомившись о происшедшем инциденте, постановила не давать голоса каким-либо представителям ведомств, иначе как если они заявят, что говорят по поручению своего министра, чем лидеры Думы, по-видимому, рассчитывали лишить меня возможности отвечать на возражения, которые будут высказаны на мою речь.
Узнал я об этом решении Государственной думы лишь в самой Государственной думе, где ко мне подошел чиновник Министерства внутренних дел, дежуривший в Думе во время ее заседаний, и, сообщив о решении Думы, передал мне, что Столыпин в Думе не появится, но уполномочивает меня говорить от имени министерства.
За прошедшие со времени моего выступления три дня лидеры Государственной думы успели ознакомиться с моею речью, к тому времени уже напечатанной, успели и составить ответные речи. Хотя нет такой вещи и таких утверждений, против которых нельзя было бы возражать, но тем не менее Петрункевич, один из лидеров кадетской партии, взявшийся мне возражать, не блеснул при этом ни остроумием, ни красноречием. С своей стороны, я, памятуя то смущение, которое меня охватило при мысли об экстренном выступлении, заранее заготовил мои возражения на еще не высказанные речи. Помог мне в этом, совершенно для меня неожиданно, один из бывших моих сослуживцев по земскому отделу, барон А.Ф. Мейендорф (впоследствии товарищ председателя Четвертой Государственной думы). Он мне прислал какой-то сборник, в котором была напечатана речь Герценштейна[580], сказанная им в Москве на состоявшемся в апреле месяце общеземском собрании, посвященном рассмотрению аграрного вопроса.
В этой речи Герценштейн доказывал совершенную нелепость принудительного отчуждения частновладельческих земель, утверждая между прочим, что участие в законодательных учреждениях представителей землевладения существенно важно, так как облегчает борьбу с представителями промышленности и вообще денежного капитала. Использовал я также сообщенное мне из Крестьянского банка усиленное ходатайство некоторых членов Государственной думы кадетской партии, отстаивавших мысль о принудительном отчуждении, о немедленном приобретении принадлежащих им земельных имуществ. Между прочими усиленно ходатайствовал об этом член Государственной думы, предводитель одного из уездов Самарской губернии, некто Протопопов, подпись которого значилась на обсуждавшемся предположении 33 членов Думы.
Я решил, что этих двух фактов для меня совершенно достаточно и что я могу свободно игнорировать всякие сделанные мне возражения, так как главного, а именно представленных мною фактов, они опровергнуть не могут.
В этом огромная разница между судебными речами и политическими. В судебной речи нельзя оставить ни одного утверждения противника неотвергнутым; наоборот, в политических речах можно и даже должно для успеха не обращать никакого внимания на заявления противной стороны. Происходит это оттого, что во всяком судебном деле вопрос идет в установлении того или иного совершившегося факта, вследствие чего можно опровергнуть все, за исключением одного доказательства этого факта, чтобы все-таки не опровергнуть самого факта, ибо одного неопровергнутого доказательства достаточно, чтобы его установить. Наоборот, в политических речах, где вопрос идет о чем-то предположительном, совершенно достаточно одного серьезного доказательства его вредоносности, чтобы утратило значение все, высказанное в его пользу.
Моя реплика была вследствие этого весьма краткой, что, однако, не мешало ее успеху. Раздалось даже несколько весьма жидких аплодисментов. Само собою разумеется, что преобладающее большинство членов Государственной думы отнеслось к Стишинскому и ко мне определенно враждебно. Стишинский при вступлении на кафедру был встречен криками «в отставку». Такой же прием был устроен и мне. Как сейчас, вижу я члена Думы Жилкина[581], сидевшего в верхних рядах, усиленно кричащего: «В отставку-ку-ку!», причем при восклицании «куку» он прятался под пюпитр, которыми были снабжены все места, предназначенные для членов Думы. Засим поднялся общий шум и крик, что вынудило меня, сложив руки на груди, сказать, что я подожду, но столь же мало склонен отказаться от слова, как не намерен и им пользоваться, пока не водворится тишина. Прием этот оказался действительным, и меня выслушали при полной тишине. Герценштейн, конечно, возражал, но все, что он мог сказать, это то, что он может ныне установить, что «нас читают», что уже составляет некоторую победу общественности. Относительно же того крутого изменения, которое произошло в его взглядах, то тогда он говорил теоретически, ныне же приступили к практической работе, перед которой теории должны по временам склоняться.
Прения по земельному вопросу, как я уже упомянул, послужили некоторою гранью в способах действий Государственной думы. Став с места в оппозицию к правительству. Дума с первого месяца своего существования все же соблюдала некоторое внешнее приличие и корректность в отношении к правительству. После декларации правительства она усилила свою атаку против власти, а после прений по аграрному вопросу окончательно перешла к революционному образу действий. Проистекало это, несомненно, оттого что Дума приходила к убеждению, что простой оппозицией правительству она не вырвет власти из рук короны, что правительство еще недостаточно испугано, что надо повторить те события, которые привели к Манифесту 17 октября, чтобы вырвать у монарха дальнейшие уступки. Члены кадетской партии желали попросту вытаскивать каштаны из огня чужими руками, а именно руками социалистов, совершенно не соображая, что революция, коль скоро она разыграется, в своем размахе не остановится, пока не дойдет до крайних пределов, и что в числе ее жертв в конечном результате будут, несомненно, они сами, т. е. вся буржуазная интеллигенция, что на практике столь неоспоримо доказала революция 1917 г.
На сцену выступают трудовики и такие даже не темные, а определенно беспринципные личности, как Аладьин, бывший перед тем гидом по различным вертепам разврата в Лондоне, а впоследствии во время мировой войны и революции 17-го года превратившийся в наймита английской тайной полиции[582]. Этот тип, открыто предававшийся бесшабашному кутежу по разным шато-кабакам, с кафедры Государственной думы произносил пламенные обличительные речи, причем не останавливался перед такими фразами: «Под царской мантией струится кровь», что не вызывало замечаний и со стороны председателя Государственной думы.
Как должно было реагировать на это правительство?
Думается мне, во всяком случае, не игрой в молчанку. Не принадлежа к составу правительства, я лишен был возможности что-либо лично предпринять и ограничивался поневоле лишь тем, что при произнесении подобных речей демонстративно, на виду у всей Думы, хохотал в лицо неистовствующего с думской кафедры оратора, благо министерские кресла находились рядом с этой кафедрой.
Сказал я однажды, перед открытием заседания Государственной думы, кому-то из министров, не помню, кому именно, сидевшему со мною рядом, настолько громко, что это услышали многие члены Думы, толпившиеся в проходе, отделявшем ложу министров от мест депутатов: «Послушаем, что будут нести сегодня эти хулиганы». В связи с моей речью по аграрному вопросу все это вызвало ко мне определенную злобу многих членов Государственной думы и, разумеется, прежде всего их лидеров. При этом мне было известно, что ни Горемыкин, ни Столыпин не одобряли такого образа действий. Они полагали, в особенности Столыпин, что по отношению к Думе правительство должно выказывать олимпийское спокойствие и отнюдь не проявлять какой-либо эмоциональности, т. е. ничем не выражать своего негодования. Примириться с таким образом действий я не мог и продолжал держаться по-своему, тем более что никто из состава правительства вопроса этого со мною не поднимал.
Вскоре за прениями по аграрному вопросу Государственная дума вынуждена была приступить к рассмотрению внесенного в нее правительством предложения об ассигновании не помню, сколько именно миллионов, на помощь голодающим[583]. Здесь Дума была поставлена в трагическое положение ей приходилось либо ассигновать в распоряжение правительства испрашиваемое ассигнование, т. е. выразить свое согласие с правительством, либо вызвать в населении неудовольствие ее решением – отказом в отпуске средств, необходимых для поддержки голодающих и обеспечения озимых посевов.
Столыпин воспользовался этим случаем, чтобы выступить перед Думою лично, хотя с постановкой продовольственного дела знаком почти вовсе не был, и я был лишен возможности вторично высказать Государственной думе, по английскому выражению, a piece of my mind[584].








