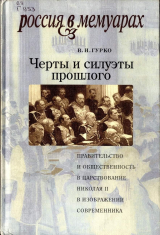
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 67 страниц)
Действительно, после кончины своей второй жены он сошелся с некоей г-жой Бутович. Добившись путем самого невероятного нарушения существовавших по этому предмету правил, ее развода с г. Бутовичем, Сухомлинов на ней женился. Но г-жа Бутович, превратившись в г-жу Сухомлинову, оказалась новым изданием второй жены Сухомлинова. Безумные траты на туалеты с частыми поездками за ними в Париж, а в особенности открытый для всех званых и незваных роскошный стол вызывали огромные расходы, которых не могли покрыть ни получавшееся Сухомлиновым удвоенное по Высочайшему повелению министерское содержание, ни весьма значительные прогонные деньги по специально предпринимаемым им служебным поездкам[684] в столь отдаленные края, как Туркестан и Владивосток. Пришлось прибегнуть еще и к взяткам, но и тут все же в форме как будто невинной, а именно биржевой игры, которую вел за него без всякого риска для Сухомлинова банк[685].
Да, для получения весьма крупных сумм Сухомлинову не было никакой надобности продавать родину и идти на сопряженный с этим безмерный риск. Предателем и изменником Сухомлинов не был. И тем не менее факт его окружения патентованными шпионами неопровержим. Объясняется это, надо полагать, невероятным природным легкомыслием Сухомлинова. В шпионство Альтшулера и Мясоедова Сухомлинов не верил и притом никаких секретных сведений им, конечно, не передавал, но по каким-то тайным причинам, приведшим, между прочим, к дружбе его третьей жены – ех Бутович[686] – с женой Мясоедова, не желал официально выяснить, что именно представляли эти люди. Что же касается Альтшулера, то нужные ему для оправдания своей деятельности перед австрийским Генеральным штабом сведения он, несомненно, мог получать от одной близости к военному министру. Этому в высшей степени содействовало одно из свойств Сухомлинова, а именно неумение хранить в тайне какой-либо секрет. Наоборот, у него была какая-то неудержимая потребность всякое секретное сведение кому-либо разболтать.
Словом, Сухомлинов был весьма плохой министр в военно-научном отношении, оставшийся на уровне тех военных знаний, которые он вынес в конце 80-х годов прошлого века из Академии Генерального штаба, ибо с годами он обленился и за движением военной науки совершенно не следил.
Более чем неразборчивый в добывании денежных средств, он был, кроме того, преступно легкомыслен и, наконец, даже давал возможность окружающей его темной компании извлекать из себя сведения, касающиеся обороны государства, но все же сознательным, активным, а тем более продажным изменником он не был.
Предание Сухомлинова суду было, во всяком случае, одним из выдающихся русских событий периода мировой войны. Насколько это было тактически правильным – вопрос спорный. В то время как оппозиционные элементы этого всячески добивались в интересах как отвлеченной справедливости, так и очернения существующего строя, правые эту меру определенно порицали. Они говорили, что во время войны скандальный процесс, раскрывающий все наши военные недочеты, не исправит этих недочетов, а лишь подрывает веру и войска, и всего населения страны в конечный успех войны.
Как бы то ни было, увольнение Сухомлинова было столь же приветствовано общественностью, как и назначение на его место А.А.Поливанова. Партия кадетов, которая оказывала наибольшее влияние на формирование общественного мнения, считала Поливанова более или менее своим человеком. С Гучковым Поливанов был в личных дружеских отношениях. Правда, правые не доверяли лояльности Поливанова и предпочли бы видеть на посту военного министра более близкое им лицо, но определенного кандидата они не имели и поэтому мирились с Поливановым.
Как военный министр Поливанов был неизмеримо выше Сухомлинова. Знающий, серьезный, работящий, хорошо знакомый со всем аппаратом военного ведомства, он относился к возложенным на него обязанностям с полной добросовестностью. Уменье ладить с законодательными палатами было несомненным его большим плюсом.
Увы, как человек Поливанов оказался впоследствии достойным полнейшего презрения, но выяснилось это только после революции, оказавшейся для многих весьма неблагоприятным оселком. В качестве председателя учрежденной при Временном правительстве комиссии по выработке «прав солдата» Поливанов не только не сумел дать работе комиссии такое направление, при котором была бы в должной мере сохранена воинская дисциплина, но присоединил и свой голос к проекту, при осуществлении которого армия неминуемо превращалась в разнузданную, бесчинствующую толпу. Последнее, как известно, и произошло после утверждения означенного проекта Керенским, заменившим ушедшего Гучкова.
Назначение Поливанова было явной уступкой общественному мнению; так оно и было понято парламентскими кругами, тем более что оно сопровождалось назначением на место уволенных Маклакова и Саблера двух лиц, избранных из среды общественности, а именно кн. Н.Б.Щербатова, поставленного во главе Министерства внутренних дел, и А.Д.Самарина. Оба эти лица пользовались прекрасной репутацией.
Самарин, московский губернский предводитель дворянства, принадлежал ко всеми уважаемой славянофильской семье. Весьма правые убеждения Самарина были разумеется, неприемлемы для оппозиции, но принадлежность его к общественным кругам, а в особенности тот ореол нравственной чистоты, который окружал его имя, не давали возможности критиковать его включение в ряды правительства.
Кн. Н.Б.Щербатов был известен как выдающийся сельский хозяин, сумевший в качестве председателя полтавского сельскохозяйственного общества придать деятельности этого общества исключительную плодотворность. Полтавский губернский предводитель дворянства, а затем член Государственного совета по избранию полтавского земства, Щербатов был назначен еще до войны главноуправляющим Государственным коннозаводством и на этом месте, по отзывам специалистов, сумел дать порученному ему делу новую и весьма разумную постановку.
Чрезвычайно приятный в общении и мягкий в обращении как с равными, так и с подчиненными, Щербатов принадлежал к числу тех довольно редких людей, «которые имеют множество друзей и ни одного врага».
Прямой, честный, принявший Министерство внутренних дел с величайшей неохотой, вполне постигавший, что русские культурные круги – дворянские и земские – отнюдь не революционны и что самая их оппозиционность – результат длительного недоразумения, он, казалось, был вполне на месте, занимая пост министра внутренних дел.
Увы, на практике ни Самарин, ни в особенности Щербатов не оказались на высоте положения данного момента. Русский бюрократический слой имел, разумеется, свои недостатки, но обладал все же знанием административной техники. Самарин и Щербатов были дилетанты, и этот их дилетантизм сказался очень скоро.
Щербатов решил «почистить» губернскую администрацию и ради этого сменил множество старых губернаторов, заменив их земцами. Но эти последние, превратавшиеся в бюрократов, тотчас впитали все недостатки бюрократии, не восприяв, однако, ее технических навыков. Не проявил Щербатов и той энергии, той силы воли, без которых власть перестает быть властью и становится игрушкой разнообразных общественных течений.
Отвечало общественному желанию и увольнение министра юстиции Щегловитова, прослывшего за исказителя судебных уставов императора Александра II. Заменивший его Александр Алексеевич Хвостов общественности был малоизвестен, но в судейских кругах пользовался всеобщим уважением.
Словом, личный состав Совета министров летних месяцев 1915 г. никаких нареканий вызывать не мог.
Увольнение Сухомлинова. Маклакова. Щегловитова и Саблера было последним актом царской воли, принятым не под влиянием Распутина и не только не по настоянию императрицы, но и, наоборот, против ее желания.
Выбор новых лиц взамен уволенных произошел по сговору Ставки с имевшим в то время наибольшее влияние у царской четы Кривошеиным. Выбор Поливанова принадлежал преимущественно Ставке, а выбор Самарина и Щербатова – Кривошеину. Хвостова провел Горемыкин, бывший с ним в давних дружеских отношениях.
Сам Кривошеин видел в произведенной частичной смене членов Совета министров предварительный шаг для смены самого председателя Совета министров – Горемыкина. В представлении Кривошеина новые члены Совета министров должны были скоро убедиться в невозможности сохранения во главе правительства престарелого кунктатора[687], с годами все менее считавшегося с новыми условиями политической жизни страны. Дело в том, что Кривошеин уже в начале 1915 г. пришел к убеждению, что при наличности во главе Совета Горемыкина правительство не в силах развить ту деятельность, которая по энергии и решительности соответствовала бы сложным и разнообразным требованиям, предъявляемым современными событиями к правительственному аппарату.
Стремясь одновременно, как всегда, к возможному смягчению антагонизма между «мы» и «они», между бюрократией и общественностью, Кривошеин мечтал образовать такой правительственный синклит, который заключал бы сколь можно больше лиц из общественной среды. Озабочивался он привлечением на сторону правительства и московской купеческой среды, причем намечал на должность министра торговли московского крупного фабриканта, пользовавшегося большим влиянием среди московского купечества Г.А.Крестовникова.
Естественным преемником Горемыкина он, разумеется, почитал самого себя. Это с давних пор имел в виду и государь, но в последнюю минуту Кривошеин, по-видимому, испугался огромной принимаемой им на себя ответственности и сам убедил государя образовать министерство военного времени, поставив во главу его военного министра, с тем чтобы фактически все гражданское управление состояло в ведении его, Кривошеина, с присвоением ему звания вице-председателя Совета. Это была крупная тактическая ошибка. Государь определенно не любил генерала Поливанова и к нему не питал доверия; весьма вероятно, что это было одной из причин охлаждения государя к Кривошеину и отказа от мысли заменить кем бы то ни было Горемыкина, в безусловную преданность которого государь не без основания твердо верил.
Однако причина эта была второстепенная. Последующие вменения в составе Совета министров произошли по иным причинам, и вдохновителем их был Распутин.
Ранее, нежели перейти к изложению начала той драмы, которая закончилась трагическим крушением старой русской государственности, необходимо, хотя бы вкратце, описать связанные с войной события, ознаменовавшие июль и август 1915 г. В течение этих месяцев наши дела на фронте, сильно пошатнувшиеся уже в мае, становились все хуже и хуже. Общественная тревога, возрастая по мере все большего отступления нашей армии в глубь страны, достигла апогея приблизительно к половине июля, когда мы оставили, сдав их без боя, Брест-Литовск и Гродно и когда в столице заговорили о возможности ее захвата неприятелем и даже были приняты меры для постепенной эвакуации имеющихся в ней художественных сокровищ.
Удивляться охватившей общественность тревоге не приходится. Эту тревогу испытывало, едва ли не в большей степени, правительство.
«Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить Совету министров, что отечество в опасности» – так начал свое сообщение о нашем положении на фронте генерал Поливанов в заседании Совета 16 июля 1915 г. Вслед за тем он нарисовал ужасающую картину положения русской армии: «В войсках все возрастает деморализация. Дезертирство и добровольная сдача в плен приняли грозные размеры. Немцы нас гонят одной артиллерией, пехота даже не наступает, ибо против огня неприятельской артиллерии мы, лишенные снарядов, устоять не можем. При этом немцы не страдают вовсе, а наши гибнут тысячами».
Сообщение это, кстати сказать, сильно преувеличенное, естественно, приводит Совет министров в ужас.
Волнение, испытываемое Советом министров, было тем большее, что к этому же времени обнаружилось и другое крайне тяжелое явление, а именно то расстройство, которое вносила не только в ближайший, но и в более отдаленный тыл отступающая армия. Расстройство это, неизбежное при всяких отступлениях, увеличивалось до крайности полным разладом между действиями гражданской власти и распоряжениями Ставки, пользовавшейся, на основании положения о полевом управлении войск, неограниченной властью в пределах местностей, причисленных к театру военных действий. Упомянутое положение было составлено в том предположении, что во главе войск находится сам император, что Николай II всегда имел в виду и от чего отказался по настоянию министров лишь на третий день начала войны. Тем временем к местностям, подчиненным Ставке, были отнесены не только весьма обширная тыловая полоса армии, но и самая столица империи. Центр управления оказался подчиненным часто сменяющимся второразрядным военноначальникам (лучшие получали назначения на фронте). Эти воеводы, ввиду присвоенных им чрезвычайных полномочий, с места вообразили себя владыками и разговаривали с правительством, как с заносчивым подчиненным, нередко проводя собственную политику в вопросах внутренней охраны, в отношении печати, рабочего вопроса и общественных организаций. Петербургский градоначальник оказался подчиненным начальнику Петербургского военного округа и министру внутренних дел докладывал лишь то, что сам признавал нужным.
Такое положение вещей не могло не отражаться на ходе дел, тем более что Ставка не только в полной мере с места использовала свои чрезвычайные полномочия, но присвоила себе диктаторские замашки.
Естественно, что вопрос о взаимоотношениях власти общеимперской и власти Ставки составлял предмет частых и длительных суждений Совета министров. Жаловались на башибузукский способ действий военных тыловых властей все министры.
Животрепещущую картину дал в этом отношении Совету министров в половине июля министр внутренних дел.
Начальник штаба Верховного – генерал Янушкевич, по словам Щербатова, равно как непосредственный начальник северо-западного тыла генерал Данилов, именуемый «рыжим» (в отличие от генерала Данилова «черного», занимавшего должность генерал-квартирмейстера штаба Ставки), присвоили себе диктаторскую власть, которою преисполнялись и все их подчиненные, до прапорщиков включительно. Гражданские власти вынуждаются исполнять самые нелепые распоряжения.
«Невозможно разобраться, – говорил кн. Щербатов, – чьи приказания и требования следует исполнять. Сыпятся они со всех сторон, причем нередко совершенно противоположные. На местах неразбериха и путаница невообразимые, при малейшем возражении гражданских властей – окрик и угрозы, чуть не до ареста включительно. При этих-то условиях происходит спешное отступление войск, сопровождаемое бегством местного населения, отчасти добровольным, но преимущественно принудительным по распоряжению тех же военных властей».
Сообщение Щербатова вызвало горькое замечание Кривошеина: «На фронте бьют нас немцы, а в тылу добивают прапорщики».
Еще более тяжелую, душу леденящую картину получили господа министры в последующих заседаниях Совета, причем дело касается преимущественно положения беженской толпы, достигающей десятков и сотен тысяч людей. Гонят эту толпу распространяемые слухи о необычайных зверствах и насилиях, чинимых немцами, но главную ее массу составляет население, выселяемое по приказу военных властей в целях обезлюдения местностей, отдаваемых неприятелю.
Толпа эта чрезвычайно озлобленная. Людей отрывают от родных гнезд, давая на сборы несколько часов. У них на глазах сжигают оставляемые ими запасы, а нередко и самые жилища. Психология подобных беженцев понятна. Степень озлобленности против властей безгранична, а страдания беспредельны.
Вся эта раздраженная, измученная, а в большинстве своем голодная толпа сплошным потоком катится по всем путям, мешая военным передвижениям и внося в тыловую жизнь полнейший беспорядок. Тащатся за нею повозки, нагруженные домашним скарбом; напоить, накормить, согреть все это множество невозможно. Люди сотнями мрут на дороге от голода, холода и болезней. По сторонам дороги валяются непогребенные трупы. А в то время как десятки тысяч тянутся вдоль железнодорожного полотна, мимо них проходят поезда, нагруженные разным хламом, вплоть до клеток с канарейками птицелюбивых интендантов.
Широкой волной разливается беженская толпа по всей России, усугубляя тягости военного времени, создавая продовольственные, квартирные и иные кризисы.
По словам Кривошеина, сказанным в заседании Совета 4 августа, «беженская масса, идя сплошной стеной, топчет хлеб, портит луга, истребляет лес. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные беженцы всюду вселяют панику. А за ними остается чуть ли не пустыня. Не только ближайший, но и глубокий тыл армии опустошен и разорен».
Особенно острый характер принял этот вопрос к половине августа, когда до сведения Совета дошло, что в Ставке разрабатывается проект расширения тыловой полосы до линии Тверь – Тула, а главнокомандующий Южным фронтом генерал Иванов собирается очистить прифронтовую полосу на сто верст в глубину страны от всякого обитающего его населения, да кстати эвакуировать и Киев.
В Совете указывается, что поголовное выселение населения с уничтожением имущества и всеобщим разорением недопустимо со всех точек зрения. К тому же выселение производится грубо. Раздраженные крестьяне вооружаются, чтобы охранять свое имущество. Разрушаются фабрики и заводы с запасами сырья и продуктов, к вывозу которых не принимается никаких мер.
«Нельзя давать центральные губернии на растерзание «рыжего» Данилова с его ордой тыловых героев!» – восклицает кн. Щербатов.
В начале августа, в связи с распоряжением Ставки, перед Советом министров возникает и другой чрезвычайно острый вопрос, а именно как быть с евреями, изгоняемыми нагайками военной власти из всего театра войны, простирающегося, однако, далеко в глубь страны. В евреях, быть может не без основания, Ставка усматривает крайне ненадежный элемент, занимающийся шпионством и даже сигнализирующий неприятелю. Отсюда прибегнуть, однако, к насильственному изгнанию целого племени, даже если в его среде и встречаются отдельные предатели, – решение неожиданное.
Проявляемое военными властями совершенно безобразное отношение к еврейству, недопустимое с точки зрения элементарной гуманности, порождает для нас множество затруднений. Иностранная печать, заграничные еврейские банковские круги возмущены, и в то время, как первые нас разносят на столбцах, вторые угрожают полным прекращением всякого кредита. Между тем без кредита мы воевать не в состоянии. Министр финансов сообщает, что к нему явились банкиры Каминка, Варшавский и Гинцбург[688] и предъявили чуть не ультимативное требование немедленного прекращения столь безобразного гонения их племени.
Положение евреев до крайности осложняется еще и тем, что глубокий тыл им тоже закрыт, так как он вне установленной для них черты оседлости; наплыв евреев ввиду этого в ближайшую к тылу местность столь значителен, что местные жители встречают их местами в колья.
При таком положении вещей Совет министров приходит к заключению о необходимости предоставления евреям права жительства во всех городах империи, за исключением казачьих областей, где ненависть к ним местного населения настолько острая, что может вызвать весьма тяжелые последствия. Исключаются также места резиденций государя императора, что оформливается выражением «местности, состоящие в ведении Министерства императорского двора».
После краткого обмена мнений о способе осуществления этой меры выясняется, что в порядке ст. 87 Основных законов осуществить ее при наличии Государственной думы нельзя, а провести соответствующий закон через Государственную думу – медлительно, а главное, вызовет чрезвычайно нежелательные в данный момент прения, да и не известно даже, примет ли столь радикальную меру Четвертая Государственная дума. Совет останавливается на ее осуществлении простым циркуляром министра внутренних дел, основанным на ст. 188 Учреждения министерств, предоставляющей министрам в экстренных случаях издавать распоряжения, нарушающие действующий закон. Это, разумеется, явная натяжка, но при сложившейся обстановке иного исхода нет, и, таким образом, вековой вопрос, вызывавший столько толков, споров и всевозможных нареканий, разрешается простым росчерком пера министра внутренних дел. К приведенному решению приходят все министры, хотя и не без многих оговорок. Остается при отдельном мнении, которого, впрочем, официально не заявляет, ограничившись лишь отказом от подписи соответствующего журнала Совета, министр путей сообщения, коренной горячий русак С.В.Рухлов. «Я не вношу разногласия, – говорит он, – но не могу и присоединиться к этому решению. Вся страна страдает, а льготы получают евреи».
С своей стороны министр торговли кн. Шаховской (единственный в ту пору ставленник Распутина в составе Совета министров) настаивает на разрешении евреям селиться повсеместно, т. е. не только в городах, но и в сельских местностях, но мнение это никем из министров не разделяется.
Между тем положение на фронте не улучшается, а пресловутый Янушкевич занят лишь одним – усиленным возложением ответственности за все происходящее на тыл и на гражданскую власть. Недостаток оружия и снарядов относится им исключительно к вине заготовительных ведомств, совершенно забывая, что о количестве запасов этих боевых средств Ставка знала заранее и тем не менее бросилась в карпатскую авантюру, совершенно не считаясь с необходимостью беречь снаряды и до времени их должного пополнения расходовать их на отражение неприятеля, а не на расширение линии фронта.
Можно даже предполагать, что не столько надежда, что общественность поможет пополнить недочеты военного снаряжения, сколько стремление обелить себя перед общественным мнением побудило Ставку усиленно ухаживать за общественными организациями в сознании, что общественное мнение создается именно этими учреждениями, а отнюдь не правительством и его агентами.
Но это еще было допустимо. Пошли, однако, значительно дальше. В конце июля месяца Ставка по телеграфу приказала военным цензорам, в руках которых была вся повременная печать, впредь не касаться вопросов, не относящихся до военной тайны. Расчет был столь же прост, как циничен. Военные действия тайна, а потому нас и наших распоряжений печать не должна касаться, ну а правительство можно критиковать сколько угодно. Таким образом, вина за все происходящее силою вещей ляжет целиком на одно правительство, что на деле и произошло.
На невозможность при таких условиях сладить с печатью неоднократно указывал в Совете министров кн. Щербатов, но помощи у него не находил, а сам действовать решительно не имел отваги. Между тем власть министра внутренних дел была все-таки весьма значительна. Ему достаточно было собрать редакторов газет и объяснить им, что если подвергнуть их органы предварительной цензуре он не может (хотя и это было возможно осуществить в условиях военного времени; установила же ее республиканская Франция, не говоря уже про другие монархические державы), то выслать их вправе, а потому в случае… и т. п.
Наконец, тот же Янушкевич изобретает уже совершенно чудовищное по мотивам и недействительное по существу средство для восстановления крепости русской армии. В письме на имя Кривошеина он пишет буквально следующее:
«Сказочные герои, идейные борцы и альтруисты встречаются единицами… таких не больше одного процента, а все остальные – люди 20-го числа[689]. Русского солдата, – продолжает этот своеобразный ценитель русской военной доблести, – надо имущественно заинтересовать в сопротивлении врагу… необходимо его поманить наделением землей под угрозой конфискации у сдающихся». Наделение предполагается Янушкевичем определить в размере от 6 до 9 десятин на воина.
Письмо это вызвало в Совете министров общее и крайнее возмущение. Огульное посрамление русского солдата, лишенного оружия и умирающего тысячами, того русского солдата, выше которого Наполеон не ставил ни одного солдата в мире, и мысль покупкой создать героев доводит министров до пределов отчаяния. К тому же самая мысль Янушкевича неосуществима: такого количества земли, какое нужно для наделения многомиллионной армии, в империи просто нет. Превращение русской армии в ландскнехтов – вот мысль, которая еще никому не приходила. Кн. Щербатов справедливо замечает, что «никто еще не покупал героев, что любовь к родине и самоотвержение – не рыночный товар». Кривошеин в величайшем волнении восклицает: «За что бедной России переживать такую трагедию. Я не могу больше молчать, к каким бы это ни привело для меня последствиям». В таком же духе высказывается большинство министров.
По поводу всего происходящего в стране Совет неоднократно обращается к монарху с ходатайством о созыве военного совета с участием всего состава для упорядочения отношений между военной и гражданской властью. «Надо постараться открыть царю правду настоящего и опасность будущего», – говорят министры. Одновременно Совет стремится сговориться с начальником Петербургского военного округа генералом Фроловым, которого приглашает с этой целью в свое заседание. Старания его в обоих направлениях безуспешны.
А тем временем военный министр подливает масло в огонь и усиленно разводит панику, доходя до утверждения, что «штаб утерял способность рассуждать и давать себе отчет в действиях. Вера в свои силы окончательно подорвана. Малейший слух о неприятеле, появление незначительного немецкого разъезда вызывает панику и бегство целых полков». Командир сданной им без боя крепости Ковно генерал Григорьев, по словам военного министра, удрал и исчез; его разыскивают для предания военному суду.
С своей стороны кн. Щербатов передает, что «в сумбуре отступающих обозов и воинских частей, вольных и невольных беженцев… происходит какая-то дикая вакханалия. Процветает пьянство, грабежи, разврат. Казаки и солдаты тянут за собой семьи беженцев, чтобы иметь в походе женщин».
Вновь и вновь Совет министров обращается с соответствующими представлениями к государю: власть царя в то время еще всесильна, но пользоваться ею в порядке действительном он все меньше решается. На мольбы министров о созыве военного совета он отвечает неизменно одно и то же: «погодите», «со временем». Сознавая свое слабоволие, государь, очевидно, опасался, что под напором всего правительственного синклита он вынужден будет принять какое-либо определенное решение, но именно этого он не желал[690].
В результате господа министры волнуются, спорят, рисуют безотрадную картину действительности, которую при этом незаметно для самих себя изображают в еще более черных красках, нежели она имеется в действительности, но этим в большинстве случаев и ограничиваются.
Словом, происходит нервное, возбужденное, но совершенно бесплодное топтание на месте. Самарин при этом горячо восклицает: «Неужели же ближайшие слуги царя, им же самим облеченные доверием, не могут добиться, чтобы их выслушали».
Как я уже упомянул, личный состав Совета министров представляет в ту пору в своем преобладающем большинстве людей не только глубоко порядочных, но горячих патриотов, всей душой болевших о России и надвигавшихся на нее тяжелых испытаниях.
Разумеется, не все министры были людьми исключительного ума и талантов. Так, Сазонов был человеком весьма упрощенного способа мышления, для него все вопросы были ясны, и всей сложности мировой обстановки и внутреннего положения России он определенно не постигал. К тому же России, как большинство наших дипломатов, он не знал и был, кроме того, заражен нетерпимым для русского министра иностранных дел англофильством.
Кн. Щербатов не обладал ни административным опытом, ни, тем более, той железной волей, без которой в то время Россией управлять нельзя было. Его мягкость неоднократно становилась ему в упрек Советом министров, но, конечно, безрезультатно: мягкого, в высшей степени деликатного человека, каким был Щербатов, в твердого борца никак не превратишь.
Наибольшей рассудительностью и хладнокровием отличался, несомненно, председатель Совета Горемыкин. Он не утрачивал ни при каких условиях ни спокойствия, ни уравновешенности, но необходимой действенности в нем не было, причем он совершенно не учитывал общественной психологии. Зато его природное отвращение к активной борьбе с каким-либо злом и необыкновенное уменье сводить всякий вопрос на нет в высшей степени содействовали безрезультатности длительных суждений Совета министров.
Еще более существенной отрицательной чертой Совета министров того времени была недостаточная сплоченность в политическом отношении составлявших его членов. С одной стороны, входили в него, составляя его левое крыло, такие люди, как П.А.Харитонов и С.Д.Сазонов, определенно гнувшие на всевозможные уступки общественности, а с другой, в его среде имелись такие крайние по своим убеждениям сторонники исключительного бюрократического правления, как С.В.Рухлов и Александр Алексеевич Хвостов. Оба они общественности совершенно не доверяли и во всех ее заявлениях и действиях усматривали лишь стремление свергнуть существующий государственный строй. К ним же в полной мере примыкал и председатель Совета. От некогда бывшего либерала в нем ничего не осталось, но зато усилилась глубокая преданность царю, которого он всячески стремился оберечь от всяких волнений и огорчений.
Вместе с этим лишен был Совет министров всякой возможности воздействовать на отдельных своих членов. Министры назначались и увольнялись государем лишь после формальной беседы с председателем Совета. Словом, объединенного правительства по-прежнему не было, не было единой, направляющей деятельность министров воли и мысли.
Однако главная причина бессилия Совета министров крылась в другом, и министры сознавали ее в полной мере, в том что Сазонов однажды определил словами: «Правительство висит на воздухе, не имея опоры ни снизу, ни сверху».
Действительно, в глазах общественности и даже широких слоев населения, в обыкновенное время вовсе не интересующихся политикой, правительство утратило всякое обаяние; не пользовалось правительство доверием его избравшего источника власти. Между тем без этого доверия правительство обойтись не могло, тем более что при создавшемся двоевластии многое оно могло осуществить только при согласии и деятельном содействии самого императора, но ни этого согласия, ни тем более содействия оно добиться не было в состоянии.








