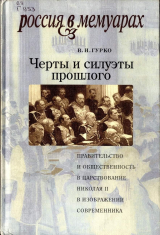
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 67 страниц)
Поддерживал ту же мысль и Кривошеин, причем было совершенно ясно, что он считал объявленную войну чуть что не благодеянием для России.
Многих увлекла, восхитила и преисполнила лучших надежд грандиозная народная манифестация перед Зимним дворцом, когда народная толпа, заполнившая всю обширную, прилегающую к дворцу площадь, приветствовала государя и при появлении его на балконе внезапно вся стала на колени и запела: «Боже царя храни».
Эта грандиозная манифестация побудила верховную власть издать акт, в котором провозглашалось единение царя с народом и утверждался даже образец флага, эмблематически соединявшего общественность и официальную Россию[669].
Увы, настроение это продолжалось недолго, и едва ли не единственный воспользовавшийся им был тот же кн. Львов, сумевший на почве этого настроения получить в свое бесконтрольное распоряжение миллионы государственных средств. Не обошлось, впрочем, и здесь без весьма мелкой, но весьма странной шиканы[670] со стороны правительства. Как почти всегда, упуская существенное и придираясь к мелочам, какому-то учреждению понадобилось разъяснить, что вновь утвержденный образец эмблематического флага не может быть употребляем как флаг и по своим размерам он не должен превышать нескольких квадратных вершков. Эмблему национального объединения обратили таким путем в детскую игрушку, и она вследствие этого тотчас утратила всякое значение и скоро была всеми забыта.
Правительство было, кроме того, убеждено в полной нашей боевой готовности. Так, в том же разговоре с парламентариями в Зимнем дворце Кривошеин, когда разговор зашел о сроке возобновления сессии законодательных учреждений, настаивал на отложении этой сессии до начала февраля следующего года, тогда как члены Государственной думы настаивали на сроке 1 ноября. При этом, потирая привычным нервным жестом свои руки, что было у него всегда знаком довольства, он говорил, обращаясь к членам законодательных палат: «Положитесь на нас, господа (т. е. на правительство), все пойдет прекрасно, мы со всем справимся».
Возвращаясь к участию общественных сил в общей народной работе на войну и победу, надо, разумеется, признать, что допустить их участие и даже привлечь их к нему было необходимо. Не столько это нужно было для пользы и существа дела, сколько психологически. Русские общественные силы к 1914 г. настолько выросли, что ставить их в положение простых зрителей происходивших событий, как это было, скажем, в войну 1877–1878 гг., было совершенно немыслимо. Их нужно было привлечь к жизненному участию в общей работе. Это и было сделано, но сделано чрезвычайно неохотно, причем, как всегда, придирались к пустякам, уступая во всем существенном и важном. Конечно, положение правительства было трудное. Общественное мнение, руководимое оппозиционными элементами, опирающимися в свою очередь на элементы революционные, ставило правительству всякое лыко в строку; наоборот, общественным учреждениям оно все прощало и раскрытие каких-либо дефектов воспринимало как козни и клевету правительства и на него же еще пуще по этому поводу негодовало. Полное неумение правительственного аппарата пользоваться гласностью и печатным словом тут, разумеется, играло существенную роль – обойтись в нашу эпоху без умелой и даже усиленной пропаганды ни одно правительство не в состоянии.
Само собою разумеется, что военные успехи изменили бы все положение, но, увы, этих успехов, после первой удачи – кратковременного захвата Восточной Пруссии и взятия Львова, не было. О степени впечатлительности массового рядового обывателя к действиям на фронте можно было судить, быть может, в особенности по провинциальной среде. Так, в Твери, где я прожил первое полугодие войны, известие о падении Львова, взятого нами, если память не изменяет, 30 августа[671], т. е. лишь шесть недель после начала военных действий, произвело громовое впечатление. Начавшие прибывать в тверские госпиталя раненые, преимущественно с австрийского фронта, были в весьма приподнятом настроении. В один голос они говорили, что «наших на фронте видимо-невидимо» и что наши успехи обеспечены. Настроение это передавалось местному населению, и толки о весьма близком окончании войны приняли массовый характер. Увы, продолжалось это настроение недолго. Гибель армии Самсонова под Сольдау[672] произвела тем более потрясающее впечатление, чем меньше она была ожиданна. Это был удар грома при ясном небе. Надо сказать, что и самое извещение об этом поражении было составлено чрезвычайно неудачно. Извещение это, оканчивавшееся выражением надежды, что все же это поражение не означает потери всей войны, наводило как раз на обратные мысли. Русскому человеку в ту пору и в голову не приходило, что война может окончиться нашим поражением, и самое упоминание об этом, хотя и в виде отрицания такой возможности, вселило глухую тревогу и колебало крепкую до того уверенность в нашем, при участии мощных союзников, скором торжестве. На почве этой тревоги, как это неизменно в таких случаях бывает, поползли темные слухи об измене. Где они нарождались, откуда они шли, не было возможности дознаться, и насколько в их распространении участвовали уже в то время революционные элементы и тайные немецкие агенты, трудно сказать. Во всяком случае, недостатка и в своих пессимистах, отнюдь не преследовавших при этом антинациональных целей, не было. Так, случалось, что те же лица, которые за несколько дней до известия о поражении под Сольдау распространялись на тему «гром победы раздавайся», с похоронными лицами провозглашали: «Все пропало».
Прекратившийся вскорости после этого маневренный период войны и принятие ею на долгое время характера войны позиционной, окопной, имели и другое последствие: обыватель как-то потерял интерес к сведениям с фронта. Война превратилась в его сознании в какую-то длительную, преисполненную всевозможных угроз, вечно ноющую и постороннюю его повседневной жизни болячку. Да и трудно было обывателю иметь другое отношение к этому национальному событию. Угар первых дней войны быстро прошел, цели ведь ему были непонятны, и правительство ничего не делало для того, чтобы разъяснить населению внутренний смысл войны и до какой степени с ее благополучным исходом связано все благосостояние страны и ее населения.
Потере интереса обывателя к войне существенно содействовала и чрезвычайная скудость, или, вернее, отсутствие известий с фронта. Официальные бюллетени заключали в большинстве случаев лишь самые общие указания, притом касающиеся всего фронта либо значительной его части. Полный запрет упоминать и в корреспонденциях с театра войны названия участвовавших в том или ином бою частей, равно как фамилий военноначальников, привел к тому, что корреспонденции эти утратили всякий интерес и вскоре совсем прекратились. Действительно, какой интерес могло представить описание военных действий, происшедших неизвестно где и с обозначенными X и У частями и военными начальниками. Запрет этот, по существу, вовсе не оправдывался: немцы, несомненно, всегда знали, какие русские части против них действовали, знали и каких военноначальников они имели против себя. Между тем умалчивание всяких имен привело и к другому, а именно что война не создала ни одного народного героя. Я припоминаю Русско-турецкую войну 1877–1878 гг., когда имена Скобелева и моего покойного отца гремели по всей России. Народ нуждается в идолах – это приподнимает его, создает в нем веру в свою мощь и в свой успех. Скажут, война не выдвинула у нас героев. Но ведь героев всегда создать можно. Не замалчивать имена военноначальников, а, наоборот, всячески их расшуметь – вот что нужно было для поднятия интереса к войне у населения и укрепления его веры в успех. Екатерина это так же хорошо понимала, как и Наполеон. Разве все екатерининские орлы и наполеоновские маршалы, облеченные громкими титулами, были в действительности исключительными людьми, но одно их прославление создавало атмосферу героизма и пафоса.
Возобновленная в начале ноября на несколько дней[673]сессия законодательных учреждений прошла вяло. Рассмотрение государственного бюджета утратило всякий смысл, так как в нем заключались лишь обязательные государственные расходы в размере предшествующего года, все же исполинские расходы, связанные сколько-нибудь с войной, проходили помимо бюджета и законодательных учреждений и ассигновывались в порядке управления. Мало-мальски важных законопроектов также не поступало, и все сводилось к посильному подъему общественного настроения. В Государственной думе это до известной степени удавалось, но в Государственном совете более чем когда-либо выявились его мертвенность и старческое бессилие.
С начала 1915 г. стали понемногу распространяться тревожные слухи о недостатке на фронте снарядов и даже ружей, но слухи эти представителями военного ведомства, а в особенности Главного артиллерийского управления, начисто отрицались, и в сферах Государственного совета склонны были их приписывать русской, легко впадающей в пессимизм впечатлительности.
Заговорили в это время и о хищениях, происходящих будто бы в заготовительных ведомствах. Действительно, то ведомство, которое с давних пор этим славилось, а именно морское, также охваченное в начальный период войны патриотическим порывом, по общим отзывам прекратившее всякие поборы при заключении крупных контрактов, недолго выдержало эту марку. Из уст в уста передавались случаи циничного взяточничества со стороны лиц, стоявших по своему положению очень близко к самым верхам Морского министерства. Все это, разумеется, волновало парламентские круги, а дойдя до массы населения, уже превращалось в сплошной кошмар. Вызывал общественное негодование и такой мелкий сам по себе факт, как появление на улицах Петербурга автомобилей с разъезжающими в них дамами, среди коих были заведомые кокотки, тогда как все частные автомобили были реквизированы для военных надобностей. «Так вот для чего понадобилось отнимать у частных лиц автомобили», – говорила публика, а тем более собственники, у которых отобрали автомобили. Последовало со стороны военного управления запрещение должностным лицам, коим были предоставлены автомобили для надобностей службы, катать в них дам, но распоряжение это, с одной стороны, лишь подтверждало факт незаконного ими пользования, а с другой – соблюдалось весьма относительно. Катающиеся кокотки исчезли, но жены должностных лиц, снабженных казенными автомобилями, все же продолжали ими пользоваться. Значения это, разумеется, не имело, но некоторый соблазн все же творило. В начавшие разгораться страсти это был приток поводов к растущему недоверию и озлоблению, истинная причина которых была, разумеется, иная, а именно – неудовлетворительные известия с фронта.
Наконец приблизительно к марту месяцу начал обнаруживаться в Петербурге недостаток угля для надобностей многочисленных работавших на оборону фабрик и заводов. В мирное время уголь в Петербург прибывал почти исключительно из Англии на пароходах, которые обратным фрахтом вывозили хлеб, прибывавший в Петербург по Мариинской водной системе. С закрытием Петербургского порта уголь пришлось провозить в Петербург из Донецкого бассейна, что составляло совершенно новую задачу для нашего железнодорожного транспорта, перенапряженного без того необходимыми перевозками на фронт и продовольствия, и боевого снаряжения. Между тем усиленный подвоз к Петербургу безусловно необходимого угля отражался на подвозе продовольствия, и цены на некоторые предметы питания начали понемногу подниматься.
Именно в это время группа членов Государственного совета задумала образовать экономическое совещание, посвященное рассмотрению текущих вопросов экономики. Заключения совещания вместе с подробной разработкой вопросов, к которым они относились, полагалось передавать на усмотрение правительства. Председателем совещания был избран бывший министр земледелия А.С.Ермолов, а в состав его вошли все члены Государственного совета, интересующиеся экономикой, и в том числе все члены, избранные торгово-промышленной средой.
Но тут произошло нечто совершенно невероятное. Не успело это совещание закончить рассмотрение первого поставленного на очередь вопроса, а именно о способах увеличения добычи угля и облегчения доставки его в Петербург, как было правительством закрыто. Между тем вопрос этот был рассмотрен весьма тщательно и подробно при ближайшем участии члена Государственного совета Н.Ф.Дитмара, бывшего одновременно председателем работавшего в Харькове Постоянного совета горнопромышленников Юга России и, следовательно, близко знакомого с положением Донецкого угольного бассейна.
Чем было вызвано это нелепейшее распоряжение, понять невозможно, но факт в том, что в самый день, назначенный для доклада выработанных предположений более широкому кругу членов Государственного совета, председатель комитета А.С.Ермолов был вызван к председателю Государственного совета, и там ему было объявлено, что вне сессий законодательных учреждений члены Государственного совета не имеют даже права входить в здание Мариинского дворца и что возглавляемый им комитет должен немедленно прекратить свои собрания и занятия.
Из всех запретительных мер, принимавшихся в то время правительством, это едва ли не самый яркий пример придирчивости к не только абсолютно безвредным, но даже к способным принести реальную пользу проявлениям общественной деятельности. Итак, с одной стороны, передавали сотни миллионов рублей в бесконтрольное расхищение лиц, к которым не без основания питали недоверие, а с другой, запрещали смиреннейшим членам Государственного совета собираться под эгидой долголетнего царского министра для обсуждения вопроса, никакого отношения к политике не имеющего.
Всякая революция идет сверху, и наше правительство в годы войны превратит в хулителей если не строя, то, по крайней мере, лиц, стоявших у власти, и их приемов управления самые благонамеренные элементы страны.
Распространяясь все расширяющимися концентрическими кругами, критика правительственной деятельности захватывала все более широкие слои, причем по пути, разумеется, обволакивалась рядом никогда не бывших фактов, подчас самого фантастического свойства.
Правительство при этом в смысле воздействия или хотя бы стремления к воздействию на общественное мнение было определенно в нетях. Председатель Совета министров Горемыкин ничем не проявлял самое свое существование у кормила власти. К природному его отвращению ко всякой действенности присоединилась к этому времени старческая немощность. Поселившись в огромном, приобретенном им для председателя Совета министров доме на Моховой[674], он в нем заперся и, кроме своих ближайших коллег по Совету министров, решительно никого не видел. По-прежнему, как во время Первой Государственной думы никакого общения с членами законодательных палат он не имел. Правда, отдельные члены Государственной думы у него бывали, но в весьма ограниченном числе, и среди них чаще всего его свойственник по жене П.Н.Крупенский. Этот юркий тип, столь прославившийся в дни Временного правительства вследствие обнаружения в делах департамента полиции, что он получил из этого департамента 20 тысяч рублей, – факт, который он не смог отрицать, почему и был вынужден сложить с себя звание депутата, – был вообще за все время существования Государственной думы, избранной по положению 3 июня 1907 г., каким-то не то посредником, не то на обе стороны передатчиком и соглядатаем между правительством и нижней законодательной палатой. Роль этого господина была вообще недвусмысленно двойственная. Мастер закулисных разговоров и шептаний, он умел каким-то образом то объединять, то разъединять различные группы Государственной думы, несомненно действуя при этом в постоянном контакте с правительством и соответственно полученным от него указаниям. Впрочем, правительству он служил тоже постольку поскольку. Специализировался же он на образовании политических клубов, по-видимому извлекая из этого и личные материальные выгоды, так как клубы эти организовывались на казенные средства. Впрочем, ему удалось получить большие суммы и из банковских и торгово-промышленных сфер при организации и устройстве им уже во время войны так называемого экономического клуба в обширном нанятом им помещении на Мойке у Царицына луга[675].
Сведениями, приносимыми этим типом, и довольствовался Горемыкин, относясь, по существу, отчасти презрительно и во всяком случае равнодушно к законодательным палатам и придавая вообще мало значения творящемуся в них.
Однако в течение зимы 1914–1915 гг., а именно в феврале 1915 г., Горемыкин почему-то решил устроить торжественный раут специально для членов Государственной думы и Государственного совета, что должно было, по-видимому, означать, что он не чуждается их, а, наоборот, желает установить добрые с ними отношения.
На деле раут этот обратился в нечто необычайно нелепое. На приглашение Горемыкина члены крайнего левого крыла Государственной думы, разумеется, не откликнулись, но почти все остальные члены обеих палат сочли долгом на нем появиться. Составилась огромная толпа, которая заполнила почти до отказа все комнаты занимаемого Горемыкиным дома, даром что они были лишены почти всякой меблировки, – вся обстановка дома была еще до войны заказана в Италии и, ввиду прекращения вследствие войны сообщения с этой страной, так оттуда никогда вывезена не была. Сам Горемыкин при этом как-то затерся в этой толпе, а затем вскоре спустился в нижний этаж, где находился его кабинет и куда проникло лишь несколько лиц, личных знакомых хозяев дома. Продолжался раут весьма непродолжительное время – съехавшиеся, потолкавшись немного, почти все одновременно, гуртом, уехали. Осталось лишь несколько министров и лиц, ближе знавших Горемыкина. Между тем ко времени разъезда гостей получено было известие о нашем отступлении в Августовских лесах и о больших понесенных нами при этом потерях[676].
Тут произошла сцена, глубоко врезавшаяся мне в память. На обширной верхней площадке парадной лестницы, потный, усталый, сидел весь сгорбленный Горемыкин. Перед ним стояли министры Кривошеин и Рухлов и еще несколько лиц; они оживленно обсуждали полученное известие, вызывавшее немалую тревогу. Горемыкин не принимал в этом разговоре никакого участия, относясь к его предмету, по-видимому, совершенно безучастно, но внезапно он как будто немного оживился и, подняв опущенную голову, несколько раз подряд произнес следующую фразу: «N'est-ce pas que c'est tres spacieux ici?»[677] Была ли это хитрость, которой он отнюдь не был чужд, употребленная им для отвлечения разговора от неприятной темы, или желание иным способом сказать столь привычную ему фразу «Все пустяки», сказать не могу, но на присутствующих это произвело впечатление проявления старческого слабоумия.
Одно было несомненно: спокойный, рассудительный, но способный в нужные минуты на всякие решительные шаги И.Л.Горемыкин 1906 г., т. е. времени Первой Государственной думы, перестал существовать; остался жить слабый старик, способный в лучшем случае на маленькие хитрости чисто детского свойства, но жадно цепляющийся за власть или, вернее, за те материальные блага, которые она доставляет.
Глава 2. Второй период войны (летние месяцы 1915 г.)
Наше отступление в феврале 1915 г. в Августовских лесах, сопровождавшееся захватом германцами пограничной полосы при станции Вержболово, было едва ли не первым событием на фронте, вызвавшим в общественных кругах серьезные опасения за благоприятный исход войны. Тогда же достигли Петербурга и первые определенно тревожные слухи о недостатке на фронте орудийных снарядов и ружейных патронов.
Предпринятое движение наших войск на Карпаты, имевшее поначалу характер победоносного шествия, наконец, падение в марте месяце австрийской крепости Перемышль успокоили, однако, общественность. Словом, до мая 1915 г., когда стало общеизвестным наше поспешное отступление из Галиции – после прорыва у Дунайца, – истинное положение фронта было мало кому ведомо, а посему мало кого озабочивало. Положение резко изменилось в течение мая. К тому времени выяснилось, что уже в декабре 1914 г. нашим войскам, находившимся на Бзуре[678] и защищавшим подступы к Варшаве, циркуляром штаба Верховного было предписано под страхом отрешения от командования выпускать в месяц не более 60 снарядов на орудие, т. е. фактически ограничиваться в среднем одним выстрелом на утренней и одним на вечерней заре. Начали выплывать и такие, например, факты, что на запрос, сделанный Путиловским заводом еще в самом начале войны, не потребуется ли от него усиленной работы по изготовлению орудий и снарядов, ибо в таком случае завод должен немедленно приступить к соответственному увеличению своего технического оборудования, Главное артиллерийское управление ответило, что никакого усиленного производства от завода не потребуется.
Еще более непонятным был отказ того же управления от заказа снарядов обществу «Пулемет», последовавший уже в ноябре месяце, когда недостаток в них уже остро ощущался и когда Ставка усиленно требовала от военного ведомства увеличения подачи на фронт огнестрельных припасов.
Естественно, что тревога, порожденная нашими неудачами на фронте и усиленная приведенными фактами, привела к резкому обострению общественного недовольства правительством. Произнесенное кем-то грозное слово «измена», как это всегда бывает в моменты общественной тревоги, электрической искрой пробежало по всем слоям населения и достигло, не без деятельного участия революционных сил, народных низов. Особенное распространение и веру получил этот грозный слух в рабочей среде. Здесь он сразу превратился в боевой лозунг и в законный повод для беспорядков и разнообразных требований.
Заволновались, разумеется, и политические круги. Исходной точкой их похода, если не против правительства как такового, то против наиболее ответственного по условиям времени члена его – военного министра В.А.Сухомлинова, надо признать сенсационный доклад, сделанный в Петербурге приехавшим с фронта лидером оппозиционно настроенной части московского купечества П.П.Рябушинским. В этом докладе Рябушинский сообщил, что на фронте ни орудий, ни снарядов, что целые части не имеют даже ружей и вооружены лишь палками. Сообщение это было сделано в чрезвычайно приподнятом, почти истерическом тоне и заканчивалось призывом к всеобщей работе по изготовлению оружия и боевых припасов.
Поскольку докладчик имел в виду своим сообщением усилить общественное негодование на правительство, но слова его дышали глубоким патриотическим чувством, и впечатление, им произведенное, было огромное. Сообщенные факты тотчас облетели весь город, а затем и всю страну.
Постоянный совет съездов промышленности, финансов и торговли[679] немедленно созвал съезд всех представителей этих отраслей общественной деятельности, а самый съезд постановил тотчас образовать центральный и множество местных военно-промышленных комитетов в целях мобилизации всей русской промышленности для работы на оборону страны.
Заволновались и лидеры Государственной думы, а ее председатель Родзянко, предварительно заручившись согласием Ставки, возбудил вопрос об образовании особой смешанной комиссии для обсуждения вопросов, связанных с потребностями армии, в состав которой, наряду с представителями власти, вошли бы некоторые члены обеих законодательных палат.
Правительство поняло невозможность в такую тревожную минуту идти против пожеланий общественности и пошло на уступки. Было разрешено образование военно-промышленных комитетов[680] даже со включением в их состав представителей заводских рабочих и невзирая на то, что во главе всей их деятельности был поставлен на съезде промышленности Гучков, личность, к тому времени признанная правительственными верхами нежелательной, была образована, под названием Особого совещания по обсуждению мероприятий по обороне[681], и комиссия, предложенная Родзянко.
Обе эти организации, а в особенности вторая, сыграли весьма большую роль в деле снабжения армии; их деятельности я намерен посвятить отдельную главу.
Достигла в это время общественность и другой весьма горячо и настойчиво преследуемой ею цели, а именно смены военного министра Сухомлинова и трех других министров, как то: прославившегося своей враждебностью ко всякой общественной деятельности министра внутренних дел Маклакова, получившего известность своим ухаживанием за Распутиным обер-прокурора Св. синода Саблера и усиленно будто нарушавшего судейскую независимость министра юстиции Щегловитова. Смена эта последовала преимущественно вследствие предстоявшего возобновления сессии Государственной думы, но настаивала на ней и, в сущности, решила вопрос группа более прогрессивных министров. Группа эта, с Харитоновым во главе, в мае 1915 г. заявила Горемыкину, что с означенными министрами долее служить не желает и просит либо заменить названных лиц другими, либо их самих уволить. Горемыкин доложил об этом государю.
Николай II был этим чрезвычайно недоволен. Общественная возбужденность, которая не могла не отразиться на ходе прений в Государственной думе, вынудила, однако, царя согласиться с протестовавшими министрами. Высшая власть предпочла, чтобы правительство предстало перед задающей тон нижней палатой в обновленном виде, надеясь тем самым смягчить остроту ее нападок.
По отношению к Сухомлинову дело, однако, не ограничилось его увольнением от должности, и по настоянию собравшейся 9 июля на сессию Государственной думы была назначена особая комиссия, со включением в нее представителей законодательных палат, для установления виновников недостаточного снабжения армии.
Дело Сухомлинова вызвало в свое время столько шума, а его предание суду настолько содействовало дискредитированию всего существующего государственного строя, что приходится поневоле остановиться на его личности.
В.А.Сухомлинов начал службу в гвардейской кавалерии. Пройдя Академию Генерального штаба, он сразу выделился как блестящий, образованный и вдумчивый кавалерист. Обладая бойким литературным пером и природным юмором, он обращал на себя внимание помещавшимися им в военной газете «Разведчик»[682] талантливыми фельетонами на военные темы, которые он подписывал псевдонимом Остап Бондаренко. Общительный, умевший не только ладить с людьми, но даже их обвораживать, Сухомлинов быстро прошел первые ступени службы офицера Генерального штаба, был назначен начальником кавалерийской школы, а затем, в сравнительно еще молодые годы, начальником кавалерийской дивизии, штаб которой находился в Харькове. В эту пору он был женат на высоко порядочной, прекрасной женщине, и вся его жизнь, как служебная, так и семейная, проходила в вполне нормальных условиях. Получавшегося им содержания вполне хватало для того образа жизни, который он в то время вел. К его несчастью, жена его вскоре скончалась, а он вслед за тем влюбился в другую женщину, вдову инженера, на которой и женился. Вторая жена Сухомлинова всем своим прошлым принадлежала к богеме. Близкая к театральному миру Харькова, Киева и Одессы, она привыкла проводить время за веселыми ужинами в ресторанах и домашними попойками. Словом, жизнь Сухомлинова со времени его второй женитьбы радикально изменилась. Дом его оказался открытым для самой разнообразной публики. Обеды сменялись ужинами, за которыми вино лилось рекой. Сопряженные с этим расходы далеко превосходили средства хозяев. Денежные затруднения становились все острее, и, надо полагать, уже с того времени он попал в руки людей, ссужавших его деньгами, но одновременно чем-то помимо долговых обязательств его связывавших. Внешним образом это, однако, ни в чем не отражалось на Сухомлинове, и он продолжал делать блестящую карьеру. Казалось бы, что после назначения командующим войсками Киевского военного округа и киевским генерал-губернатором Сухомлинов мог бы при помощи получаемого им по этим двум должностям солидного содержания освободиться от тех темных типов, которые его к тому времени окружали. Произошло, однако, обратное. По мере возвышения служебного положения расходы его не только не приблизились к получаемому им по службе содержанию, а, наоборот, все больше его превышали. В результате зависимость его от разных темных типов увеличивалась. Среди этих типов был в особенности один, с которым он не расставался и который после его назначения сначала начальником Генерального штаба, а вскоре затем военным министром переехал за ним в Петербург и роль которого впоследствии была вполне установлена. Это был австрийский еврей Альтшулер – шпион австрийского генерального штаба. Сухомлинова, в бытность его военным министром, неоднократно предупреждали относительно Альтшулера, точно так же как о подозрительных сношениях с германскими властями Мясоедова[683], ушедшего из состава жандармского корпуса бывшего начальника жандармского пункта станции Вержболово. Этот последний, имя которого прогремело еще до войны по всей России, из-за его дуэли с Гучковым, обвинявшим его с кафедры Государственной думы в весьма неблаговидных поступках, настолько сумел втереться в доверие Сухомлинова, что последний, невзирая на упорный отказ департамента полиции принять Мясоедова вновь в состав жандармского корпуса, добился этого через посредство самого государя. Одновременно Мясоедов был откомандирован в распоряжение военного министра, т. е. того же Сухомлинова. Последующая судьба Мясоедова общеизвестна. Заподозренный во время войны в шпионстве в пользу Германии, он, по решению военно – полевого суда, был приговорен к смертной казни, которая и была над ним совершена.
Этими двумя лицами не ограничивался круг людей, завладевших доверием Сухомлинова и вместе с тем в той или иной степени причастных к военному шпионажу. Был ли, однако, сам Сухомлинов, как это впоследствии утверждали, сознательным пособником этих темных личностей? Это более чем невероятно. Личный интерес Сухомлинова, достигшего поста министра, осыпанного царскими милостями, слишком этому противоречил. Обнаруженные у него после ареста довольно крупные денежные суммы (около 700 тысяч рублей) были все-таки слишком ничтожны для того, чтобы усматривать в них оплату его предательства. Это предательство, будь оно в действительности, дало бы ему неизмеримо более крупные, миллионные суммы. Наконец, происхождение обнаруженных у него сумм следствием было выяснено. Источником их была биржевая игра, которую за него вел один из петербургских банков, связанный с различными работавшими на войну предприятиями и желавший таким образом заручиться военными заказами. Само собою разумеется, что это была облеченная в более или менее невинную форму взятка, и в этом Сухомлинов, несомненно, повинен. Причина же была – все те же непомерные траты.








