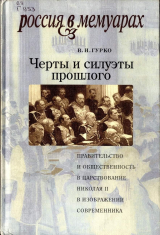
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 67 страниц)
Если бы система, предложенная Плеве, была применена при самом введении у нас земского и нового, утвержденного в 1870 г. городского самоуправления, она, вероятно, предотвратила бы тот антагонизм, который постепенно установился между многими представителями власти и органами местного самоуправления. Не создались бы, быть может, те два лагеря, которые Кривошеин метко охарактеризовал словами «мы» и «они». Но в начале XX в., после почти сорокалетнего самостоятельного существования земских и городских общественных самоуправлений, сплести их с органами правительственной власти в один общий, совместно и дружно работающий организм не было возможности. Против такого изменения характера деятельности органов местного самоуправления восстали бы самые консервативные, самые ретроградные земские люди.
Действительно, нельзя утверждать, что разделение на «мы» и «они» касалось лишь передовых земских элементов. В другой форме, не переходя в оппозицию, ограничиваясь каким-то своеобразно отрицательным отношением к бюрократии, оно проявлялось решительно во всей земской среде. Так, в правых земских кругах нередко можно было услышать про какого-нибудь земского гласного, состоящего на правительственной службе: «Он совсем наш, он земский человек». Словом, правительству подчинялись, но личный состав правительственного аппарата признавали за нечто чуждое, отличающееся прежде всего чиновничьим формализмом. Любопытно, что взгляд этот не был чужд и самой чиновничьей среде как в центральном государственном управлении, так и в провинциальных учреждениях. Тут, несомненно, сказывался природный русский анархизм – присущее русскому народу полупрезрительное, полувраждебное отношение ко всякой власти, быть может отдаленное последствие долголетнего татарского ига, при котором власть была фактически врагом всего народа. Большевики это настроение, несомненно, поддержали.
Некоторые шаги в порядке осуществления своей основной мысли – объединение учреждений общественных с правительственными – Плеве все-таки осуществил. Так, им было проведено новое положение о петербургском городском общественном управлении, на основании которого председательствование в присутствии по городским делам[205] было возложено вместо градоначальника на особое лицо, назначенное высочайшей властью. Этим хотели выразить какое-то особое уважение к столичной городской думе. Одновременно были несколько увеличены права этого присутствия в отношении городского благоустройства предоставлением ему возможности в известных случаях принимать необходимые меры обеспечения интересов обывателей в случае, если на самостоятельное исполнение этих мер городская дума не выразила согласия. С этой целью в распоряжение присутствия ежегодно ассигновались некоторые денежные средства, а именно 25 тысяч рублей. Надо отметить, что в общем либеральная пресса отнеслась к упомянутому положению сочувственно, однако исключительно благодаря тому, что круг избирателей городских гласных был расширен посредством включения в его состав квартиронанимателей, уплачивающих не менее 1080 рублей годовой квартирной платы. Другая мера, принятая в направлении того же объединения общественных сил с правительственными, вызвала в разных своих частях различное к себе отношение. Состояла она в том, что при хозяйственном департаменте, переименованном в Главное управление по делам местного хозяйства, был образован особый совет смешанного состава, куда наряду с представителями разных ведомств входили представители земских и городских учреждений[206]. Совет этот должен был ежегодно созываться на особые сессии и обсуждать вопросы, касающиеся местных нужд, в том числе требующие законодательного разрешения. Саму мысль совместного обсуждения упомянутых вопросов в общем приветствовали, но передовые земские и городские круги были весьма недовольны тем, что представители органов местного самоуправления вступали в названный совет не по избранию земских собраний и городских дум, а по приглашению, иначе говоря, по назначению Министерства внутренних дел. Существовали, конечно, технические причины, препятствующие предоставлению этого права самим земским собраниям и городским думам, а именно, что число приглашаемых из их состава лиц было силою вещей значительно меньше числа земских губерний и тем более городов и что, следовательно, избрать состав совета они поодиночке не могли, общей же для всех земств и городов организации не существовало. Само собой разумеется, что препятствие это легко было обойти, хотя бы установлением двухстепенных выборов в совет, но это совершенно не отвечало видам Плеве. Сплачивать органы общественного управления в единое целое значило бы придавать им вящую силу и значение. Наконец, нет сомнения, что приглашение земцев в те или иные центральные учреждения или временные комиссии являлось орудием в руках министра как в отношении поощрения земцев, более приверженных существующему государственному строю, так и в смысле опоры при разрешении общих вопросов на определенные, более правые, земские круги. Прием этот именовался в земских кругах «фальсификацией» общественного мнения, причем такую оценку давали ему все земцы без различия политических оттенков. Указывали при этом, что приглашение в качестве представителей земской мысли председателей и членов управ в сущности неправильно. Управы выбираются земскими собраниями лишь для ведения земского хозяйства и никакими полномочиями в отношении выражения ими общих взглядов по принципиальным, касающимся земской жизни вопросам не облечены. Эту мысль приходилось слышать от представителей наиболее правого земского течения. «Мы их выбирали, – говорили они про личный состав земских управ, чтобы они стирали белье в земских больницах, а не для того, чтобы они выражали наши мнения и пожелания». Мнение это разделялось дворянскими, даже крайне правыми кругами. Так, предводитель Белгородского уезда Курской губернии, гр. Доррер, впоследствии явившийся одним из лидеров крайнего правого крыла Третьей Государственной думы, возбудил тот же вопрос в 1902 г. в курском Дворянском собрании. Исходя из той статьи нового, утвержденного по поводу исполнившегося столетия учреждения Государственного совета положения о нем, которая разрешала председателю приглашать в подготовительные комиссии, учрежденные для рассмотрения особо важных и сложных законопроектов, лиц, которые по своим занятиям и опыту могут принести пользу при их разработке, и подчеркивая случайность, господствующую при выборе «сведущих лиц», гр. Доррер предложил ходатайствовать о предоставлении дворянским собраниям права избирать из своей среды нескольких лиц, достойных быть представителями в разнообразных совещаниях, созываемых правительством. Такой порядок, говорил гр. Доррер, представит «большие гарантии справедливости и успешного действия, чем применяемый ныне».
Словом, привлечение земцев к участию в работе центрального ведомства не привело к осуществлению желания Плеве объединить общественные элементы с правительственными и не привлекло к Плеве симпатий земских кругов и вообще на практике не получило реального значения, быть может, вследствие появления в скором времени выборных законодательных палат, явившихся естественным центром выражения общественных настроений и чаяний. Впрочем, учрежденный по мысли Плеве Совет местного хозяйства при жизни его не успел даже собраться[207].
Еще в меньшей степени удалось Плеве устранить другой существенный недостаток нашей административной системы, а именно крайнюю централизацию управления даже самыми отдаленными и имеющими свои резко выраженные особенности областями империи. Между тем Плеве вполне разделял мнение Lamennais, столь лапидарно выраженное в известной его формуле: «La centraliation amene a Fapoplexie du centre et a la paralytie des extremites»[208].
Перегруженность центральных ведомств разрешением вопросов даже третьестепенного значения, касающихся окраин, ощущалась петербургским бюрократическим миром в полной мере, причем она давала себя чувствовать с каждым годом все сильнее. Но в особенности страдали от этой централизации сами окраины, и притом как в разрешении текущих дел, касающихся интересов отдельных лиц, так и в области общих, относящихся до них вопросов. Издававшиеся для окраин отдельные законоположения неминуемо отличались недостаточным соответствием местным особенностям, так как составлялись они в петербургских канцеляриях в большинстве случаев людьми, знакомыми с ними лишь теоретически и поневоле смотревшими на них сквозь призму бумажного делопроизводства. Нельзя сказать, чтобы составители этих законоположений относились к ним легкомысленно, а тем более недобросовестно. Наоборот, они нередко вкладывали в порученное им дело всю свою душу, ибо, что бы ни говорили, работающий личный состав наших центральных учреждений был выдающийся. Работы при этом было неисчерпаемое множество, и силы наших министерств даже по их численности не соответствовали объему дела.
Можно для примера привести хотя бы вопрос инородческий. Ну, как было справиться с таким обширнейшим и разнообразным вопросом, относящимся к управлению и земельному устройству киргизов, башкир, бурят, калмыков и иных мелких народностей, когда все дела о них были сосредоточены в одном, состоявшем всего из трех лиц, делопроизводстве земского отдела Министерства внутренних дел!
Против перегрузки министерств и передачи разрешения большинства дел на места имелось, однако, веское основание, а именно невозможность положиться на местную администрацию. Дело в том, что те самые лица, которые не за страх, а за совесть скромно и усидчиво работали в Петербурге, переведенные в условия наших отдаленных окраин, часто и притом быстро развращались существовавшей там общей обстановкой и превращались во взбалмошных помпадуров. Если губернаторы наших центральных губерний иногда приобретали замашки сатрапов, то можно себе представить, во что превращались начальствующие лица в глухих инородческих и вообще невероятно отдаленных от правящего центра местностях. Причина была, разумеется, та же, а именно крайне низкий уровень развития масс и происходящее отсюда отсутствие сколько-нибудь организованного, а тем более влиятельного общественного мнения, могущего умерять произвол власти, подчиняя его известному контролю общества. Вследствие этого те лица, которые в Петербурге, занимая даже высшие должности, дер – жались совершенно скромно и ни в чем не проявляли ни высокомерия, ни самодурства, попавши в провинцию, нередко сразу распускали павлиний хвост и становились почти неприступными. Такое превращение было вполне понятно. Петербург представлял крупный культурный центр, где общественное мнение, даже без надлежащей организованности и при стесненной гласности все же играло значительную роль и имело неоспоримое значение и даже силу. С другой стороны, Петербург был средоточием такого множества различных властей высших рангов, что каждый единичный представитель власти тонул в их массе. Поэтому даже высшие петербургские чиновники, выйдя из своего служебного кабинета, сразу превращались в обыкновенных обывателей. Совокупность всего этого приводила к тому, что петербургскому бюрократическому миру было присуще скорее изыскан но вежливое, нежели высокомерное обращение со всеми имеющими к нему дело. Простота обращения начальства с подчиненными всех рангов, которая достигала в последнее дореволюционное время едва ли не чрезмерности, была у нас значительно большая, нежели в некоторых республиканских странах, где, как, например, во Франции, иерархические градации служащих значительно сильнее отражаются на их взаимоотношениях. Представители центральной власти у нас были как бы пресыщены ею, утратив, казалось, сознание ее государственного значения, а мягкотелое Временное правительство превратило власть просто в пародию. Воскресили же в России пафос власти и необходимо ей, в известных случаях, присущую суровость и властность большевики. Дорвавшись до власти из низов, они ею упиваются и пародируют.
Иное представляла у нас провинция и даже такие крупные центры, как Харьков, Киев и Одесса. Там административная власть была альфой и омегой, причем местного общественного мнения там не существовало, как не было и надлежащей гласности. Такое положение развращало власть и, между прочим, создало всем известный на Руси почти трафаретный тип «губернаторши». Получалась при этом возможность таких случаев, как, например, ожидание приезда «начальника губернии» для начала театрального представления или даже прекращение движения по улице в ожидании проезда того же лица. При этом чем отдаленнее была провинция от столичных центров, чем она резче отличалась во всех своих бытовых особенностях от коренного ядра государства и чем, следовательно, необходимее было перенести в нее разрешение местных вопросов, тем опаснее было, вследствие ничтожной культуры этих местностей, положиться на администрацию в смысле соблюдения ею норм закона и воздержания от произвола.
До какой степени провинциальная атмосфера действовала в этом направлении, можно судить по тому, что земские деятели при переходе на административные провинциальные посты, что случалось нередко, также очень быстро принимали те помпадурские замашки, которые они, занимая выборные должности, резко осуждали и клеймили. Достаточно припомнить, что в повседневной провинциальной прессе легче было безнаказанно раскритиковать деятельность правительства вообще, нежели неодобрительно отозваться о каком-либо распоряжении местной губернской, да и уездной власти.
Однако и это ненормальное положение имело свои основания. Оправдывалось оно до известной степени как малой образованностью местных журнальных работников, так и малой культурностью местного населения. Критика действий центральных управлений и их глав фактически не подрывала их значения. Иное действие могла производить и фактически производила критика местной власти на серого обывателя некультурной окраины. Она лишала эту власть в его глазах должного престижа. Между тем порядок во многих местностях России, на ее громадных пространствах с населением тем более редким, чем местности эти восточнее, держался исключительно на обаянии власти, лишенной, в сущности, материальных средств остановить не только какое-нибудь народное движение, но даже обеспечить в ней жизнь и имущество обывателей от разбойных нападений. Допустить критику местной власти значило до известной степени расшатать ту основу, на которой во многих местностях России покоился общественный порядок. Совокупность изложенного приводила к дилемме: либо обрезать полномочия местной власти и тем вызвать как медленность, так и недостаточную жизненность решений местных вопросов, либо облечь местную власть широкими правами и тем усилить ее произвол без достаточных гарантий, что руководящим началом будут правильно понятые государственные интересы, а когда дело будет касаться отдельных личных интересов, то принцип справедливости.
Между этими Сциллой и Харибдой стояла государственная власть империи, причем с годами, по мере усложнения условий жизни и усиления экономической деятельности населения, без, однако, соответствующего повышения его культурности, найти удовлетворительное разрешение этой дилеммы становилось все труднее. Впрочем, в централизации управления нашими среднеазиатскими и дальневосточными владениями, а в особенности в стремлении распространить на них как законы, так и административные порядки, действовавшие в коренных областях империи, действовала другая, можно сказать, психологическая причина.
Области эти были, в сущности, не чем иным, как колониями, но то обстоятельство, что они непосредственно прилегали к территории самой империи, составляя с ней одно непрерывное целое, существенно мешало как государственной власти, так и общественной мысли смотреть на них именно как на колонии. С последним термином неразрывно связано представление о таких владениях, которые отделены от метрополии чужеземными владениями, в особенности же водными пространствами; наши дальние владения, обитателями коих были, однако, чужеземные племена, этой особенностью не обладали. Отсюда и получился взгляд на эти владения как на нечто вполне однородное с созидательным центром государства, система управления коими ни в чем не должна отличаться от системы, установленной в этом центре. Между тем мы давно должны были выделить их в особое министерство, скажем, колоний, которое и применяло бы к ним иные порядки, именно для колоний приспособленные. Не получилась бы при этом и такая, например, нелепость, как присвоение полудиким племенам киргиз, бурят и башкир почти таких же избирательных прав в законодательные учреждения, как населению коренных русских областей.
Невзирая на все перечисленные причины, мешавшие децентрализации управления, децентрализации, которая должна бы была быть значительнее в некоторых отношениях для коренных областей государства, а в других, наоборот, для присоединенных к империи по существу колониальных владений, все же попытка в этом направлении была сделана Плеве.
По его мысли, государь собрал в конце 1903 г. под своим личным председательством особое совещание министров, имевших отношение к вопросам, возбуждаемым местной жизнью, причем им было предварительно предложено представить этому совещанию список тех дел, окончательное разрешение которых может быть передано местным властям. Всем департаментам Министерства внутренних дел было отдано распоряжение о представлении подобного списка, причем Плеве было предложено включить в него возможно большее количество дел указанной категории. В результате список этот, по крайней мере по Министерству внутренних дел, получился изрядным. Насколько помнится, список этот был целиком утвержден государем, причем те предположения и изменения порядка рассмотрения местных дел, которые не требовали законодательного рассмотрения, были осуществлены Высочайшим повелением от 10 декабря 1903 г., а остальные переданы в межведомственную комиссию, образованную под председательством члена Государственного совета Платонова, носившую пышное название «комиссии о децентрализации»[209]. Порядок этот освободил ведомства от необходимости предварительных, до представления на рассмотрение Государственного совета законодательных их предположений, письменных сношений с другими, так называемыми заинтересованными ведомствами, что, кстати сказать, до чрезвычайности тормозило развитие нашего законодательства. Заключения комиссии Платонова получили силу закона Высочайше утвержденным 19 апреля мнением Государственного совета.
Нельзя, однако, утверждать, что произведенная по инициативе Плеве децентрализация имела сколько-нибудь существенное значение. Фактически центральные ведомства были освобождены от решения тех вопросов, которых они и ранее не разрешали по существу, ограничиваясь почти автоматическим утверждением предположений местных властей. Словом, в результате было достигнуто некоторое уменьшение бесплодной канцелярской переписки и, быть может, ускорение окончательного разрешения некоторых дел, но степень действительной зависимости провинции от центра осталась прежней. Для достижения последнего необходим был смелый, истинно реформаторский размах, но им ни бюрократический Петербург, ни Плеве, в частности, не обладали.
Была задумана Плеве и другая реформа, тоже бюрократического свойства, но могущая иметь довольно существенное значение, а именно преобразование большинства департаментов самого Министерства внутренних дел, при одновременном их объединении, в несколько главных управлений[210]. Мера эта имела в виду освободить начальника ведомства от рассмотрения и разрешения преобладающего большинства не только текущих дел, но даже очередных, преимущественно технического свойства, законодательных предположений. В соответствии с этим Плеве предполагал предоставить начальникам главных управлений право не только самостоятельного сношения с начальниками других ведомств, но и внесения законопроектов в Государственный совет и защиты их там от своего имени. Исходил при этом Плеве из того неоспоримого положения, что фактически все равно все подобные дела решались директорами департаментов, а красовавшаяся под соответствующими сношениями и представлениями подпись министра ставилась им без чтения их. Правда, что некоторые, формально наиболее добросовестные министры считали своим долгом все же читать все представляемые им к подписи бумаги, но от этого существо дела не менялось. Так, Плеве рассказывал, что ему случалось заставать И.Н.Дурново в бытность последнего министром внутренних дел, с глазами, выступившими на лоб от чтения до одури объемистых представлений в Государственный совет, причем он, однако, не только не делал в них ни малейших изменений, но делать их и не мог, так как представления эти доставлялись к подписи министра уже в печатном виде. Равным образом и защиту законопроектов перед Государственным советом было, безусловно, целесообразнее возложить на тех же, переименованных в начальников главных управлений директоров департаментов, нежели на самого министра, лишь редко являвшегося в Государственный совет и возлагавшего эту обязанность на одного из своих товарищей, хотя бы он не принимал никакого участия в их составлении.
Освободить министра внутренних дел от всех сколько-нибудь второстепенных дел было, во всяком случае, безусловно, необходимо, так как только при этом условии был бы он в состоянии спокойно и сосредоточенно вдумываться в основные вопросы государственной жизни, иначе говоря, быть не одной из бесчисленных частей правительственного механизма, хотя бы и особой важности, а государственным деятелем в широком смысле этого слова. Эту необходимость сознавали решительно все наши сколько-нибудь выдающиеся министры и выходили из этого положения путем передачи большинства дел в ведение своих товарищей[211]. Плеве, по особым создавшимся условиям, этого сделать не желал. Своих товарищей он наследовал от своего предшественника – Сипягина, причем это были лица, с которыми его лично связывала прежняя совместная служба. Природная его деликатность не в мелочах, а в существенных для людей вопросах, его несомненная доброта мешали ему с ними расстаться. Наоборот, большинство директоров департаментов было им выбрано лично, и он на них полагался в значительно большей степени. Центр тяжести в разрешении всех существенных вопросов, таким образом, естественно перешел к управляющим департаментами. Их он и намеревался превратить из фактических в юридических вершителей этих вопросов. Впрочем, впоследствии преобразованием министра внутренних дел в верховного руководителя ряда главных управлений Плеве имел в виду достигнуть и иной, более важной цели, о которой подробнее будет сказано впоследствии, а именно – постепенного превращения министра внутренних дел если не формально, то, по крайней мере, фактически в руководителя всей правительственной политики. Несомненно, однако, что эта отдаленная цель зародилась у Плеве лишь позднее и что первоначально он стремился лишь к улучшению общей постановки дела в министерстве, в особенности же к предоставлению себе большего досуга для обдумывания вопросов общего значения. Говоря об этом, он между прочим однажды сказал, что во время его поездки с всеподданнейшим докладом в Ливадию, где пребывала в то время царская семья, государь ему сказал, что он особенно дорожит временем пребывания вдали от столицы, так как, не имея здесь ежедневных докладов и приема множества представляющихся лиц, он может отрешиться от мыслей и забот о делах текущих и глубже вникать в вопросы общегосударственного значения.
Глава 2. Крестьянский вопрос[212]
Третья задача, которую наметил Плеве при вступлении в управление Министерством внутренних дел, – реформа крестьянского законодательства – осталась тоже невыполненной, но производившиеся при нем работы по этому вопросу не были бесплодны. Именно они дали толчок разрешению вопроса о крестьянской земельной общине и легли в основу разрубившего этот вопрос Высочайшего указа 9 ноября 1906 г.
Вопрос о пересмотре узаконений о крестьянах возник в Министерстве внутренних дел еще в царствование Александра III, но дальше некоторого предварительного опроса местных учреждений, произведенного еще в 1895 г. через особые губернские совещания, и печатной сводки последовавших отзывов не продвигался. Двинуть этот вопрос, хотя бы формально, но все же более решительно, выпало на долю Д.С.Сипягина. По его предложению 1 января 1902 г. последовал высочайший указ, коим на министра внутренних дел был возложен пересмотр узаконений о крестьянах «для их согласования с действительными потребностями жизни и пользами государства». Этой ничего не говорящей фразой, напоминающей известные резолюции китайских властей, предписывающие «соответственной власти принять надлежащие меры», ограничивались все указания на основной характер предстоящего пересмотра крестьянского законодательства. В каком направлении предполагал произвести этот пересмотр Сипягин, мне неизвестно, да, вероятно, он и сам этого сколько-нибудь точно не выяснил. Одно лишь несомненно, а именно, что никаких радикальных изменений в строе крестьянской жизни произвести не предполагалось, причем вся реформа, если только ее можно назвать таковой, должна была быть осуществлена в строго консервативном духе, о чем можно судить как по общему облику самого Сипягина, так в особенности по тому, что руководителем всего дела должен был быть приглашенный Сипягиным к себе в товарищи А.С.Стишинский.
Во всяком случае, ко времени назначения Плеве, т. е. к маю 1902 г., вся подготовка Министерства внутренних дел сводилась преимущественно к переписке с Министерством финансов об отпуске потребных для сего сумм, причем они исчислялись в весьма значительном размере, если память мне не изменяет – в 120 тысяч рублей, подлежащих ежегодному ассигнованию в течение пяти лет, предположительного срока окончания этой работы. Министерство финансов находило эту сумму чрезмерной, и с ним Министерство внутренних дел вело оживленный и усиленный торг. Был, правда, составлен в земском отделе проект положения о мирских сборах, но лишь в сыром виде.
В каком направлении поведет эту работу Плеве, едва ли кто-нибудь знал. В крестьянском вопросе, как известно, политические течения переплелись. Часть крайних правых создала себе из земельной общины не меньший фетиш, нежели она представляла для определенно революционных народнических течений, хотя, разумеется, на иных основаниях, точно так же часть социалистически настроенной интеллигенции отстаивала особый сословный крестьянский суд и крестьянское обособленное сословное самоуправление с не меньшим пылом, нежели большинство ультраконсерваторов.
Подобно остальным не знал, разумеется, и я, какое положение займет Плеве в этом Imbroglio[213], но в одном я был уверен, а именно, что в том или ином направлении, но Плеве приложит все усилия к хотя бы формальному исполнению порученной министру внутренних дел работы. Принять возможно близкое участие в этой работе мне хотелось чрезвычайно. Начав свою службу в крестьянских учреждениях губерний Царства Польского, знакомый до известной степени с великорусским крестьянским бытом в качестве сельского хозяина, с детства постоянный – в летние месяцы – деревенский житель, я уже давно пришел к убеждению, что непреодолимым и грозным тормозом нормального развития сельских народных масс и тем самым всего государства является несомненный пережиток старины – земельная община. Приблизиться так или иначе, ввиду этого, к пересмотру крестьянского законодательства, с тем чтобы по возможности двинуть этот пересмотр в направлении скорейшего упразднения общины, было в то время моей неотвязной мечтой. Судьба мне в этом отношении улыбнулась: одним из первых лиц, удаленных Плеве с ответственных должностей в центральном управлении Министерства внутренних дел, был управляющий земским отделом – Савич. Между тем именно в этом отделе, вопреки своему названию ничего общего с земством не имеющем, а ведающем всем обширным крестьянским делом, должна была производиться работа по пересмотру узаконений о крестьянах. Я решился воспользоваться этим обстоятельством и обратился с письмом к Плеве, в котором заявил о моем страстном желании занять означенную вакантную должность.
Шаг этот был совершенно необычайный и абсолютно не принятый. Хлопотали о назначении на ту или иную должность, разумеется, многие, но делалось это неизменно через третьих лиц, либо влиятельных, либо состоящих в личных близких отношениях с тем, от кого зависело желаемое назначение. Но лично, да еще в письменной форме, просить о назначении на ответственную должность, насколько я знаю, никто не решался. Прибавлю, что Плеве знал меня только по службе в Государственной канцелярии, где я занимал должность помощника статс-секретаря, причем и служебные мои отношения или сношения с ним были чрезвычайно редки и ограничились преимущественно составлением для него, когда он был назначен статс-секретарем по делам Великого княжества Финляндского, нескольких писем на французском языке к представителям наименее враждебной русскому владычеству старофинской политической партии. В письмах этих Плеве стремился установить с этой партией, в лице ее главарей, дружеские отношения и определить ту политическую линию, на которой можно было бы взаимно сойтись.
Поступок мой, вероятно, удивил Плеве, но в конечном счете увенчался успехом. Любезной запиской Плеве пригласил меня к себе переговорить по поводу полученного им от меня письма и при этом свидании без обиняков объяснил, что кандидата у него на должность управляющего земским отделом пока нет, но что назначение это он должен произвести с крайней осмотрительностью ввиду того, что оно сводится к выбору лица, на котором фактически будет лежать обязанность произвести при помощи соответствующих сотрудников предположенный пересмотр узаконений о крестьянах, причем работе этой не только он, Плеве, но и государь придают огромное значение.
«Все, что я могу вам предложить, – сказал Плеве, – это воспользоваться предстоящим четырехмесячным каникулярным временем Государственной канцелярии и составить за этот срок, при участии некоторых чинов земского отдела, проект нового положения крестьянского общественного управления».
В случае моего согласия Плеве сказал, что пригласит меня в один из ближайших дней на имеющее быть под его председательством заседание для рассмотрения выработанного еще при Сипягине в земском отделе проекта нового положения о мирских крестьянских сборах.








