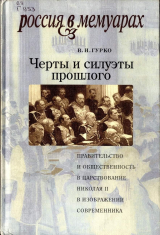
Текст книги "Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современника"
Автор книги: Василий Гурко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 67 страниц)
Я, конечно, сразу понял, что Витте обратился ко мне по недоразумению, введенный в заблуждение названием того отдела (земского) министерства, которым я ведал. Заблуждение это было тем более странным, что как раз в это время Витте имел постоянно дело с тут же присутствовавшим в качестве редактора булыгинского проекта положения о Государственной думе С.Е.Крыжановским, привлеченным ввиду этого к редактированию нового, в соответствии с указом 17 октября, положения о выборах в это установление. Между тем Крыжановский занимал должность помощника начальника Главного управления по делам местного хозяйства, т. е. именно того учреждения, которое ведало земскими учреждениями. Я не счел, однако, нужным вывести Витте из его заблуждения, а ограничился тем, что кратко сказал, что осуществить его мысль невозможно.
– Почему? – спросил Витте в изумлении.
– Потому, что состав губернских и уездных земских собраний приблизительно тот же и что если открыто губернское собрание, то в уездах не будут участвовать ни председатели земских управ, входящие по должности в губернские собрания, ни наиболее деятельные и видные их члены, так как последние неизменно избираются в губернские гласные.
– Вы в этом уверены?
– Безусловно.
– Ну, так тогда соберем лишь одни уездные собрания.
Мысль эта была нелепая как по существу, с точки зрения абсолютной невозможности собрать и задержать на сколько-нибудь продолжительное время в уездном городе людей, имеющих иные постоянные занятия и обязанности, так и в отношении совершенной недействительности принимаемых ими для охранения общественного порядка решений, так как для нарушителей этого порядка земские собрания не обладают никаким авторитетом. Не успел я, однако, указать на это, как в разговор вступился Дурново, причем он встал на своеобразную, исключительно формальную точку зрения.
– На каком основании, – сказал Дурново, – обращаетесь вы, Сергей Юльевич, к служащему в моем министерстве? Никаких поручений возлагать на него вы не имеете права.
Как это ни странно, но на этом совершенно к делу не относящемся и в сущности дерзком по отношению к главе правительства заявлении Дурново весь вопрос и кончился и никаких дальнейших последствий не имел.
Я привел этот ничтожный инцидент как образчик положительного незнакомства Витте со строем русской государственной жизни вообще и с основами то порицавшихся, то восхваляемых им земских учреждений в частности. Рисует он также степень бесцеремонности обращения Дурново с главой «объединенного» правительства.
Я уже имел случай, говоря о Дурново, указать, что это был человек беспринципный, весьма неразборчивый в средствах для достижения намеченной им цели, но в высшей степени умный и решительный. Оговариваюсь, однако, что беспринципность Дурново не относилась до его политических взглядов. В этой области он имел весьма определенные и стойкие убеждения и к делу, которым заведовал, относился весьма вдумчиво, можно сказать, любовно, как безусловно любил Россию и болел о всех ее неудачах. В полной мере выказал Дурново свои природные способности во время короткого управления им Министерством внутренних дел. Обнаружилось тут одно его свойство, весьма редкое у людей, но зато неизменно присущее всем действительно выдающимся деятелям, составляя как бы необходимую их принадлежность, а именно полная гармония между умом и характером. Сила его воли была, если можно так выразиться, вполне адекватна силе его ума. Благодаря этому он не только быстро разбирался во всяком даже тяжелом положении, но мог принятое им решение проводить без колебаний, стойко и последовательно до конца. Ум его, придя к какому-либо решению, как бы стушевывался, отходил на второй план и ограничивался руководством его воли в пределах исполнения принятого им решения. Личным мужеством и физической храбростью Дурново также отличался в высшей степени. За время его управления Министерством внутренних дел революционеры травили его как дикого зверя, но это отнюдь не влияло не только на принимаемые им решения, но и на общую его уравновешенность. Что он испытывал внутри себя, я, конечно не знаю, но наружное спокойствие никогда его не покидало.
Припоминаю, что однажды, зайдя к Дурново, я встретил его в передней одетым, чтобы выйти. Он собирался на заседание Государственного совета в Мариинский дворец, что у Синего моста, от которого он жил довольно близко, а именно на Мойке против Прачешного мостика[511]. Так как мне нужно было что-то ему спешно доложить, я вышел с ним вместе, дабы переговорить по дороге. Пошли мы с ним пешком, причем перешли по Прачешному мостику на тот берег Мойки. Подойдя к Мариинской площади у угла здания Министерства земледелия, Дурново спешно закончил наш деловой разговор и сказал: «Ну, а теперь прощайте», а на мои слова, что я его доведу до площади дворца, спокойно сказал: «Это совсем лишнее; до сих пор мы были более или менее в безопасности, но переход через эту площадь для меня всегда опасен, а посему незачем вам со мною дальше идти».
Я, разумеется, его не послушался, но должен сказать, что не испытывал никакого удовольствия от дальнейшего, весьма, однако, по близости расстояния, кратковременного сопутствования Дурново, причем только тут вполне оценил неизменно присущее ему хладнокровие и спокойствие.
Отличался Дурново и другими качествами, а именно отсутствием мелочного самолюбия и мстительности. Испытал я это опять-таки на себе. Я уже как-то упоминал, что мои отношения с Дурново еще при Плеве были по меньшей мере натянутые. При Мирском они испортились окончательно. Дошло даже до того, что на одном заседании у Мирского, на котором присутствовал министр юстиции Муравьев и где вопрос шел о введении в действие нового уголовного уложения, что было сопряжено с изменением судебной компетенции земских начальников, я на обращенную ко мне просьбу Дурново прислать ему какое-то дело из земского отдела, касающееся этого вопроса, ответил решительным отказом.
Когда же Дурново на это сказал: «Я вам как товарищ министра приказываю», то получил в ответ краткое: «Руки коротки»[512].
Естественно, что при таких условиях, как только Дурново был назначен министром внутренних дел, я тотчас явился к нему с прошением об увольнении от должности, причем сопроводил ее текстуально следующими словами: «Так как вы, Петр Николаевич, питаете ко мне столь же мало симпатий, как я к вам, то служить нам вместе, конечно, нельзя». Каково же было мое удивление, когда в ответ я услышал: «Ваши и мои чувства тут решительно ни при чем. Мы переживаем такое время, когда о чувствах речи быть не может. Я считаю вас полезным на том месте, которое вы занимаете, и прошу вас на нем оставаться. Уходить при этих условиях, какие бы ни были ваши чувства ко мне, вы не имеете права». Тут же Дурново в дальнейшем разговоре на тему об общем политическом положении страны заявил, что он вполне разделяет мою точку зрения, которую я неоднократно при нем высказывал, что всякие послабления власти при охватившем общественность революционном психозе могут способствовать лишь его дальнейшему развитию, а отнюдь не успокоению. К этому надо прибавить, что Дурново вполне в это время сознавал, что весьма решительные реформы во всем государственном строе безусловно необходимы. «Мы живем как в осажденном лагере, – говорил он, – мы перестаем быть национальною властью и превращаемся в каких-то поработителей-татар. Но идти сейчас в порядке полного осуществления провозглашенных свобод – это значит заменить одну тиранию другой, безмерно худшей, от которой неминуемо погибнет государство».
Вообще, Дурново несомненно обладал прозорливым государственным умом и стоял в этом отношении неизмеримо выше Витте. Скажу больше, среди всех государственных деятелей той эпохи он выделялся и разносторонними знаниями, и независимостью суждений, и мужеством высказывать свое мнение, независимо от того, встречало ли оно сочувствие среди присутствующих или нет. Философским умом, глубоким проникновением в народную психику Дурново, правда, не отличался, но зато он был в высшей степени реальным политиком. Привлекали его внимание преимущественно злобы дня. Не заглядывая ввиду этого ни в глубь веков, чтобы там отыскать первоисточник совершающихся событий, ни в далекое будущее, дабы в нем осуществить, путем тех или иных перестроений, определенную социальную теорию, он тем не менее отнюдь не был лишен дара политической прозорливости.
Яркий образчик врожденного у него чутья хода событий – поданная им государю в феврале 1914 г. записка, где он разбирал международное положение России[513]. Записка эта обнаружила в ее авторе глубокую вдумчивость, правильность расценки относительного значения и основных вожделений главных факторов международной политики и в особенности совершенно исключительную прозорливость в отношении будущего хода мировых событий.
Основное положение, которое Дурново проводит в этой записке, это пагубность для России вовлечения в наш союз с Францией третьего члена – Англии. Пока Россия находилась в союзе с одной Францией, она была в состоянии одновременно поддерживать и дружеские сношения с Германией, так как последняя могла иметь захватные замыслы по отношению к этим государствам, но вовсе не опасалась каких-либо покушений против нее самой с их стороны. Но коль скоро в союз этих государств вступила Англия – положение резко изменилось. Германия, вступившая на путь развития своей колониальной политики и в этих видах в короткий срок развившая свое могущество на море посредством сооружения грозного военного флота, встретила здесь непримиримого противника в лице Англии. Но Англия одна, без союза с континентальными европейскими деревами, была бессильна по отношению к Германии. Иную опасность представляла эта держава, коль скоро она заручалась содействием непосредственных соседей Германии. Война между Германией и Англией, при участии в ней со стороны последней России и Франции, становилась при таких условиях лишь вопросом времени. Естественно, что Германия при таких условиях предпочтет взять инициативу в свои руки и вступить в бой в тот момент, который ею будет сочтен наиболее для нее благоприятным, а именно не дожидаясь дальнейшего усиления военной мощи своих противников. Таким моментом является именно настоящее время, пока Россия еще не успела докончить план реорганизации и военного снаряжения своих боевых сил.
К этой надвигающейся войне Дурново и обращает свои взгляды: он прежде всего распределяет европейские государства между двумя борющимися лагерями, причем последующие события в полной мере оправдали его предположения. Так, он вперед говорит, что Италия и Румыния останутся сначала нейтральными, а потом присоединятся к странам тройственного согласия и что, наоборот, Турция и Болгария станут на сторону Германии. Далее, он предвидит, что на чьей бы стороне ни оказалась победа, ее неминуемым последствием будет социальная революция в России и Германии, причем начнется она в той из этих стран, которая будет побеждена, и затем перекинется в ее соседку, хотя бы она была победительницей. Указывает он, кроме того, что даже в случае победы Россия ничего от нее не выиграет, так как утратит всякое значение для Франции и Англии, коль скоро военная мощь Германии будет разгромлена, а приведет это к тому, что Англия тотчас возобновит свои козни против России и найдет способы нанести ей ущерб.
Указал, кроме того, Дурново и на всю трудность ведения нами войны против Германии при отсутствии у нас достаточных запасов снарядов, неимения в стране соответственно оборудованной для изготовления военных припасов промышленности, а в особенности при незначительном количестве крупнокалиберных орудий. Последнее указание Дурново тем более замечательно, что даже французские военные авторитеты поняли все значение при ведении войны в современных условиях крупной артиллерии лишь спустя год после начала военных действий.
Одного лишь не предусмотрел Дурново, а именно что Англия, уничтожив военную мощь Германии на море и лишив ее всех колоний, вовсе не пожелает совершенно уничтожить ее силу на континенте. Своим противником Англия почитает вовсе не какое-либо определенное государство, а всякое, представляющее в данную минуту значительную мощь. Полное ослабление Германии в глазах Англии приводит к непомерному усилению мощи Франции. Допустить это она столь же мало склонна, как допустить мировую гегемонию Германии.
Выпавшая на долю Дурново в конце 1905 г. задача была до чрезвычайности трудна, причем она, несомненно, осложнялась свойствами главы правительства, с которыми, как ни на есть, Дурново приходилось, хотя бы и в ничтожной степени, считаться или же вести борьбу.
Вопреки наивному ожиданию Витте, Манифест 17 октября не только не внес успокоения в страну, а, наоборот, усилил повсеместное общественное и народное брожение. Не возымел благотворного в этом отношении влияния и последовавший 21 октября указ об амнистии, хотя в силу этого указа помимо лиц, пострадавших в борьбе за конституцию, было освобождено от наложенных на них кар и множество лиц, усиленно пропагандировавших полное низвержение всего государственного и социального строя. Амнистия была вообще широкая. Так как указ о ней не включал, однако, лиц, совершивших по политическим мотивам преступные деяния общеуголовного характера, то не только революционные круги, но и радикальную часть общественности он не удовлетворил. Оппозиционная пресса принялась даже по его поводу метать пущие, чем когда-либо, громы по адресу правительства, утверждая, отчасти по наивности, но более всего лицемерно, что успокоение в стране может наступить лишь по амнистировании решительно всех политических преступников, независимо от свойства совершенных ими деяний, так как лишь тогда будут действительно осуществлены провозглашенные манифестом начала гражданской свободы. Результат такого взгляда Временного правительства Россия испытала в полной мере.
Первым грозным предупреждением развернувшихся на почве Манифеста 17 октября событий явились поступившие из провинции сведения о революционных эксцессах, последовавших там немедленно по его оглашении.
«Партийные» работники, узнавшие во многих городах о манифесте ранее администрации, тотчас же приступили к деятельному осуществлению программы III весеннего 1905 г. съезда социал-демократов-большевиков и конференции меньшевиков соответственно с тем развитием, которое ей дали органы революционной прессы. Следуя указаниям «Искры», говорившей: «берите тюрьмы и освобождайте заключенных в них борцов за наше дело: ими усилим наши ряды» и призыву «Пролетария», советовавшего «захват городского управления и сформирование милиции», революционные элементы под защитою провозглашенных свобод открыто выступали во многих городах наружу и стали предъявлять застигнутой врасплох администрации именно эти требования, как то: передачу полицейской власти в руки городской милиции, немедленный увод войск и в первую голову освобождение из тюрем всех политических арестантов. С этой целью они организуют из местного рабочего элемента многолюдные манифестации, к которым, конечно, немедленно присоединяются все подонки местного населения, и направляют их под реющими красными флагами к местам заключения. В случае неисполнения тюремным начальством требования толпы о выпуске содержащихся в них политических заключенных вожаки пробуждают толпу вломиться в тюремные помещения силою, что кое – где им и удается, причем выпускаются на свободу все арестанты без разбора. В Оренбурге и в Перми предварительно обхода тюрем толпа захватывает силою местных губернаторов Цехановецкого и Наумова и заставляет их шествовать вместе с собою, причем Цехановецкий вынуждается сам нести красное знамя, а над Наумовым, решительно отказавшимся превратиться в революционного знаменосца, красный флаг несут «товарищи».
Не успела еще местная администрация с грехом пополам восстановить уличный порядок, как под влиянием революционеров разнообразных оттенков, стремящихся методически осуществить преподанную им из центра программу, возникают бунты в различных частях войск. Так, уже 26 октября выступает на сцену будущая «краса и гордость» революции – кронштадтские моряки, и усмирение их требует вызова войск из столицы. В начале ноября в Москве образуется Совет солдатских депутатов, и следом вспыхивает бунт среди сухопутных войск, причем некоторые из них усмиряются не без труда. Особенных размеров бунты эти достигают во Владивостоке, где в течение двух дней (30 и 31 октября) город фактически находится во власти запасных, и в Севастополе, где происходит форменный артиллерийский бой между взбунтовавшимися командами военных судов и береговыми батареями, причем исход его в течение целых пяти дней (11–15 ноября) представляется неизвестным. Весьма серьезный характер принимает 18 ноября бунт саперного батальона в Киеве. В эти же дни взбунтовавшийся Воронежский дисциплинарный батальон выдерживает ранее, нежели сдаться, осаду в забаррикадированных им казармах, а перед сдачей казармы эти поджигает. Не отстают воинские части, расположенные в Киеве и еще в некоторых местах, но серьезных размеров беспорядки там не принимают и быстро прекращаются. В некоторых случаях военные бунты предупреждаются лишь заблаговременным арестом коноводов. Так, в Петербургской электротехнической военной школе арестуется свыше двухсот нижних чинов.
Грозные признаки разложения проявляет Маньчжурская армия, а возвращающиеся домой из этой армии запасные митингуют, учиняют беспорядки в различных находящихся у них на пути сибирских городах, как то: Иркутске и Чите; в этом последнем городе образуется ими Совет солдатских и казачьих депутатов.
Одновременно, само собою разумеется, вспыхивают вновь во многих губерниях аграрные беспорядки.
Словом, работа «товарищей» кипит по всему лицу земли русской. Следом за Петербургским Советом рабочих депутатов образуются такие же советы во многих других промышленных центрах, и все они пытаются вступить в связь с Петербургским Советом, выражают готовность ему подчиняться и ждут от него директив.
Одновременно на окраинах к социалистическому движению примешивается движение национальное, сепаратистское, принимая наибольшие размеры в Прибалтийских губерниях, где обучаются латышские вооруженные отряды, громящие замки и усадьбы своих давних недругов немецких баронов.
Губернии Царства Польского сильно охвачены национальным движением. Выражается оно здесь, между прочим, кроме рабочих стачек и уличных беспорядков, еще в нападении на гминные (волостные) управления. В них повстанцы видят эмблему русского владычества, хотя состоят они сплошь из выбранного населением местного элемента, но ведут они переписку на государственном языке, и вот эту переписку повстанцы уничтожают. Одновременно происходит массовое, поодиночке, убийство чинов полиции и земской стражи[514].
В самой Варшаве положение становится настолько грозным, а террористические акты принимают такой массовый характер, что генерал-губернатор, он же командующий войсками округа, генерал Максимович признает за благо укрыться в крепость Згерж, в пределах которой находится летнее местопребывание начальника края. Тотчас уволенный от должности, он замещается генералом Скалоном, по требованию которого в губерниях Царства Польского вводится военное положение.
Обстоятельство это вместе с преданием суду бунтовавших в конце октября кронштадтских моряков служит поводом для декретирования Петербургским Советом рабочих депутатов новой всеобщей забастовки, начавшейся 2 ноября.
Петербург вновь погружается с наступлением ночи во тьму, вновь не ходят трамваи, не появляются газеты, с перерывами действуют телефоны, а местами бастуют пекаря, так что в некоторых частях города население остается без хлеба. Распространяется забастовка и на железные дороги, не принимая, однако, всеобщего и полного характера. Так, по Николаевской дороге некоторые поезда продолжают ходить, но пассажиры проникают на них украдкой, боковыми ходами. Поезда эти отходят не с обычных мест отправления, сопровождаются военными командами, а обслуживающие их кондукторские бригады объяты величайшей тревогой, опасаясь жестокого возмездия за нарушение велений стачечного комитета. Страх перед новой, где-то скрывающейся, никому не ведомой, но, по-видимому, всесильной властью понемногу охватывает все слои населения. Забастовочное движение принимает, впрочем, в то время характер какой-то заразной болезни. О размерах фабричной забастовки можно судить по тому, что число забастовочных рабочих дней в ноябре месяце достигает 667 тысяч, превышая число таких же дней за октябрь месяц на 150 тысяч. Но рядом с фабричным пролетариатом втягиваются в общее движение, без всякого постороннего приказа, самые различные категории людей. Так, сегодня бастуют служащие в парикмахерских, а завтра – прислуга ресторанов и гостиниц. Не успевают эти забастовки прекратиться, как оставляют работу разносчики газет, примеру которых почему-то следуют приказчики магазинов. Беспричинное, ничем определенным не вызванное оставление работы превращается в какой-то спорт, в котором участвуют люди всех положений и даже возрастов. Само собою разумеется, что в университетах и иных высших учебных заведениях слушание лекций заменяется многолюдными митингами, на которых горячо препираются между собою социалисты и анархисты. Не отстают и ученики средних учебных заведений, вплоть до находящихся в детском возрасте. Они предъявляют скопом какие-то требования учебному начальству и толпою покидают классы. Словом, забастовочное движение принимает даже несколько юмористический характер, и правые газеты шутя сообщают, что забастовали роженицы в родильных приютах, отказываясь производить на свет впредь до признания за населением всеобщего, без различия пола и возраста, избирательного права. Об университетах ходил другой анекдот, а именно что содержательница пансиона без древних языков[515], усмиряя бушующих студентов, убежденно говорила им: «Здесь вам не университет, здесь, слава Богу, заведение!»
Тем временем Петербургский Совет рабочих депутатов спешит занять положение органа пролетариата, контролирующего деятельность правительства. Он сносится непосредственно с председателем Совета министров, официально уведомляет градоначальника о замеченных им незаконных действиях полиции и требует их прекращения. Одновременно он учреждает в фабричных частях города милицию, которая кое-где вытесняет полицию. Спеша использовать условия времени и приобретенное им обаяние, Совет этот проводит почтово-телеграфную забастовку. Завоевывает он при этом в среде чиновников почтово-телеграфного ведомства такую власть и влияние, что правительство вынуждено обращаться к нему для передачи своих распоряжений на места. Разрешение это дается, разумеется, лишь когда распоряжение законной власти согласуется с желаниями Совета рабочих депутатов, как, например, телеграмма Витте, отменяющая смертную казнь, к которой были присуждены местными органами учредители Кушкинской в Средней Азии республики после ее упразднения военной силой[516].
Мало того, Советом рабочих депутатов осуществляется возникшая у него мысль об организации помощи безработным забастовщикам через посредство городской думы, которая в некоторой части своей из сочувствия, а в большинстве – под влиянием страха послушно исполняет веления Совета.
Словом, как писал в то время один из сотрудников «Вестника Европы»: «Власть переменилась. Какие-то люди, особенно страшные своею личною неизвестностью, а еще более анонимностью стоящего за ними чего-то огромного и сильного в сознании и в глазах населения, заняли то самое место, на котором оно привыкло видеть официальное начальство». Тот же сотрудник описывает, как в Москве «закрывали» ресторан и «снимали официантов» в одной из самых больших гостиниц. «В швейцарскую вошли двое молодых людей и потребовали, чтобы к ним вышли официанты. Управляющий самолично побежал наверх. Через минуту с ним спустилось несколько официантов. Молодые люди им сказали: «Закрыть ресторан!» Моментально было погашено электричество, вся прислуга ушла, двери в обеденную залу были заперты. Не раздалось ни одного протеста ни со стороны прислуги, обрекавшейся на лишение на неопределенное время заработка, ни со стороны управляющего гостиницы, которая обрекалась на ежедневные убытки. Столь же покорно отнеслись к своей участи – потихоньку кое-чем пообедать в своих душных номерах – постояльцы»[517].
Подобные описанной сцены «снимания» служащих в совершенно тождественных условиях происходят и в Петербурге, причем не только в обслуживающих общественные потребности частных учреждениях, но и в учреждениях правительственных. Появлялась кучка неизвестных личностей и тоном, не допускающим возражений, требовала немедленного прекращения занятий, и это требование во многих случаях беспрекословно исполнялось. Однако коль скоро пришедшие личности встречали сколько-нибудь решительный отпор, они быстро скрывались и вновь уже не появлялись.
Сложившимися обстоятельствами, впрочем невольно, втягивались в общее движение и чиновники различных ведомств, образующие специальные собственные союзы, а также низшие служащие правительственных учреждений, как то вольнонаемные писаря. Они предъявляют коллективное требование об увеличении платы и одновременно сокращении часов работы, и эти требования, увы, кое – где тотчас исполнялись. Однако и здесь достаточно было самого ничтожного отпора, чтобы требования эти немедленно замолкали. Так, однажды в земском отделе секретарь мне доложил, что писаря отдела, коих было несколько десятков, желают ко мне явиться, чтобы просить о прибавке содержания.
«Скажите, – сказал я секретарю, – этим господам, что если они непременно желают меня видеть, то пусть придут, но предупредите их от моего имени, что это будет не только в первый раз, что они меня увидят, но и в последний». Никто ко мне не явился, и ничего больше об этом я не слышал.
Но, увы, рядовой обыватель выказал полную неспособность к какому-либо отпору. Наоборот, он тогда же проявил ту безграничную пассивность, безропотность и покорность, вследствие которых советские грабители могли его безнаказанно обобрать до последней нитки, лишить его всякой свободы, даже свободы мысли, и при помощи нескольких тысяч вооруженных наймитов проделывать над ним всякие опыты, превратив его с этою целью в распластанную лягушку. Вивисекцию, которой большевики подвергали в течение стольких лет русский народ как в совокупности, так и в лице отдельных его членов, можно было предвидеть, наблюдая за безразличием и дряблой покорностью обывателя к нарушавшим его материальные интересы и моральное спокойствие бесчинствам, творимым революционными организациями в 1905–1906 гг. Согласно заголовку брошюры, выпущенной в 1906 г. проф. Сергиевским, обыватель покорно говорил издевающимся над ним революционерам: «Ешь меня, собака!»[518]
Яркой иллюстрацией этой покорности служили производившиеся в ноябре и декабре 1905 г. во многих публичных собраниях, даже не политического характера, открытые сборы денег на помощь забастовщикам, а не то и прямо на вооруженное восстание. По рядам публики пускали шапку с соответствующей надписью, и в нее если не все вкладывали свою лепту, но зато ни один не решался выразить по этому поводу своего возмущения или хотя бы не передать ее покорно дальше.
Мощной поддержкой революционного движения явилась преобладающая часть повременной печати. В первую очередь, разумеется, усердствовали социалистические издания, дотоле печатавшиеся в подполье, а потому выходившие с значительными перерывами и проникавшие только в определенные круги. Теперь они стали выходить открыто и даже легально. Так появились газеты «Начало» и «Новая жизнь», выставившие в заголовке лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Первая из них заменила «Искру» – орган социал-демократов-меньшевиков, а во вторую превратился орган социал-демократов-большевиков «Пролетарий». Завели свой орган и социалисты-революционеры, назвав его «Сын отечества». Окончательно скинул с себя маску социал-демократический журнал «Русское богатство». Все эти издания открыто обсуждают вопрос о вооруженном восстании. Они воспевают всеобщую забастовку «как мировое явление», с пафосом говорят, что «Россия стоит во главе всемирной революции», превозносят «такт и зрелость русского пролетариата», определенно указывают, что «целью революции должны быть не политические реформы, а коренной социальный переворот». Диктатура пролетариата – вот их общий лозунг, пока что скрываемый, не от власти, конечно, – с нею они не считаются, а от буржуазии, под кличкой – демократическая республика.
Народились различные издательства, открыто выпускавшие явочным порядком партийную социалистическую литературу и даже зажигательные воззвания. Расцвела эта литература и получила широкое распространение не в одних столицах, а и в провинции. Издававшаяся в Ростове-на-Дону газета «Донская речь»[519] проявила в этом отношении особое рвение. Вся эта литература получает широкое распространение в массах. Так, например, газета «Сын отечества»[520], орган социалистов-революционеров, проповедующая отобрание всей земли у помещиков, рассылается бесплатно во все волостные правления империи.
Но как же отнеслась к этим призывам революционеров и порождаемым ими событиям оппозиционная, радикальная общественность? Поняла ли она наконец, куда ведут страну социалисты различных оттенков и поскольку она сама в подготовляемой революционерами государственной катастрофе лишится всякого значения и потонет в общем море бесправия, разнузданных человеческих страстей и низменных животных инстинктов? Увы – нисколько.
Руководящим центром этой общественности, которую уже с этого времени можно подвести под общее наименование кадетов, становится конституционно-демократическая партия народной свободы. Правда, партия эта еще не получила законченной конструкции и в качестве рабочего органа имела лишь выбранный на ее октябрьском учредительном собрании президиум. Но лидеры партии, ее духовные вожди, определились вполне, и были это те самые лица, которые лишь с незначительным пополнением извне, преимущественно из еврейской среды, властно руководили ее деятельностью в течение всего последующего периода, вплоть до самой революции 1917 г. Выявился и верховный вождь партии П.Н.Милюков. Да, это были все те же Кокошкины, Кизеветтеры, Родичевы, Мануйловы, Набоковы и кн. Львовы с выставляемыми ими вперед, отчасти в качестве декорации, но в особенности из-за тех денежных средств, которые они доставляли партии, кн. Долгоруковыми и гр. Орловыми-Давыдовыми.








