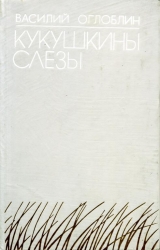
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
– Костя, где ты шляешься? – сказала, утирая слезу, соседка. – Мать-то умерла вон, хоронить будем, страдалицу.
– Пойди, пойди, простись с матушкой-то горемычной.
Прошел в сторожку. В пустой, залитой солнцем каморке плавали, сталкиваясь, пылинки, а внизу, на грубых толстолапых скамьях, стоял некрашеный гроб, в изголовье холодно трепетали язычки свеч, а еще ниже строго покоилось отрешенное и красивое лицо матери. Словно в густом едком тумане прошел этот день. Со смертью матери гнетущее ощущение полного одиночества и безысходности переполнило его озлобленное сердце. Люди советовали в детдом определиться – свистнул в ответ:
– Пошли вы все!...
Подался на соседний торфяник. Сказывали добрые люди, что заработки там хорошие и харч в столовке дешевый. К тому же общежитие есть – пригрет, присмотрен. Поработал сезон, не поглянулось: мозоли на руках вздулись, житуха скучная, лес, бараки, тоска болотная. Перебрался с торфяника опять в село. Мимо станции, где они недавно жили с отцом и матерью (а это в трех километрах от села), проходил с опаской, ругался соленой бранью и густо сплевывал в сторону высокого забора межрайбазы. Перебивался кое-как. На отшибе пустовала изба посла умершей одинокой старухи. Поселился в ней. На восемнадцатом году, и сам никуда не определенный, молодую хозяйку привел в пустую избу. Девушка попалась добрая, работящая. Опять же не повезло: на одиннадцатом месяце жизни сбежала Дуняшка ночью, в одном платьице, с грудным ребеночком на руках. Дура. Гулящий, говорит, и пьющий и не любишь меня... А что, за подол твой мужу держаться? Погуливал с солдатками, выпивал с дружками, а Дуняша, видите ли, любовью какой-то бредила...
Вспомнив про Дуняшу, Костя захохотал:
– Дура, меньше книжек читать надо было, а то втолкала в голову: любовь, любовь. А после чего ею закусывают, знаешь? То-то...
Потер потной ладонью по лбу, словно отмахивался от непрошеных воспоминаний, под глазом пощупал – саднит, выругался сквозь зубы:
– Краля козырная.
И опять к окну потянуло. Плавает цветастое платье в соседском саду, руки голые мраморные мелькают. Закусил губу.
– Дурочку спорол. Круто повернул. Надо было с маслицем, деликатно, обходительно. Да ведь кто его знает, что она за птица, иная нахальных больше предпочитает. Только бы ночью пофартило, а там поглядим.
Глава третья– Эскимо! Кому эскимо? – сконфуженно выпевала Зина Лощилова, по-сельскому Ромашка, или еще – поповна, втираясь в гущину людского потока, хлынувшего к причалившему пароходику; и пушистые метелки ее длинных ресниц то удивленно взлетали, то обиженно падали. – Пожалуйста. Свежее. Ароматное. Холодное. Пожалуйста.
В этом нараспев произнесенном «пожалуйста» было столько искренней трогательности, а от светлого и виновато-грустного облика Ромашки веяло такой детской беспомощностью и наивностью, в дымчатом взгляде голубых глаз было столько притягательной силы, что пройти мимо, не задержавшись на минуту около ее голубого размалеванного лотка, было просто неловко. И люди подходили, подбегали, любовались ее обворожительной лучистой улыбкой и брали прохладные трубочки с белой ножкой, яркоцветные и заиндевевшие.
На пристани кипел, переливался разноголосый людской водоворот. Лениво позевывала изомлевшая от зноя река. Всполошливо суетились пассажиры. Покрикивали хрипловатыми голосами грузчики, бегом таская по шаткому трапу большие тюки; трусила смешной рысцой, подгоняя ревущих ребятишек, молодая цыганка в длиннополой цветастой юбке; на причале торопливо целовались, всхлипывали, смеялись, махали бестолково руками и косынками.
– Эскимо! Кому эскимо! Свежее. Холодное. Пожалуйста!
Но вот, покрывая разноголосье, сипло и протяжно прохрипел простуженный гудок отходящего парохода, толпа зашевелилась, колыхнулась, хлынула к воде. Зина опустила беспомощно руки, шмыгнула носиком. Гудок опять пробудил в душе виновато-робкую, но цепко живущую в ней надежду на нечаянное счастье.
...Два года назад в такой же теплый, сморенный зноем день сошла она на этой пристани с парохода с молодым мужем Колей. Она была одета в белое платье с широким поясом и большими накладными карманами, белые модные босоножки на высоком каблуке придавали ее и без того стройной фигуре особую изящность, воздушность.
– Зина, на тебя все смотрят, ты неотразимо прелестна, – шептал ей, благодарно улыбаясь, муж и сильнее жал ее руку ниже локтя. – От тебя исходит сияние.
День и в самом деле был необычным, торжественным. Заметно клонилось к закату солнце и уже не жгло, а мягко озаряло землю бледно-алым предвечерним светом. На причале, окруженная плотным кольцом яркоцветных сарафанов, платьев и косынок, задористо повизгивала гармошка; складно вплетаясь в ее торопливые, захлебистые звуки, два приятных звонких голоса выводили шутливо-озорные страдания. На душе у Зины было легко и весело. То ли от того, что она уже дома и трудные годы учебы в институте позади, в сумочке лежит диплом, и она уже не просто Зина-поповна, а учительница немецкого языка Зинаида Власовна, то ли от того, что сердце переполнено любовью к тонкобровому застенчивому Коленьке, ее мужу, все в ней пело, ликовало, светилось: и глаза, и волосы, и белое платье, и белая шляпка.
Проходя мимо прилепившегося к самой воде ресторанчика «Якорь», они остановились.
– Давай зайдем перекусим, – предложил Коля.
– Давай, – согласилась Зина.
Ресторанчик был небольшим, тесноватым, но уютным. Нашелся свободный столик, и они сели. Пока черноглазая девушка в белоснежном переднике накрывала на стол, Зина все время ловила на себе удивленно-восторженные взгляды мужчин. «И что они увидели во мне, – удивлялась она, – вот официантка покрасивее меня, а почему-то на нее глаза не таращат...»
Этот день был для нее очень счастливым и очень печальным и запомнился на всю жизнь.
Пока поели и выпили за возвращение в родное село по рюмке кисловатого бодрящего вина, солнце совсем к закату склонилось, потянуло предсумеречной прохладой, тени загустились, полиловели, в воздухе сладко запахло медом и перегретой пылью. Приглашали примоститься на подводу – отказались, пошли пешком, не по проселку, а луговыми, едва приметными тропинками, бойко убегающими в изволочек, по берегу темнеющей Ицки.
Шли долго. Притомились. Присели на корче, опустили в теплую воду разгоряченные ходьбой ноги. Вокруг было тихо и торжественно. Посередине реки, озорновато разбрызгивая золотые искры капель, плескался молодой месяц, плакучая ива на том берегу низко-низко склонилась над водой, и, когда Зина долго на нее смотрела, казалось, будто она расплетает тихими задумчивыми руками зеленые косы и бесшумно моет их в темной воде. На западе глухо погромыхивало, надвигалась гроза, где-то рядом, в невидимой в сумерках котлинке, тоскливо и бездомно плакал кулик, с заречной стороны из лесных зарослей ему отвечал сухим деревянным скрипом дергач. Земля тихонько вздыхала, щедро расточая горьковато-медовые вечерние запахи. Сколько раз после этого снились Зине и тот вечер, и та ива, и надвигающаяся гроза, и те горькие земные запахи...
Она тяжело вздохнула, поставила в тень лоток с мороженым, присела рядом, устремила тоскующий взгляд на реку, на утопающее в синеватой дымке левобережье, на дальние горбатые бугры, иссеченные дрожащей марью. А память опять возвращала в недавнее прошлое...
...Посидели на корче в обнимку, полюбовались тишиной и покоем засыпающей земли, пошли в село. И разве могла она подумать в тот вечер, что это ее короткое счастье оплакивает, убиваясь и тоскуя, невидимый кулик, что ее жизненная дорожка, еще совсем не торная, круто покатилась с того вечера под изволок...
Коленькина мать, Аделаида Львовна, встретила сына бурной радостью. Долго крутила в сухоньких руках, обцеловывала, даже всплакнула:
– Вот какой ты орел стал!
Потом успокоилась, села за стол, ласково и любовно оглядывая сына издали. Зина все это время стояла под порогом, ждала, когда обратят внимание на нее. Аделаида Львовна, ее бывшая учительница, когда-то красивая и стройная, за последние годы сильно постарела, в волосах добавилось седины, и вся она как-то усохла. Коля, наконец, откашлялся и, перекидывая с руки на руку снятую рубашку и посматривая в сторону Зины, сказал незнакомым голосом:
– Да, мама, я, кажется, писал тебе, что женюсь, так вот... Зина... моя жена. – И виновато улыбнулся.
Мать строго посмотрела на порог из-под очков, потом подняла их на лоб, спросила сухо, вскинув и изломав красивые брови:
– Зинаида Лощилова – моя невестка?
– Да, мама, – совсем тихо ответил Николай. – Зина – моя жена. Мы уже...
Толстый красный карандаш нервно затанцевал в сухонькой руке матери.
– Ннда, нннда, – неопределенно процедила сквозь зубы, – Зина Лощилова была прилежной и скромной девочкой... Ну что ж, проходите, устраивайтесь, отдыхайте, Зинаида, как вас, не помню, по батюшке-то?
– Власовна, – ответила Зина. – Власом папу звали.
– Да, да, Власовна, устраивайтесь, отдыхайте после дороги, скоро чай пить будем, летом, в жару, я жирных кушаний не готовлю, чайком да кваском балуюсь. Нда, так вы тоже, – она будто захлебнулась, – вы тоже с дипломом?
Зина прошла из темного угла поближе к бывшей своей учительнице, улыбнулась приветливо, защебетала:
– Да, Аделаида Львовна, я получила направление в нашу школу, мы вместе с Коленькой так и просились, и просьбу нашу удовлетворили. Будем работать вместе в той школе, в которой сами учились. Правда ведь, хорошо?
– В нашу? – мать удивленно вскинула брови.
– Да, в нашу.
– И чему же вы будете учить наших детей?
– Буду преподавать немецкий, у меня, знаете, талант к языкам, хочу еще заочно выучить английский и французский.
Зина опять доверчиво улыбнулась.
– Да, да, превосходно. Ваш покойный батюшка преподавал закон божий, а вы будете преподавать немецкий...
В голосе ее прозвучали нотки неприязни и раздражения.
– Мама, – бледнея, взглянул на нее Николай и виновато улыбнулся. – При чем тут отец?
– Нет-нет, я просто вспомнила ее батюшку, отца Власа... Пил, сердечный, перед смертью без просыху... Он же, кажется, в сумасшедшем доме умер? Да-да, вспомнила, в доме умалишенных закончил свой путь земной...
Зина не ответила. Что-то оборвалось в ее похолодевшей душе: счастья, о котором она так мечтала, в этом доме у нее не будет. Холодность матери мужа, ее непонятную враждебность она почувствовала сразу. Зина знала Колину мать как строгую, иногда придирчивую и не всегда справедливую ботаничку. Тут же она была уже не учительницей, а свекровью.
Дети Аделаиду Львовну звали Амебой.
Ее властолюбивого, крутого характера, злого языка побаивались и коллеги. Это знали даже они, дети. Вспомнила Зина и недобрые разговоры, ходившие по селу после смерти матери Кости Милюкина.
Чай пили молча. Над столом потрескивала «молния», пофыркивал никелированный самоварчик рюмочкой, в распахнутое окно заглядывал освещенный жирной полосой света уголок умытого дождем сада, залетал тугими струйками сыроватый ветерок. Аделаида Львовна сидела прямо – строгая, важная. Маленькое глинистого цвета личико с большими темно-карими глазами и широкими, изломанными на взлете бровями хранило еще следы былой красоты, какой-то холодной и злой. Зина помимо воли любовалась лицом свекрови, ее пышными волосами, ее тонкими изящными пальчиками, и на душе становилось все холоднее и холоднее.
«За что она меня так не любит? – вяло думала она. – Может быть, потому, что меня любит ее сын?» И опять посматривала на мать и сына. Иным, пугающе незнакомым предстал в тот вечер перед ней и ее кумир Коленька. Робкая застенчивость, мягкий характер, которые так нравились в нем Зине, обернулись при встрече с властолюбивой матерью ничем иным, как трусостью. Зина видела, как под колючим взглядом ее сердитых глаз муж буквально на глазах линял. Словоохотливый с ней, с Зиной, при матери он боялся открыть рот, немел, только весь вечер бледнел и улыбался как-то виновато. «Неужели у Коленьки заячья душа? – думала она. – Неужели он позволит обижать меня и не найдет в себе мужества заступиться?» Зину начало тяготить угнетенное молчание, она, допив чашку, попросила:
– Извините, пожалуйста, я очень устала, можно, я пойду прилягу?
– Да, да, милочка, идите, отдыхайте с дороги, – сухим голосом проговорила мать, и в углах ее тонких губ остро легли злые складки.
Зина разделась и легла в постель. В горенке было прохладно, тускло мерцали пробрызнутые лунным сиянием герани на низком подоконнике, поскрипывала плохо укрепленная ставня, тоскливо мяукал на крыше сарая кот, а из кухни доносился то гневный, то срывающийся на плач голос Колиной матери. Ее нисколько не беспокоило то, что весь этот неприятный, обидный, оскорбительный разговор может слышать она, Колина жена. Аделаида Львовна говорила громко, с истерическими нотками, часто всхлипывая. Зина прятала голову под подушку, но злые слова хлестали ее по разгоряченному лицу, она затыкала уши пальцами, а слова били, били, били.
– Женился! Он, видите ли, женился! На ком, я тебя спрашиваю? На ком? Что молчишь, историк? Где только твои глаза были? Поповская дочь! Поповна... Отец – горький пьяница. Рясу с крестом казенным пропил. А? Ты это знаешь? А из-за чего пропил? Ты это знаешь? Люди зря запоем не пьют, на все есть свои причины: либо совесть нечиста и мучает, либо судьба обидела, душу донага раздела, до нитки обокрала. Пил батюшка, царство ему небесное, а из-за чего пил? Ты это знаешь, историк? Матушка-то, попадья-то, все знают, с цирковым-то борцом... Эх ты! Не было тебе девушек из хороших семей? Поповну отыскал. Эх ты!..
Зину душили слезы. Ей хотелось кричать в темноту, в ночь, кричать, что она не такая, она совсем не такая. Но она только закусывала губы и шептала еле слышно:
– Ужас! Какой ужас!
Коля пришел съежившийся, скоробленный. Лег бочком на краешек перины, хихикнул жидковатым, дребезжащим смешком. Она доверчиво прижалась к нему, прильнула, но он отсунулся, отвернулся.
– Коленька, да ты ли это? Что с тобой? Тебе не с матерью жить, а со мной...
– Спи, – буркнул зло.
С этой ночи и началось все. Помучившись две недели у матери, они ушли на квартиру, сняли за малую цену у добрых старичков горенку, перенесли книги и свои небольшие пожитки. Зина вздохнула облегченно: теперь все наладится.
Но мать незримо присутствовала и здесь, в их новой квартире. Зина это видела ежедневно. И с каждым днем все сильнее убеждалась в том, что у ее Коли не только мягкий, слабый характер, а вообще никакого характера нет, он безволен, слаб, малодушен и труслив. Ему ли было выдержать натиск властолюбивой, жестокой матери?
А когда тихая дозревала осень и Зина с волнением готовилась к своему первому в жизни учебному году, поняла она: быть ей матерью. И не светлую радость ощутила в душе, а острую печаль. Николая словно подменили: в глазах было отчуждение, в словах – раздражение и желчь. Он часто и подолгу стал задерживаться вечерами, иногда приходил навеселе и был особенно мрачен и молчалив, потом, однажды, не пришел совсем. Зина проплакала всю ночь и решилась. Разговор состоялся на следующий день в школе, в пустом классе. Николай смотрел в пол и ковырял ногтем щель в парте.
– Пока нет детей и нас ничто не связывает, – заговорила Зина, – надо...
Он вскинул на нее печальные глаза.
– Да, Зина, надо разойтись, жить нам не дают и не дадут.
– Не думала я.
– И я не думал. – Он поднял на нее полные слез глаза. – Видишь ли, есть вещи...
Она перебила:
– Ты еще так недавно меня любил, а теперь... Ты уже не любишь?
– Мама не даст любить...
В класс заглянула Аделаида Львовна, метнула молнии, и разговор оборвался. Николай, словно под взглядом удава, опустил голову и покорно вышел.
На следующий день, как осенний лист, гонимый ветром, по школе прошелестел пущенный ботаничкой слушок: Николай Иванович бросил поповну, слегла с горя, лежит в больнице.
Зина действительно лежала в больнице, оборвала последнюю ниточку своей неудачной любви. Николая в конце октября призвали в армию. Ушел, не простившись, словно ее и не было на белом свете. А перед новым сорок первым годом в школу нагрянула комиссия из облоно. Комиссия работала неделю, возглавляла ее старший инспектор Софья Андреевна, подруга Аделаиды Львовны. Не успела комиссия уехать – пришел приказ: уволить. Зина погоревала, жаловаться не стала. Ходит по пристани, улыбается всем и выпевает сконфуженно-зазывным голоском: «Эскимо, кому эскимо?» И только тоскливый протяжный гудок отходящего парохода как прежде манит ее в неведомые дали, пробуждая в душе смутно живущую надежду на счастье. И никто уже не зовет ее Зинаидой Власовной, а все называют ласково Ромашкой, Ромашечкой. Как-то бойкий лейтенантик, покупая мороженое, серьезно и грустно сказал:
– Какая вы светлая, как есть ромашка полевая, поедемте со мной.
Зина зарделась, уронила ресницы, сказала строго:
– Ромашку такие-то сорвут, понюхают и бросят, да еще и каблуком придавят, а ромашка, она цветет, пока не сорванная...
Лейтенант вздохнул, приложил руку к козырьку и ушел, не оглянувшись. А имя прильнуло.
Дома, на столике, на раскрытом учебника французского языка, Зина обнаружила конверт. Вгляделась – почерк Николая. Поморщилась, как от зубной боли. Читать не стала. Отнесла на кухню, бросила в загнетку, завтра печку растопит. В душе у нее уже ничего не было, все истлело, испепелилось: покойников с кладбища назад не носят.
Глава четвертаяВ предвечерье в небе над Алмазовом забарахталась грузная, с одутловатыми отеками и опалинкой на окоемах иссиня-черная туча. Отделившись небольшим серо-бурым пятном от золотистой гривки леса, она подпрыгнула словно огромная птица, распластала крылья, взмыла ввысь, сглотнула побледневшее солнце и, быстро увеличиваясь в размерах, скоро заслонила собою все небо. Она тяжело задышала на притихшие садки, гладко приутюжила ворсистую мураву на луговых лужайках, сморщила гладь Ицки. По селу, завивая в жгут теплую уличную пыль, проскакал на одной ноге резвый смерчонок. В горенках потемнело. Надя подошла к окну. Раздвинула пошире шторки, прислонилась головой к косяку. За окном стало сумеречно, сад притих, насторожился. Яблони то нервно трепетали матовыми листьями, то замирали, словно прислушивались к надвигающемуся гулу. В сад ворвался ветер. Он уросливо метался из стороны в сторону, гнул ветви, соскребал в кучу усохлые былинки и листья, поднимал и швырял по сторонам.
В грозу Надя всегда испытывала странное чувство: было чего-то до щемящей боли жаль, звало, манило куда-то, а куда – неведомо. И всегда казалось ей, что в жизни ее короткой было что-то не так, могло быть красивее, светлее... И еще было – чувство тревожного ожидания. Оно созрело и окрепло в ней с тех пор, как стала она женой летчика. Выйдет в грозу с ребенком на руках на балкончик их комсоставовского дома, смотрит рвущимся взглядом в гневно разбушевавшееся небо и думает тревожно: как там Алешенька, ведь он летит где-то?
Перед глазами ослепительно сверкнуло, будто небо треснуло. Гулко, раскатисто ухнуло, и пошли крошиться короткие стремительные молнии, сухие, резкие раскаты грома оглушили онемевшую землю. На бурой взбухшей дороге, брызгаясь фонтанами пыли, одна за другой разорвались крупные шрапнельки дождя, скоро их стало больше, больше, через минуту потоки шумно падающей воды заплеснули землю.
– Молоньи-то, прости господи, как стреляют, – отворачиваясь от окна и затыкая уши, суеверно прошептала мать, – летось одного разу...
Она не договорила. В окно плеснуло пламенем и так оглушительно грохнуло, что половицы пошатнулись под ногами, жалобно заныли стекла в оконницах.
– Батюшки вы мои, – мать закрыла лицо руками, – в Алешенькину яблоню хлобыстнуло, как лучинку расщепало, сердечную, аж дымится.
От треска проснулись и заплакали трехлетний Сережа и двухлетняя Оленька. Надя кинулась к детям.
– Не пугайтесь, не пугайтесь, детки!
Туча разрешилась щедрым напойным ливнем, двумя заходами полившим истомившиеся, раскаленные зноем алмазовские поля, сады и луга. Над приицковскими холмами вскинула цветастое коромысло веселая радуга. И засмеялась, заулыбалась земля, радостно распахнуло синие просторы умытое небо, вырвалось из обрывков тучи яркое, словно тоже умытое, солнце. Все выбежали в сад.
Сад, разросшийся и одичавший, окружал дом с трех сторон, ломился в его подслеповатые окна. Оттого и был в комнатах полумрак, и даже в самые знойные дни не выветривалась прохлада и крепко держался медовый запах наливающихся соком яблок. В саду было светло и торжественно, и только изуродованная молнией Алешина яблоня потемнела.
Когда-то тут жила большая дружная семья. У Алексея Огнивцева было шесть старших братьев. Потом дети разъехались, ушли в жизнь, отец умер, и осталась со стареющим садом стареющая мать и уже не могла дать ему никакого ладу. На разлапистых яблонях было много усохлых веток, в саду пахло сыростью и гниющей древесиной. А сегодня вот срезало молнией самую молодую, самую красивую яблоню.
– Как ее раскуделило, сердешную, – горюнилась мать, гладя морщинистой рукой вспоротые волокна ствола, – не к добру это, Наденька.
– Ах, мама, предрассудки все это!
– Ох, неладно, неладно все это, доченька.
– И папку молния убьет? – теребил бабушку за подол и заглядывал в глаза Сережа. – А, и папку тоже?
– Кто знает, деточка, горько ему будет...
– А почему он уехал без нас?
– Не знаю, деточка, послушай вот лучше, что сказывать стану.
Мать повела Надю и внучат от дерева к дереву:
– Это вот – Колины. Коля сталь варит в Магнитке. Мастер. Часто в газетах прописывают про него. Летось ездила, гостила. Город большой, и дыму в нем много. Стоят рядом трубы, и из каждой дым валит. Из одной – черный, из другой – бурый, из третьей – голубоватый, а из иных – красный, как есть кровь. А квартира у Коли – хоть на тройке гоняй. Просторная. Жена – ученая, в очках. Болтики да гайки, видела, рисует на бумаге карандашиком. Ладно. Это – Пашины. Паша – капитан, корабель водит по морю-окияну, по Тихому. У этого не была ни разу, куда мне, старой, тащиться на край света. До Паши, сказывали люди, тысячи и тысячи верст, на тот свет, говорят, и то ближе, чем к Паше. Он летось был. Испужалась. Бородища черная. Жена махонькая, и башмачок на ножке чуть поболе Оленькиного... А вот эти были Сашку посажены. А Сашко – батальонный комиссар. А что за чин такой – я толком и не знаю. Алеша твой вот капитан, так это ясно, а то какой-то батальонный. Это Ванины. Ваня шофером. А занесло-то куда? Под самые что ни на есть небеса, на Памире гоняет над пропастями. За его больше всех душа болит. Отчаянная, отпетая головушка. Манила домой, мол, на машине-то И тут ездить можно, вон машин-то сколько, руками машет: «Скучно тут, мамаша, романтики нет». Это, значит, пропастей у нас нету, голову свернуть негде. Снится часто и все нехорошо.
– Отчаянному горько будет, как и папке нашему? – уточнил бабушкины мысли Сережа.
– Постой, балабон, не мешай. Это – Васины. Вася пошел по ученой части, в газетах служит, пишет, значит, вроде писателя. Читаю частенько: Василий Огнивцев. Во! А он мне сынок. Складно пишет. Голова. А в ентом углу – младших – Сережины и Алешины. Сережа тоже военный, только в малом звании – старшина. А эта, самая младшенькая, была отцом в день рождения Алеши посажена, так и нарекли: Алешина яблоня.
Мать тяжело вздохнула, смахнула углом платка слезину, сморщилась.
Надя слушала и удивлялась, не сад, а живая летопись семьи.
Вот где рос и воспитывался ее Алешенька, потому-то он такой добрый и честный. И радостно и горестно стало Наде: каково-то тут матери одной, каждый гвоздик, каждая царапинка гвоздиком на кирпиче или на коре дереза, каждая мотузинка и проволочка на ветке напоминает ей о руках, которые когда-то сделали это. Спеют в стареющем саду яблоки, соком солнечным наливаются и падают глухо августовскими вечерами на сырую землю и гниют, гниют, а Коли, Паши, Саши варят сталь, бороздят голубое небо, водят корабли по океанским просторам. И редки от них весточки, и редко навещают они родное подворье, и подолгу, подолгу стоит мать вечерами у плетня, высматривая из-под руки, не появится ли на шляху в золотистом кружеве закатных лучей курное облачко, не послышится ли рокот мотора, не пошлет ли бог желанных гостеньков? И никого не дождавшись, войдет старая мать в старый сад и, роняя крупные слезинки на землю, как роняют пожелтевшие листья старые яблони, начнет обнимать и гладить руками шероховатые стволы и шептать беззвучно: «Это – Пашина, это – Колина, а эта – Алешенькина, младшенького...» Ее грустные и светлые раздумья спугнул знакомый нагловатый голос. Оглянулась. Милюкин стоит около плетня, талинкой помахивает, скалится:
– С дождичком вас, соседушки, яблоньку-то как лучинушку пощепало, а славная была яблонька, и яблоки на ней были завсегда сладкие.
– А ты что, пробовал? – огрызнулась мать. Она соседа терпеть не могла.
– Пробовал, мамаша, пробовал, плетень-то рази помеха? Косте-то?
Говорит, а сам Надю глазами ест и шажок за шажком приближается, по голенищу сапога талинкой похлопывает. Золотой чуб прикрыл одну бровь, другая вскинута, на губах ухмылочка, зубы сверкают, как первый снег.
– И всегда-то ты, Костя, с жердинкой в руке.
– Люблю цветикам головки сбивать.
– Такой ты бессердечный.
– Слабость моя. Еще, значица, от детской поры приключилася, либо цветочки срываю, либо кому красные носорки из носу пускаю, а без того не могу, неспокойствие на душе.
– Что пришел-то?
– К Надежде Павловне разговор деликатный имею.
Надя вспыхнула, наклонилась, подняла Оленьку, прижала к груди.
– Слушаю вас.
– Книжечки завалящей нет ли какой почитать, скучища верхом се́ла, погоняет.
– Книг не взяли, – сказала Надя незлобиво, – мы ведь на несколько дней приехали, в отпуск. Вы к учителям обратитесь, у них найдется, или в библиотеку сходите.
– Это мы знаем, вашей хотелось.
– Извините, нету. Пошли, мама, прохладно что-то стало.
А когда Милюкин ушел, Надя снова вышла в сад, до густых сумерек ходила среди деревьев, любовалась спеющими плодами, вдыхала сладковато-терпкий аромат древесины, стояла, склонив голову, около раненой яблони и думала об Алеше. Потом ее мысли перенеслись на соседа. «Странный, – думала она, – ведет себя так, словно между нами ничего не произошло. Наглый он и бессовестный. Следит за каждым моим движением. Неприятен он мне, и боюсь я его, что-то зловещее и дикое прорывается в его взгляде, хоть бы скорее уехать».
Но шли дни, однообразные, тоскливые, высыхали на листьях и травах рясные росы, млели под отвесными лучами белые полдни, затуманенное солнце, бочась, клонилось к темнеющей гривке леса и выспевали закаты, а писем от Алеши не было.
Радость засветилась под низкими потолками в субботу под вечер. Мать весь день суетилась, топила баню, Надя наносила полные ушаты воды, заполнила котел, занялась уборкой. Вырядилась в поношенный сарафанчик в белый горошек, высоко подоткнула подол, оголив стройные белые ноги, прошоркала каждую половицу рогожкой, вымыла щелоком. Когда-то добротно крашенные полы давно уже полущились и теперь, хорошо промытые молодыми сильными руками, высыхая, отливали яичной желтизной, словно были натерты воском. Мать, переступив порог, выпрямилась, руками всплеснула:
– Батюшки вы мои, полы-то не наши стали, что-то оно значит, руки молодые.
Собрались идти в баню все вместе. А на крылечке Настенька-письмоносец. В голубых глазенках сияние, носиком шмыгает, протягивает конверт. Надя кинулась, выхватила из рук письмо, глянула, крикнула:
– От Алешеньки!
Тут же, на ступеньках, пробежала глазами по строчкам, кинулась к чемодану.
– Мамочка, мы в Суховичи едем, Леша в Суховичах.
– Стрекоза, побанься сначала, потом уезжай.
Надю словно подменили. Глаза влажно блестели, движения стали порывистыми, стремительными, голос по-девичьи чистым и звонким, с полных губ не сходила улыбка. Весело, с шутками и песенками помыла детей, накинув халатик, отнесла и уложила их в постель.
– Спите, грибочки, – ласково погрозила пальцем, – завтра к папке поедем, ту-ту-ту, пуф, пуф, пуф...
Долго и бережно мыла мать, оглядывая и ощупывая ее дряблое, взявшееся складками тело, перевела взгляд на себя, на свои, словно из мрамора, выточенные ноги, литые материнские бедра, тугой живот, вздохнула, задумалась: «Что делает с человеком время, ведь когда-то и она была молодой, красивой...»
– Неужели и я такая буду сухонькая, сморщенная, как грибок высушенный, – засмеялась грустно, – бабушка?
– Будешь, доченька, если доживешь.
– Нет, я такой никогда не буду. Не доживу. Сколько же мне надо прожить, чтобы такой стать? У-у, шестьдесят лет! Ой, как много жить мне еще осталось!
И опять весело засмеялась.
– А Леша станет меня любить, когда такая буду? Нет, разлюбит, на молоденьких будет заглядываться. Ух, противный, я вот ему задам. Пусть за молодыми не увивается.
– Чтой-то ты веселая ноне больно? Ой, доченька, не можно так шибко радоваться, сильно большая радость перед большой бедой душу смущает так сказывают старые люди, ты гляди.
– Мамочка, какая беда? Завтра к Алеше поедем, а мне с Алешей-то и Волга по колено.
– Ой, смотри...
Пока банились, солнце село, вечер поплыл над селом распаренный, духовитый. В саду подрагивали фиолетовые сумерки, между яблонь поползли нечеткие, расплывчатые лунные тени, где-то за околицей, на вечернем гульбище, тоскующе вздыхали меха, мягкие девичьи голоса поднимали протяжную песню, а когда голоса падали, слышно было, как в котлинке задыхаются от восторга бессонные лягушки.
Вечер прошел в радостных, возбужденных сборах. Уже первые петухи горланили по селу, когда Надя, наконец, угомонилась и легла в постель, улетела мысленно в неведомые, но уже дорогие ей Суховичи и уснула впервые за все эти дни счастливая и умиротворенная. И когда она, рассыпав по подушкам пушистые волосы, досматривала первый радужный сон, по родной земле, обливаясь потом и кровью, от заставы к заставе, от местечка к местечку тяжелым и горьким шагом в огне и дыму шла с запада страшная война.








