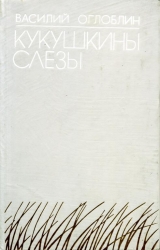
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Скоро осмотр будет, комиссия, на работу выписывать станут. А нога подживает. На мне всегда быстро все заживает, как на собаке. Порежу где или сшибу – враз затягивается. А мы вот малость подлечим, и опять загноение начнется, краснота пойдет, не выпишут. Кранк. – Он посмотрел на меня уже ласково, и глаза его улыбались. – Кранк, понял?
– Пропадет нога. Спилят.
– Лучше я без ноги останусь, а работать на фашиста больше не стану. Довольно, поигрались. Да и знаю я, как они подлечивают. В Дорндорфе случай был на моих глазах. Штольню мы тогда прокладывали. Поляка одного схватило. Молодой, кучерявый такой, а глаза голубые, как небо весеннее. Славный был поляк, добрый и не унывал никогда. Да, так вот, упал он, руками в живот вцепился, корчится, зубами скрежещет. Гауптшарфюрер недалеко проходил, увидел, подбежал, пинками поднимать стал поляка: «Что за комедия, польская свинья?» – «Аппендицит, пан гауптшарфюрер, – стонет бедняга, – гнойный, третий приступ, я врач, я знаю, что со мной...» – «Гнойный? – говорит эсэсовец. – Третий приступ? Так, так, сейчас поможем, сделаем операцию, польская скотина, комедиант, лентяй. На тачку!»
Эсэсовцы и капо перевернули вверх дном тачку, швырнули на нее поляка, задрали куртку, сорвали штаны. Рейхардт вытащил из кармана складной нож, засучил рукава, словно собрался разделывать свиную тушу, поплевал на руки и полоснул поляка по животу. Отхватил кусок какой-то кишки, выбросил, сплюнул и приказал зашить рану куском грязного шпагата, которым были обвязаны ящики с оборудованием.
«Я – владелец мясной лавки, – сказал он весело, – любую тушу разделаю, как француз лягушку. Освобождаю от работы на сутки, господин оперированный...» – И заржал, будто молодой жеребчик.
Поляк освобождением не воспользовался, он умер через шесть часов. Так, хлопче, лечат фашисты. А ты говоришь – подлечил бы...
Дубравенко опять забинтовал ногу, вздохнул и поднялся.
– Печь-то, хлопче, совсем остыла. Пойдем сны досматривать, может быть, жинка с ребятишками приснятся, страх как соскучился. Как они там бедуют без меня?
Он, неловко и тяжело приседая, поскакал на одной пятке. Влезли на нары, улеглись. Дубравенко порылся, кряхтя, в какой-то тряпице, вытащил заеложенную пайку, разломил, протянул половину мне.
– На, хлопче, пожуй.
Я стал неловко отказываться: пайка, мол, у каждого одна, и чего ради я должен есть чужой хлеб.
– Бери, бери, не ломайся, я свою съел, эту Луи подбросил вечером, на двоих. Ох, и тяжела да горька фашистская паляныця, как ком сырой глины с погоста. Бери, жуй. На сытое брюхо легче спится. Дай бог, переживем лихолетье, приедешь ко мне в гости, угощу я тебя тогда настоящей паляницей.
Но мы в ту ночь так и не уснули. Я попросил Дубравенко рассказать о себе, о прошлой жизни, о родном селе.
– Чтобы овладеть чужим языком, – начал доказывать я, – надо знать душу народа, землю, на которой он живет. Расскажи об Украине.
– Я этих твоих мудрых слов не разумию, – зашептал он мне. – Душа у народа проста. Он знает, видит свою землю, знает, что на ней надо делать, понимает: весна пришла – сеять надо, лето – косить надо, полоть, осенью – урожай убрать вовремя. Будешь сыт, обут, одет. Будешь здоров и весел. Всему голова – труд. Народ любит, умеет трудиться. Вот и вся душа. Встанешь, бывало, рано-рано, до восхода, легкий парок над ставом курится, левада вся в росе, от криниченьки Оксана идет, высокая, черная коса ниже пояса, несет на коромысле два ведра воды. Походка плавная. Несет и мне улыбается: мол, раньше тебя встала. А по селу, поднимая копытами пыль, уже бредет стадо. А за стадом тянутся запахи хлева, парного молока и кизяка. Дыши – не надышишься, любуйся – не налюбуешься. Как об этом расскажешь? А? Эх, хлопче...
Я слушал его рассказ, словно грустную и светлую музыку, навевающую милые и тоже грустные воспоминания. Я безошибочно узнал бы в толпе женщин его Оксану, так живо и ярко рисовал он ее портрет. Я видел и его село, раскинувшее белые хаты и вишневые сады по отлогим склонам глубокой степной балки, и зеленую леваду с копешкой сена у заснувшей реки, и старый осокорь в огороде, и вербу, посаженную отцом в день, когда Степан родился...
Утром мы неожиданно расстались. Дубравенко в числе других вызвали на комиссию.
– Прощай, хлопче, – угрюмо сказал он, – мабуть, уже не побачимось. Чует мое сердце – забреют молодца.
Он порылся в мешке, достал какую-то засаленную тетрадку в толстом переплете, вырвал уголок листа, поплевал на него и нацарапал огрызком карандаша несколько слов наискосок, из угла в угол.
– На вот, возьми, адресок тебе свой написал, живой будешь – отзовись. Дай бог тебе выжить, хлопче.
Он отвернулся. У выхода зычно прокричали его номер. Дубравенко обнял меня, оттолкнул, махнул рукой и пошел, слегка припадая на больную ногу и сутуля широкие плечи. У дверей его загородили спинами другие, а за порогом уже орали эсэсовцы, подгоняя, и я потерял его из виду. На душе стало холодно и тоскливо. Много довелось мне к тому времени изведать разлук, но эта была какой-то особенно острой и печальной, словно часть сердца оторвали, а ведь знал я Степана Дубравенко всего одну ночь.
В тот же день меня перевели в тифозный блок, хотя ни сыпи на теле, ни высокой температуры у меня не было. По взгляду и успокоительному кивку Луи Гюмниха я понял, что, по-видимому, так было нужно. И я совершенно спокойно поплелся за санитаром в самый страшный блок – блок обреченных и умирающих.
...И вот я в Веселой Балке. У въезда в село нас встретила километровая тополиная аллея. Могучие деревья стояли двумя правильными рядами по бокам асфальтированной дороги, прокалывая кронами глубокое голубое небо. Слева от аллеи цепко карабкался по крутым скосам глубокой балки молодой виноградник, справа плавал в синем безбрежье колхозный сад. Комелястые, разлапистые яблони зябко вздрагивали ветвями от непривычного обилия влаги в корнях, и от дерева к дереву, словно сказочные лебеди, плыли, продираясь через ветви, белые пушистые облака. Село привольно раскинулось по отлогим бокам оврага; белые хатки живописно теснились по скосам, царапались на пригорки, щурились на солнце. Машина бойко скатилась с бугра, перепрыгнула деревянный мостик и поплыла, пофыркивая, по залитой талыми водами улице. Я глаз не отрывал от левады. Широкая, густо поросшая вековыми вербами и ольхой, с вышедшей из берегов речушкой, левада простиралась во всю длину села, и летом, по-видимому, была тенистой, сочно-зеленой, яркоцветной от лугового разнотравья и обилия цветов.
В сельском Совете, куда мы заехали справиться о Степане Дубравенко, мы попали к председателю, голове по-здешнему. Из-за стола навстречу нам вышел молодой плотный человек в белой украинской сорочке с расшитым воротом и в вельветовом пиджаке свободного покроя, прогудел басом:
– Машину знаю, райкомивська, а люди – незнайоми. Проходьте, будь ласка, слухаю вас.
Я сказал, что приехал навестить старого товарища, Дубравенко его фамилия, да не знаю, туда ли я попал и вовремя ли приехал. Председателя мои слова явно заинтересовали. Он погладил голову, улыбнулся:
– Хмм... Дубравенко навестить? Ну, я и буду Дубравенко.
– Да нет, вы по возрасту не подходите. Нам нужен Степан Дубравенко. Отчества, извините, не знаю.
– Степан Владимирович Дубравенко – мой отец. – Он перешел на русский язык. Говорил чисто, без намека на акцент, с каким говорят украинцы на русском. – Мой родной отец.
– Он жив? – дрогнувшим голосом спросил я, боясь услышать в ответ, что его нет и я опоздал.
– А как же, жив. Ну, а теперь выкладывайте, откуда вы знаете моего отца?
– Да нет уж, покажите лучше, где он живет. А то, может быть, это и не тот Дубравенко.
– Могу проводить. Садитесь в машину, поедем, дорога, правда, сейчас плоховатая, да как-нибудь доберемся.
Машина то плыла, то ловко ныряла по глубоким извилистым колеям, петляя по кривым заулкам разбросанного села. Сын Степана Дубравенко, с любопытством посматривая на меня, рассказывал:
– Отец старый, семьдесят третий год пошел, но крепкий еще, старой закалки, хоть и инвалид.
– Как инвалид? Ноги нет? – не утерпел я.
– Да, без ноги после войны вернулся. – Он опять окинул меня изучающим взглядом.
– С фронта?
– Нет, на фронте он не был. Где-то в лагерях потерял ногу. Рассказывал, да я забыл название городишка, они у них все на одну колодку: штадты, штадты... а этот как-то мудрено называется.
– Ордруф? – невольно вырвалось у меня. Он заметно оживился.
– Оно, оно, Ордруф. А откуда вам известно?
Я помолчал. И вспомнил, как в тот день, когда Дубравенко вызвали на комиссию, Луи Гюмних пришел мрачный, скупо рассказывал: «Транспорт сколотили в большой спешке – торопит Берлин, эсэсовцы лютовали весь день, обшарили лагерь, рыскали всюду, сгоняли людей на аппель. Отбирали самых рослых и сильных. Отобрали тысячу человек и под усиленным конвоем отправили в Ордруф. Говорят, что будут строить новую подземную ставку фюрера. Все держится в строжайшей тайне. Видимо, всех, кто будет строить этот объект, уничтожат».
«Как же не уберегли Дубравенко, да и нога у него больная?» – наивно спросил я. «Рослый он, широкоплечий, вот и приметили, а нога больная, так эсэсовцы плюют на это, говорят, что и на одной ноге можно отлично прокладывать штольни». – Луи развел руками и ушел своей тяжелой, усталой походкой.
«Эх, Дубравенко, Дубравенко, – подумал я горько, – невезучий ты, не успел вырваться из одного подземного ада и опять под землю, каково-то тебе там будет? Опять не видеть ни восхода солнца, ни его закатов, не слушать ни шума дождя, ни свиста ветра...»
А председатель продолжал:
– Недавно на пенсию пошел. И сейчас не сидится дома, работает еще. На ферме. До пенсии был секретарем парторганизации колхоза, а сразу после войны руководил колхозом, хозяйство восстанавливал. Село наше почти дотла выжжено было фашистами при отступлении, бои сильные тут шли...
Машина остановилась около кирпичной хаты. Веселые окна смотрели на мир приветливо, окрашенная в голубой цвет веранда излучала теплоту. Просторный двор был окружен новыми хозяйственными постройками, а дальше, до самой левады, полого спускался большой любовно ухоженный сад.
На стук из хаты выбежала черноволосая смуглая девчушка лет пяти, протянула тонкие ручонки, весело защебетала:
– Дядечку, ридный мий дядечку...
– Дэ дид, Ксаночко?
– Дидусь, мабуть, у коровнику, зараз поклычу.
Из сарая вышел сухой старик, воткнул вилы в кучу навоза, вытер о полы фуфайки руки, шагнул навстречу, тяжело припадая на деревянную ногу. Это был он, Степан Дубравенко.
– Здравствуйте, Степан Владимирович.
– Добрый день, люди добрые, проходьте до хаты.
– Постоим тут, – предложил я, – воздухом вашим благодатным подышим. У вас тут раздолье, левада с осокорями и вербами, вот копешки сена что-то не вижу.
Я хитро улыбнулся.
По лицу Дубравенко пробежала легкая тень, он оглянулся на леваду, сказал быстрой скороговоркой:
– Була, да Лысуха пожрала. Ось травень вымахнет травы – знову накосымо. А что это вы про копыцю?
– Татко, балакай з ными по росийськи, воны не розумиють.
– Можем и по-русски, – согласился Дубравенко. – С чем пожаловали?
Я вздохнул. Мне не хотелось так быстро раскрывать секрет, тем более, что он меня не узнал: тридцать лет в нашей жизни – срок немалый. А он почти не изменился, только вместо ноги, на которую он прихрамывал в лагере, теперь торчала деревяшка, да морщин на лице добавилось, да седой совсем стал. Молчание было неловким, и я спросил:
– Не узнаете?
– Щось, хлопче, не пригадую. Голос дюже знайомый. – Он долго и пристально смотрел на меня, прищурив по-молодому проницательные глаза. – Ни, не пригадую.
– Тату, балакай по-русски!
– Угу.
– Бухенвальд помните?
Дубравенко помрачнел. Седые брови дрогнули и сошлись к переносью.
– Такое, хлопче, не забывается.
– Ну вот, Бухенвальд помните, а меня забыли.
– Давно было дело, – как-то виновато проговорил он, – забыл. Не припомню что-то.
– А малый лагерь помните? Шестьдесят первый блок помните?
– Ну, ну...
– Луи, старосту помните?
– Ну, ну, так, Луи помню.
– А бокс помните? Ночь, дождь стучит по крыше...
– Ну...
– А как ногу подлечивали у чугунной печки куском шлака...
– Ну...
– А паляныцю? Па-ля-ны-ця!
Лицо его дрогнуло. Он с минуту смотрел расширившимися от удивления глазами, потом кинулся ко мне, стиснул огромными ручищами, запричитал:
– Паляныця ты моя дорогесенька, помню, помню, деревянный язык, паляныця, родной ты мой, милый ты мой. Разве узнаешь? Столько лет прошло. Голос сразу узнал. Ах, ты, друже ты мий дорогесенький. Что ж молчал долго? Я ж тебе адресок дал.
– Вот он, Степан Владимирович, ваш адресок, – я протянул ему клочок немецкой бумаги с красными линиями.
– Он, он. А что же ты молчал? Сказал же я тебе: выживешь – отзовись. А ты молчал. Думал, что погиб ты, хлопче.
– Не мог адрес найти. Много раз искал и не мог. А неделю назад...
– Проходите в хату.
Хата оказалась четырехкомнатной уютной квартирой городского типа. Современная мебель, книжные шкафы, забитые книгами, стопка свежих журналов на этажерке, цветной телевизор – все говорило о том, что живет здесь культурная хорошая семья. В передней нас приветливо встретила молодая смуглая женщина с высокой короной смолянисто-черных волос на маленькой красивой головке. В больших с лукавинкой глазах вспыхнуло женское любопытство.
– Настенька, – ласково обратился к ней Дубравенко, – принимай-ка гостя. Кто такой – узнаешь. Поласковей с ним, у него душа нежная.
Настя смутилась. Красивое лицо вспыхнуло румянцем. Она вытерла мокрые руки о чистый передник, протянула маленькую смуглую ручку.
– На одних, Настенька, нарах с ним лежали, крошкой горького хлеба делились, как братья. Ты поспеши, доченька, сейчас гости будут, праздник у Дубравенко будет. Большой праздник.
Настя бросила на меня пытливый взгляд и скрылась на кухне.
– А где же Оксана? – оглядываясь по сторонам, спросил я громко.
Настя выглянула из кухни и позвала:
– Ксаночко, Ксаночко, иди, дядя зовет.
Степан Владимирович потемнел, сказал печально, тихо:
– Нету, хлопче, Оксаны, не застал я ее. Не суждено было свидеться.
– Умерла?
– Если бы умерла. Погибла. Перед самым освобожденном, в конце сорок третьего. Летчика нашего тяжело раненного прятала в погребе. Донес кто-то. Пришли и ее и летчика расстреляли. Вон там, под той грушей у погреба. Ребятишки по чужим хатам, словно мышата слепые, расползлись. Володьке, старшему, семь было, Пете – пять, а Ваня совсем мал был, в сорок первом родился. Вернулся я, хлопче, к пустому месту – зола да пепел на месте хаты. Когда я тебе рассказывал об Оксане, ее уже не было. С мертвой, выходит, разговаривал я по ночам и рассказывал тебе о мертвой. Оттого так душа болела в ту пору.
Подбежала Оксанка. Протянула доверчиво ручонки. Я взял ее, поднял над головой, прижал к лицу, поцеловал в темные волосики.
– Есть Оксана! Вот она, красавица.
– Вылитая бабушка, – погладил внучку Дубравенко, – утешение мое, радость моя последняя. Называю жену бабушкой, хлопче, а ведь ей тридцать пять лет было, когда убили. Беги, Ксаночка, гуляй, пусть дядя отдохнет. Проходите в зал, устраивайтесь, а я Насте помогу.
Через час собрались все Дубравенки. Вернулся с двумя увесистыми спортивными сумками знакомый уже «голова» – старший сын с женой Катрусей, краснощекой веселой женщиной; подкатил на мотоцикле средний сын Петро, бригадир тракторной бригады, рослый, атлетического сложения, и тоже с женой. Чуть погодя пришел младший, Иван, муж Насти, скинул в прихожей кирзовые сапоги с комьями присохшей грязи, прошел в носках на кухню, шумно отфыркиваясь, умылся, оделся в чистое, вышел светлый, сияющий, веселый.
– В курсе дела, тут чаркой пахнет! Передохнем. А то крутимся, вертимся, глаза в гору поднять некогда. Ну, здравствуйте. Отвернись, Петро, жинку твою поцелую.
– Я кого-то, кажется, поцелую по потылице, – весело отозвалась с кухни Настя, – толкушка как раз в руке.
Все засмеялись. Дубравенко по случаю торжества снял деревяшку, ходил по комнате высокий, прямой, торжественный, поскрипывал протезом и, как там, в лагере, слегка припадал на левую ногу. С кухни раздался звонкий голос Насти:
– Потерпите две минутки, я переоденусь.
И нырнула в соседнюю комнату. Вышла оттуда быстро, нарядная, пригласила всех к столу.
Сели за стол. Притихли. Дубравенко поднялся. Оглядел всех. Откашлялся. Я приготовился слушать его торжественный тост, думая, что поумнее сказать самому – люди собрались солидные, серьезные.
– Хлопче, – начал Дубравенко, – ты уж прости, я тебя по-братски, без величаний, сон наш сбылся, ты сидишь в моем доме. Тяжко было нам верить в это тогда, в сорок четвертом. Но мы верили. И не только верили, но и боролись за это. И вот я показываю тебе свое богатство. Гляди. Гарно гляди, хлопче. Фашисты хотели Дубравенко под корень, навсегда выкорчевать и забыть. А Дубравенки живы. Вот они. Видишь, какие. А белая паляница на столе. Все есть, и все будет. На веки веков.
Дубравенко свел седые брови к переносью, низко уронил голову.
– Да, хлопче, ты спрашивал, что было со мной дальше... Тогда из бокса шестьдесят первого блока в Ордруф я попал, в команду «С-3». По сей день снится. Проснусь в холодном поту, сорвусь, выкину вперед сжатые кулаки и защищаюсь. Там мне и ногу отпилили. Из той тысячи, что нас тогда отправили из Бухенвальда, несколько человек уцелело, в инвалидный транспорт попали, это и спасло... да что мы все про фашистов да про фашистов. Ну их всех к черту!
– К чертям фашистов! Хай воны сковородки на том свити лижут, поганые, давайте лучше выпьем, – предложил Петро.
– За богатый хлеборобский род Дубравенко, – предложил я, – пусть он продолжается вечно, до тех пор, пока светит солнце!
Все выпили. За столом стало шумно. Дубравенки оказались людьми веселыми, с юморком. Посыпались шутки, остроты.
– К чертям фашистов! – весело предложила Катруся. – Хиба мы на поминках, давайте лучше споем нашу, украинскую. – И, не дожидаясь согласия, запела приятным грудным голосом:
Ой, гоп не пила,
На веселии була,
Да господы не втрапила,
До сусида зайшла...
Все подтянули. Голоса густые, сочные. И полилась, заплескалась веселая шуточная украинская песня:
И в комори и на двори
З нежонатым удвох
Пустували, жартували,
Зопсували горох...
– Петро, поцелуй мою Настю, а я твою Ольгу, – не унимался Иван.
Петр зажмурился, закрыл глаза руками.
– Целуй! Но Настя была серьезной, даже печальной; ее большие темные глаза сверкали непролившейся слезой, их влажная притягательная глубина словно вспышками озарялась чем-то ласково-нежным и сострадальчески-горьким; высокая грудь вздымалась тревожно, дыхание было прерывистым. Когда вышли из-за стола перекурить, она поставила на проигрыватель «Бухенвальдский набат». Полились гневные, скорбные и величественные звуки. Веселый смех оборвался. В комнате стало тихо, тихо. Звуки набата напоминали живым и предостерегали...
За окнами подрагивали сумерки, по селу загорались огни, а мы говорили, говорили, ели вареники, в сметане, пили, похваливая, кисели и наливки, грызли моченые груши, яблоки, охлаждали желудки кавунами. Было уже поздно, когда зачихали мотоциклы и гости разъехались. Дубравенко провел меня в небольшую уютную комнатку, расцеловал.
– Це тоби, хлопче, люкс, видпочивай. А ну скажи: паляныця.
– Паляныця, – сказал я и сам удивился, как легко выговорил я это слово.
– Оце гарно. Спи, друже. Спи счастливо.
Он ушел. Но спать не хотелось. Я подошел к окну. Прислушался. Ржаво поскрипывала под окном старая груша. У нее, как и у меня, вероятно, ноют по ночам старые раны. Терся о стены намотавшийся за день ветер. Сухо хрустнула, ударившись о ледяную корку, обломившаяся ветка. Оборвалась с карниза тяжелая сосулька. Ночь была полна звуков. Была полна звуков и моя бессонная память.
КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ
Дед Тарас, по-уличному Етово-тово, после смерти жены Наталки доживал тихо, бессуетно, одиноко в полупустой просторной хате с веселыми, улыбчивыми окнами на три стороны и застекленной голубой верандой. Да еще доживали свой век вместе с ним окривевший черный кот Цыганок, одинокая груша с покоробившейся от времени корой на узловатом стволе, пригорюнившаяся в дальнем углу двора над давно высохшей криницей, да древние кусты красной смородины под окнами, посаженные еще покойной Наталкой в молодые годы. А на одиннадцатом году одинокой жизни случилась беда: одурел семидесятилетний дед Тарас, женился на бойкой пышногрудой еще молодой, сорокапятилетней, доярке Груне, вдовой с первого года войны. Женился, ко всеобщему изумлению сельчан, в одночасье, и вот живет уже почти год, провожает ни свет ни заря свою Груню на ферму, пьет вечерами парное молоко, носит чистые штаны и сорочки, и хотя много времени отнимает у Груни ферма, но деду Тарасу остается кое-что.
Высокий, худой, чуть сутуловатый, но по молодому широкий в плечах и скорый на ногу, проводив Груню на ферму, он ежедневно обходил разумкой пустой двор, Заросший рыжим спорышем, садился на пригреве на завалинку, сидел часами, заговаривая с редкими прохожими.
Вот и в это тихое солнечное утро вышел Тарас во двор, поглядел из-под ладошки на веселое солнце, поднимающееся в голубом небе над далеким степным курганом, на дымящуюся молочным туманом речку, ка умытую росой зеленую леваду, вздохнул:
– Ишь ты, благодать-то какая, помирать не надо, рази травички пойти покосить, етово-тово, руки старые размять?
Но мысли его спутал сосед, неторопливо проходивший мимо двора. Дед Тарас встрепенулся, подался чуть вперед длинным туловищем, заговорил:
– Что, Федот, ведро, слышь, установилось, етово-тово.
– Ведро, дед Тарас.
– Как думаешь, надолго?
– Думаю, надолго.
– В бригаду, небось.
– А, в бригаду, время горячее.
– А, ну давай, давай, тово-етого...
И опять сидел, рассматривая полузасохшие ветки смородины, уже давно переставшей родить алые крупные ягоды.
– Усохла, стерва! – выругался незло. – Не хочет порадовать вкусной ягодкой, как в прежние лета, а и то пора уже, пора...
И опять вернулся к прежней мысли.
– Рази травички пойти покосить?
Подумал минуту и решительно шагнул к клуне, достал из-под стрехи литовку, провел желтым ногтем большого пальца по ржавому лезвию, вскинул косу на плечо.
– Пойду, покошу, разомнусь, етово-тово.
И травичка-то деду не нужна вовсе – ни коровенки захудалой, ни козленка во дворе – просто так, душу отвести. А травичку, как подсохнет, подберут люди добрые, да еще и спасибо скажут деду Тарасу. Спустился б дальний конец левады, выбрал сочную зеленую еланку и пошел косить: вжжжжик, вжжи-и-ик. А вокруг тишина, вспыхивают радугами росинки на высокой траве, машут метелками и перешептываются камыши в леваде, заливаются в камышах малиновым звоном очеретницы. Прошел от дремотного ручейка по буераку в гору два прокоса. На самой вершине буерака споткнулся словно – выдернул резко косу из травы, припал на правое колено, пошарил в валке и бережно вытянул сбритые под самый корешок кукушкины слезы.
– Ах ты, беда какая, – сказал испуганно и сожалеюще, – кукушкины слезы скосил, Наталкины цветики любимые. Ах и любила их покойница, ногой ступнуть на них боялась, а я возьми и скоси. Неладно, ах, как неладно...
Упали, рассыпались кукушкины слезы, и показалось Тарасу, что плачет цветок кроткими чистыми слезами.
– А и в самом деле, – умилился дед, – есть в них что-то жалостливое, душу бередящее.
И засосало под ложечкой у деда Тараса. Бросил косу на валок душистого разнотравья, сел на окосье, задумался крепко. Наталку покойницу, жену свою первую, как живую увидел: ходит с граблями, голыми икрами мелькает, не то сеном подсыхающим шуршит, не то спидницей цветастой. Покружилась, покружилась, стала напротив, смуглые руки на граблях сложила, смотрит укоризненно. «Скосил? – спрашивает дрожащим полушепотом. – Забыл меня? Эх, Тарас, Тарас...»
Хусточка полинялая заячьими ушками повязана. Покачала головой, грабли на плечо вскинула, икрами сверкнула и – только шум в некоси. Вздрогнул дед Тарас.
– Фу ты, словно и вправду, етово-тово, живая была, словно не лежит она одиннадцатый год в земелюшке. А ведь и то правда, забывать стал я Наталку, давно у нее на могилке не был, не беседовал с ней, покойной. Как же это, а? Забыл-то ее как, а?
Солнце уже припекать стало, а дед Тарас сидит, голову кучерявую седую уронил, думает, годы прожитые, словно книгу перелистывает: десять лет прожил он без Наталки, как пень в изножье у молодого леса выстоял, и над каждым годом – хмарная наволока, на одиннадцатом году тучи солнышко продырявило – Груня. Зашептал быстро:
– Может, лишний одиннадцатый-то, а? Может, не надо было с Груней-то, етово-тово, а?
И опять, как в явь, увидел дед Тарас ту лунную предосеннюю ночку на лугу, под вербами, в летнем таборе доярок, куда на лето призначила Оксана Лазаревна его сторожем. Из копешки свежего сена исходил пьянкий, дурманящий аромат чебреца и степной полыни, гроза надвигалась, в котлинке где-то тоскливо и одиноко плакал кулик. Может, кулик тот и виноват во всем: так растревожил он его одинокое стареющее сердце своим тоскливым бездомным плачем. А луна-пересмешница то закроется стыдливо рукавом, то опять подсматривает и лукаво ухмыляется. До сих пор еще не выветрились из густой дедовой бороды запахи чебреца и горько-полынный аромат незнакомых деду духов, истекающий из густых Груниных волос, до сих пор еще обжигают шершавые Грунины губы. Тогда и вошла она в его жизнь, Груня-то, горемычно вошла, запоздало. «Может, не надо было с Груней-то, а?» И опять оправдание для совести: не сбылась затаенная мечта его жизни, тридцать пять лет прожили, как один день, в любви и мире, а оставить после себя нечего, не дал бог детей, умерла Наталка, скоро умрет и он, и затеряется само его имя, как былинка в степи, во чистом поле. Ломкой, ненадежной соломинкой последней надежды и стаяв для него Груня. «А вдруг, – утешал он себя бессонными ночами, уважительно поглядывая на пышные белые груди спящей Груни, – а вдруг, етово-тово? Баба она еще ядреная, здоровая...»
– Теперя все! Конец! – сказал Тарас вслух, легко отделился от земли, выпрямился, сухой, строгий. – Все! Отцвели и отплакали кукушкины слезки.
Тряхнул седыми кудрями, размашисто зашагал от левады в гору, к хатам, да так быстро, что длинная дедова тень, перепрыгивая через канавки и цепляясь за кусты, едва поспевала за ним. В хату не пошел, косу не повесил бережно под стреху, а бросил зло на поленницу.
– Ну вот, – сказал сам себе, – теперя схожу на бугор, с Наталкой побеседую, место себе рядом с ней выберу, да и в путь стану собираться, хватит уж, пожил, погрешил, людей посмешил.
На бугор, где в подножье у вековых акаций густо натыканными крестами горюнится сельское кладбище, пошел прямиком через свой и соседов огороды.
– Добрая в этом году огородина будет, дожди прошли в самую пору, в самый аккурат угодили.
Ласково, хозяйской рукой погладил шелковистую гриву вымахнувшего в рост жита, опять порадовался:
– И жита хороши в этом году будут, уже, считай, в колос пошли, етово-тово...
Остановился, полюбовался, как перекатывается по полю мелкая зыбь, как шутник ветер кувыркается в густом житном клину, а то схватит жито за чуб и заставляет земле кланяться.
– Кланяйся, кланяйся матушке-кормилице, эти поклоны не зазорны, – сказал громко, повелительно и махнул через огорожу, легко перекидывая длинные ноги. И упрекнул себя в душе за то, что настроен уж больно радостно, удивляется всему, ликует, посмирней надо бы.
На кладбище зашел бесшумно, бережно прикасаясь ногами к густому ковру разнотравья. Сел в изголовье Наталкиной могилы, на самом пригреве, сорвал листок любистка, размял в пальцах, понюхал. «Летом пахнет, жизнью пахнет, – подумал горестно, – а вокруг – могилы, смерть вокруг».
Острый приступ тоски сковал сердце. Уронил низко седую голову.
– Вот она, смерть-то, слева, справа, какого креста ни коснись взглядом – человек под ним, жил когда-то, спешил куда-то, знал он этого человека, помнит, вот только лица как-то расплываются, нечетко видятся, – шептал беззвучно. – Натальино – тоже.
Долго молчал, вздыхал. Заговорил быстрым бормотком, словно боялся, что не успеет выговориться:
– Ты прости меня, Наталушка, не серчай за кукушкины слезы, за Груню не серчай, пришел вот я, место облюбовываю рядом с тобой, скоро и лягу тут, недолго уж ждать-то осталось, етово-тово.
И опять вздохнул тяжело, искренне, голову уронил еще ниже.
– Прости ты меня, Натальюшка, что не один я дни свои останние доживаю. Не мог я один, пойми ты, жизнь-то теперя рази такая, как при тебе была, десять лет назад? Рази могу я один, стареющий, поспевать за жизнью-то? Ах, Наталка, Наталка, жалко, что не видно тебе из-под холмика этого, до чего жизнь хороша стала, а быстрая какая жизнь-то стала, беги как напонужанный и то не успеешь, такая быстрая жизнь стала. И опять же – не останется после нас потомства для жизни этой сладкой, а? Пойми ты это, Натальюшка, и не осуждай меня, али ты добра не желаешь мне. живому? Пока есть жизнь, то куда денешься, жить надо...
Проговорив эти слова, дед выпрямился, сердито огляделся кругом и даже ногой притопнул.
– Душа у тебя, Наталья, добрая. Знаю – простила. Спасибо. А теперя все! Пожил. Хватит. Жди меня, Наталья. Жди. Скоро и явлюсь, етово-тово.
Долго сидел так дед Тарас, траву шелковистую на дорогом холмике бережно гладил, листики прошлогодние, засохшие из молодой зелени выщипывал. И опять, уже вдруге, поймал себя на мысли, что вовсе не думается ему о смерти. Сидит у могил, о смерти говорит, а скорби настоящей в душе нет, и страха, холодящего сердце, нет. А земные грешные мысли лезут в голову, вытесняют возвышенные и скорбные: «Груня что-то раздобрела уж очень, в теле шибко округляться почала, может, парня носит?» И тут же спохватился, резко дернул себя за ус.
– Ах ты, пес старый, о каких делах в таком месте помышляешь? – рассердился на себя дед Тарас, резко встал, поклонился низко крестам и зашагал к низкорослым горбатым воротам, скоро опять же зашагал, бодро, и кладбищенские заросли жимолости и бузины пугливо и покорно расступились перед ним.
Домой вернулся мрачный, тенью поблукал по подворью, что в руки ни возьмет – все из рук валится. Зашел в хату, заглянул в макитру – вареники остывшие. Поморщился. Бухнулся в чем был на постель, вбил остановившиеся глаза в потолок, да так и лежал неподвижно, пока не задремал. Очнулся – тихо вокруг, луна запуталась в густой кроне явора, рядом Груня спит, посапывает сладко, сны, небось, видит. Молодая еще, сладко спится после фермы. Ворочался с боку на бок, вздыхал: «Не усну». Встал, вышел во двор, прошелся, неловко ступая босыми ногами на теплую землю, сел под сараем на колоду, неловко показалось – пересел на дубовый чурбан, на котором дрова колет. Огляделся, прислушался. Земля спала, небо дышало тревожно и таинственно, хрущи в кроне гудели. Где-то, прямо над головой, на осокоре должно быть, вскрикнула во сне птица, да так пугливо, так жалостливо, что Тарас вздрогнул. «Ишь ты, сон дурной привиделся». Заметил: ушат десятиведерный стоит посередке двора. «Сроду не приберет Груня до места», – незло подумал и хотел было встать, прибрать ушат, глядь, а в него луна до краев налила жидкого света, и начал он плескаться через край, потек в разные стороны бесшумными ручейками. «Так и жизнь моя по края переполнена, – подумал Тарас, – а что поделаешь? Время, етово-тово. Вот абрикос цвел, плоды завязались и уже красуются под солнцем, соком сладким наливаются, а созреют – к земле потянет. Так вот и я. Просто все и мудро: поцвел, пошумел, сделал свое дело – уступи место другим... А зря осенью не посадил абрикосы, пустует земля, бурьяном зарастает, жив буду – осенью непременно посажу десяток абрикосов...»








