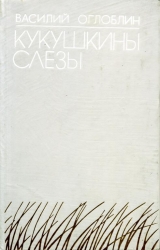
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
И Бакукин тоже рассказывал о своем Чулыме, о сибирской тайге, о шишковании, о встрече с медведем, о таежных рассветах. Она смотрела во все глаза, как слушающий сказку ребенок, и вздыхала:
– Ой, Сережа, как это интересно!
Однажды после такого рассказа она вдруг резко перебила его:
– Вы будете иногда вспоминать меня? Это так хорошо, когда кто-то будет вспоминать тебя.
И, не дождавшись ответа, попросила ласково:
– Пожалуйста, вспоминайте иногда.
– Вы очень сентиментальны, Богуслава. Крестьянская девушка...
Она удивленно вскинула глаза.
– Разве я вам это говорила? Нет, Сережа. Я – панна. Из древнейшего рода польских шляхтичей. Мои предки были опорой польского короля, защитниками отечества.
Летом сорок первого я с отличием окончила Краковскую гимназию, училась музыке, любила литературу, особенно поэзию, и очень много читала. Я мечтала о красивой жизни, красивой любви. Строки Адама Мицкевича «Панна плачет и тоскует, он колени ей целует...» приводили меня в восторг...
Ей шел семнадцатый год, когда немцы напали на Россию. Они с матерью уединились в своем родовом имении под Краковом. Отца уже не было в живых. Он погиб в первом бою с немецкими захватчиками еще первого сентября тридцать девятого. Летом сорок второго она поехала в Краков к родной тетке, пани Ядвиге, известной польской актрисе, за лекарством для мамы. На вокзале попала в облаву, схватили, как базарную воровку, и бросили в лагерь. Натерпелась унижений и оскорблений. Потом погрузили в вагоны и привезли в Германию, определили в серый особнячок с колоннами на тихой Гартенштрассе. Что за страшное заведение притаилось в тихом тенистом саду – поняла сразу. В первую же ночь сбежала. На рассвете поймала полиция, вернула к фрау Пругель. Одна старшая товарка, француженка, посочувствовала, дала яд. Но он оказался слабым для ее молодого организма, и ее спасли. Посадили в темную кладовую, на кусок хлеба и кружку воды. Потом поддалась уговорам, примирилась. И вот – именитая польская панночка днем гуляет по роскошному саду, «приобщается к божественному и тайному», а ночью ее покупают у фрау Пругель пьяные офицеры, немощные беззубые старцы и сопливые юнцы...
Рассказав это, Богуслава впервые за все время их знакомства всплакнула стыдливо и трогательно.
– Маму жалко, – призналась она, – ждет, бедненькая, все глаза просмотрела и выплакала. Наверное, каждый день ходит в костел, молится деве Марии, просит о помощи. Если бы она знала, если бы ока знала все...
Бакукин пробовал успокоить ее:
– Вот закончится война, вернетесь к маме, в свое имение и тогда...
Она перебила его жестко, почти зло:
– Нет, они никогда ничего не узнают! Да, да, я для них навсегда умерла, да и для себя тоже. А вы говорите, что жить всегда и всем хочется...
На седьмые сутки Богуслава забежала рано утром и застала Сергея спящим. Села, обхватив руками колени, заговорила нервно, раздражительно:
– Ну и ночь была, Сережа, сумасшедшая, гадкая. Все пьяные, омерзительные. Гибель чувствуют и заливают страх и тоску вином. Пир у выкопанных могил. – Упала устало на солому и жутко захохотала.
– Вальтер вот тебе, Сережа, бери, бей их, гадов, и помни Богуславу...
Она протянула новенький никелированный пистолет. Бакукин присмотрелся к ней в шатком свете свечи. Под глазами густо легли фиолетовые круги, лицо было бледным, усталым и нервным, к тонкому аромату духов, который она всегда приносила с собой, был подмешан дурно-кисловатый запах хмельного перегара. Нахохотавшись, она серьезно попросила:
– Сережа, ударьте меня по лицу, сильно, по-мужски ударьте.
– За что же? Богуслава, ведь я все понимаю.
– Понимаю, понимаю, что вы понимаете? Или вы ничего не видите?
И глаза наполнились слезами. Выплакавшись, она ушла, пообещав наведаться днем. На фруктовом ящике лежали почти новые диагоналевые штаны темно-синего цвета, вельветовая куртка немецкого покроя, кожаная фуражка, какие обычно носят немецкие шоферы и портовые грузчики, добротные хромовые ботинки с рыжими крагами. Бакукин нетерпеливо посматривал на вещи и решил сегодня же сказать Богуславе, что ему пора уходить. Где она раздобыла все это, он ее не спросил: она как-то неохотно рассказывала о своей теперешней жизни, даже зло, и он старался не тревожить ее.
Богуслава пришла очень рано, задолго до рассвета. Но Бакукин уже не спал. Заплывая салом, догорала свеча. Он был одет в немецкую одежду и, сидя на соломе, щелкал вальтером, когда услышал ее торопливые легкие шаги. Он безошибочно узнавал ее по легкой походке и шороху платья. Но сегодня Богуслава была в брюках и блузе. Голова была повязана косынкой узлом вверх, как носят немки.
– Всю ночь бомбили, и гостей не было, – коротко пояснила она. – О, а вы уже в полной форме, и вас не узнать.
– Богусенька, извините меня, но где вы в такое трудное время смогли достать все это? – Он показал на одежду. – Если не секрет, конечно?
Она взглянула удивленно, улыбнулась.
– Не бойтесь, не украла. Есть у нас один старичок, садовник, очень тихий и добрый. Я поговорила с ним. Он посмотрел на меня подозрительно, но ни о чем не спросил. Некоторые гости щедро платят, и у меня были кое-какие сбережения, я их отдала садовнику, и он принес все это.
– Свет не без добрых людей. Теперь я спокоен. В случае, если меня поймают, то хоть в грабеже не обвинят. И вот что, Богуся, мне пора уходить. Сегодня же. Я солдат, и мне надо бить врагов.
– Куда же вы пойдете?
– Буду пробираться к американцам, они рядом.
Она долго молчала, уронив голову, а когда подняла ее, он увидел наливающиеся слезами глаза, полные отчаяния. Бакукин понял, что ей трудно расставаться, что-то недосказанное томило и мучило ее.
– Да, да, конечно, – дрожащим голосом проговорила она, – только не сейчас. Ночью. Хорошо? Я весь день буду с тобой и ночью провожу тебя.
Она впервые назвала его на «ты».
– И ты, Богуся, пойдешь со мной.
Смысл слов, кажется, не сразу дошел до нее. Она долго молчала, тревожно и ласково глядя ему в глаза, ответила быстро, испуганно:
– Нет, нет, что ты, это невозможно.
– Почему?
– Не надо об этом, Сережа. Позднее ты сам поймешь и скажешь мне спасибо за то, что я не пошла.
– Не понимаю.
– Глупенький ты мой, куда я с тобой? Зачем? Подумай.
Она села на солому. Взяла его руки в свои, дрожащие мелкой нервной дрожью. Молчали. Бакукин мучительно думал.
– Вот и простимся скоро, мой беленький «рябчик». Будь спокоен за меня. Теперь мне будет хорошо. Ты помог мне поверить в себя. Сегодня ночью, сидя на подоконнике, я вдруг поверила в то, что никогда, никогда не было никакой Крошки Дитте, а всегда была Богуслава, ясноглазая, чистая, светлая польская панночка. А все остальное – кошмарный сон. Я до конца останусь благодарна тебе за это. Понял ли ты?
– Да.
– Вспоминай меня иногда.
– И все-таки ты пойдешь со мной. Мы проберемся с тобой к американцам, повоюем еще...
– Нет, Сережа. Только вспоминай.
Свеча догорала. Ярко вспыхнув желтым пламенем, погасла. Стало черно и душно. Богуслава прижала его ладони к пылающим щекам, подержала, решительно встала.
– Проводи. Я скоро вернусь. Совру что-нибудь фрау. И свечу принесу. Тогда до вечера вместе.
Он взял ее дрожащие руки в свои и долго и нежно целовал в ладони.
– Сходи. Я буду ждать.
И снова они сидят на соломе, прижавшись затылками к прохладной стенке. Тихо, тихо. Сергей слышит, как тикают часы на руке Богуславы. Они почти не говорят. Они смотрят друг другу в глаза. Время, кажется, остановилось. Но оба знают: скоро вечер, а с ним – разлука. Может быть, вечная. Ведь никто никогда не знает, что будет с ним через день, через час, через минуту.
– Семь суток. Сколько же это минут? – печально говорит Богуслава и долго считает. – Сережа, а ты знаешь, это очень много – десять тысяч минут. Все десять тысяч минут я не была с тобой, но ты со мной был каждую минуту. Все десять тысяч. Веришь ли ты?
– Верю.
– А сколько минут осталось? Мало. Совсем мало. Двести, триста, не больше.
Она задумалась. Глаза ее то вспыхивали, как пламя свечи, то гасли. Заговорила грустно, мечтательно:
– Эта свеча не успеет догореть, а тебя уже не будет со мной. – Она тяжело вздохнула и добавила дрожащим шепотом: – И меня тоже. Странно. Проходил каждое утро под конвоем чужой, неведомый полосатый каторжник с бритой наполовину головой. Мимо. Мимо. Мимо. И вдруг он оказывается таким близким, дорогим, понятным и родным человеком в мире, как мама, как отец или брат. И вдруг отрываешь его от сердца с болью, с мукой. Странно. А всего-то прошло семь суток, десять тысяч минут, а тебе кажется, что вся твоя жизнь вместилась в эти семь суток и никогда ничего не было у тебя до этого, и после этого ничего не будет. Странно. Я никогда не подозревала, что так может быть, что это, по-видимому, случалось со многими, а теперь случилось с Крошкой Дитте, злой, с ледяным сердцем девицей из веселого и пошлого заведения фрау Пругель. Еще девчонкой в гимназии я читала об этом в польских романах. Сердце мое пугливо падало и замирало, сны были сладкими и тревожными, а когда стала старше, то почувствовала, что живу томительным ожиданием чуда. И вот оно пришло. И как? И где? Страшно.
Три года назад, еще дома, в деревне, ворожила мне захожая сербиянка: «И встретишь ты, голубица, на большой шумной дороге ясновельможного пана, сказочно богатого и красавца писаного; и жить тебе с ним в жаркой любви и согласии много лет, до глубокой старости; и много деток у вас будет, и счастья будет много. Богатая ждет тебя доля, красавица, ух какая богатая!» Смешно, правда? И смешно и страшно...
Бакукин слушал и восхищался, и забывал, где они сидят и в какое время. И чтобы как-то отвести Богуславу от ее печальных мыслей, он спросил как бы между прочим:
– Богусенька, какое у нас сегодня число. Я что-то сбился со счета.
– Первое августа, Сережа. У нас в деревне в августе выпадают по ночам обильные росы. Покойная бабушка часто говорила, что это не росы, а слезы земли – земля оплакивает уходящих.
– Интересно говорила твоя бабушка. Расскажи мне на прощание что-нибудь еще о своей деревне.
– Не надо, Сережа, я все рассказала.
Бакукиным овладело странное, мучительное нетерпение. Он ежеминутно поглядывал на щель, но она по-прежнему была светлой. Богуслава заметила его нетерпеливые взгляды, посмотрела укоризненно:
– Ты торопишь время? А я бы желала, чтобы мгновения, наши последние мгновения остановились. Не забудь своего обещания и вспоминай меня. Светло, радостно вспоминай. Ладно?..
И опять, как и семь суток назад, они шли по саду. И опять было душно, и сладко пахло гниющей древесиной. Над городом, в траурно-черном небе, тревожно пылали частые зарницы. Вспыхнув в поднебье, они порывисто, как волны от брошенного в воду камня, растекались кругами по всему небу.
– Отблески пожаров, – шепотом пояснила Богуслава, – бомбят Гамбург. Каждую ночь бомбят.
Они вышли из сада и пошли, прижимаясь к платанам, по Гартенштрассе. Но не успели пройти и сотни метров, как тоскливо и жутко завыли сирены. Небо дрогнуло от нарастающего гула, осело.
– Опять налет, – тихо сказала Богуслава.
– Это и лучше, – ответил Бакукин, – спрячутся все в бункера, а я буду удирать подальше.
– Береги себя, Сережа, в пекло не лезь...
Где-то совсем рядом тявкнули зенитки. Ослепительно сверкнула вспышка недалекого взрыва. Земля глухо охнула. На мгновение Бакукин увидел лицо Богуславы, смертельно бледное и прекрасное, с огромными печальными, широко раскрытыми глазами. Она уронила голову ему на грудь, обвила шею трепетными руками.
– Прощай, Сережа!
Губы Бакукина обожгло долгим, мучительно горьким поцелуем.
– Прощай, милый!
Она резко повернулась и пошла быстро-быстро, почти побежала, ни разу не оглянувшись, словно боясь опоздать куда-то. Он постоял минуту, прислушиваясь к звукам ее удаляющихся шагов, и решительно шагнул в ночь.
Глава третьяЗа окнами бледно обозначился рассвет. Внизу по-прежнему было шумно. Его веселые ребята спать не собирались. Слышался хохот, сдабриваемый тонким девичьим смехом. Бакукин поворочался, лег на спину, заложив руки под затылок, вздохнул и опять вернулся мыслями к Богуславе.
...Несколько дней назад, когда они «домолачивали» остатки фашистских дивизий, загнанных в «рурский мешок», синим весенним вечером, оставив в конце улицы джип и автоматчиков, он снова шел по Гартенштрассе. Виновато и робко почковели уцелевшие сады, осыпая под ноги пыльцевую грусть. Черными бездомными призраками «бродили» по бульвару обгоревшие тополя и платаны. Кое-где начали расчищать развалины, и в вечернем воздухе плыл густой, устоявшийся запах горелого кирпича и известковой пыли. Вот и знакомый особнячок с колоннами. Цел и невредим среди руин.
Сергей вспомнил злые слова эсэсовца Отто: «Юбками, что ли, суки укрываются от бомб, притон-то, как цветущий оазис в мертвой пустыне, ни одной царапинки...»
За особняком – сад в белом дыму, а еще дальше – гора руин, и где-то там среди них – лазейка в подвал, где прожил он, затравленный бухенвальдский беглец, по словам Богуславы, десять тысяч минут, где она кормила его и спасла от виселицы. Сердце захлестнула горячая волна: не пройдет и трех минут, как он увидит ее... Милая Богуслава! При этой мысли у него перехватило дыхание. А как будет рада она! Сергей твердо решил: если доживет до конца войны – Богуслава будет его женой.
С гулко бьющимся сердцем, едва сдерживая дрожь, Сергей позвонил у парадного входа, бросив быстрый взгляд на подоконник на втором этаже, где всегда сидела Богуслава. На звонок вышла сухопарая немка, бледнолицая и плоскогрудая, с морщинистым и фиолетовым от пудры лицом, поклонилась с профессиональной любезностью:
– К вашим услугам, господин американский офицер.
Сергей никогда, даже издали не видел фрау Пругель, но сразу догадался, что это она. Именно такой он и представлял ее по рассказам Богуславы.
– Фрау Пругель?
– Вы не ошиблись, сэр, – и опять склонила голову в поклоне. – Что интересует господина американского офицера? Прикажете приготовить девицу? Ваш вкус?
Фрау Пругель расплывалась в любезностях, но в ее голосе послышалась плохо скрываемая тревога.
– Фрау Пругель, – сказал Бакукин, – меня интересует Крошка Дитте. Я могу ее видеть? Немедленно? У меня мало времени.
– Крошка Дитте? – не сумев скрыть изумления, переспросила она, и голос ее дрогнул.
– Она уже уехала в Польшу?
– Извините, нет, не уехала. – Фрау замялась и торопливо добавила: – Она умерла.
– Как умерла? – Бакукин почувствовал, как холодная пустота прихлынула под сердце.
– Все мы во власти господа бога, – полушепотом, словно доверяя незнакомому офицеру большую тайну, прошипела фрау Пругель. – Да, да, все мы в руках всевышнего. Да вы пройдите. Вы знали ее?
– Когда умерла? – нетерпеливо спросил Бакукин. – Когда? Не мямлите, отвечайте!
– В прошлом году. Кажется, первого августа. Да, да, первого августа. Я отлично помню этот скорбный день. Бедная Крошка Дитте! Присядьте. Вы ее хорошо знали? Вы ее родственник? Вы ее брат? О боже, боже... все было так неожиданно, так странно...
– Не тяните! – грубо оборвал Бакукин. – Рассказывайте, как она умерла?
И фрау Пругель рассказала торопливым бормотком, сжевывая и глотая слова:
– Она славянка. Кажется, полячка. Я спасла ее от каторжного труда у проклятых фашистов. Ах, эти наци, эти проклятые наци! Да, так в этот день, точнее, в этот вечер, довольно поздно к нам приехал знатный гость, очень влиятельная персона. Я его так боялась, так боялась... Он пожелал провести вечер только с Крошкой Дитте и ни с какой другой девицей. Я его так боялась, Я послала Крошку Лизи за Крошкой Дитте. У фрау Пругель всегда порядок, но в тот вечер Крошки Дитте не оказалось. О ужас! Я едва не лишилась рассудка. Гость долго ждал. Извините, пил и шутил с девицами. Но ждал только Крошку Дитте. Я сама побежала к ней. Я очень долго стучалась в ее комнату. Потом мы открыли дверь. Мы ее, простите, взломали. Бедная Крошка Дитте! Она была мертва. Она была такой очаровательной. У меня много девиц, но Крошка Дитте, Крошка Дитте...
– Довольно! – оборвал ее Бакукин. – Как она умерла?
По страдальческому лицу фрау Пругель растеклась кислая гримаса, она, словно кукла, заморгала длинными наклеенными ресницами, то закрывая, то неестественно распахивая бесцветные глаза.
– Видите ли, как вам сказать, в ее кругу это заведено, это профессиональная доля, что ли. Она умерла, как все девицы ее профессии, – приняла яд, отравилась. Так страшно...
– Профессия, профессия, – зло оборвал он ее. – Помолчите! Она что-нибудь оставила?
Фрау Пругель развела руками:
– Нет, простите, ничего. Ничего абсолютно. Просто умерла – и все. Глупо. Чудовищно. Я так ее любила. Так боготворила, мой бог! Она была такой милой и очаровательной. Она была так молода! У фрау Пругель все в высшей степени красиво и изящно, все очень чисто и профессионально. Господа американские офицеры очень довольны. У меня много девиц, но Крошка Дитте...
Тогда Бакукин вспылил и крикнул в лицо этой циничной женщине:
– Вы будете преданы суду за ваши чудовищные преступления. Да, да, я добьюсь того, чтобы вас предали суду. Вы – преступница!
Фрау Пругель была изумлена.
– Помилуйте, – взмолилась она, – за что же? У фрау Пругель всегда порядок, мои девицы чисты и невинны, они почитают бога, они каждое воскресенье ходят молиться, они...
Она что-то говорила еще, деликатное и любезное, о чем-то спрашивала, что-то предлагала, но он резко повернулся и ушел. Фрау Пругель бежала за ним, растерянно всхлипывая, что-то быстро и невнятно лепетала, истекая любезностями.
В изуродованном бомбами небольшом скверике, из которого вытекала тихая Гартенштрассе, взгляд Бакукина упал на сочно брызнувшую молодую зелень. Безумно расцветал обломанный и обгоревший куст сирени. И на зелени, и на лепестках печально и виновато поблескивали мелкие чистые росинки, отражая закатные лучи солнца.
– Слезы земли, – вспомнил он и прошептал слова Богуславы: «Земля оплакивает ушедших». Бедная, бедная Богуслава...
Он тяжело вздохнул и пошел, не оглядываясь, к оставленному за развалинами джипу. Он хотел было заглянуть в свое убежище, где прожил с Богуславой десять тысяч минут и где, по-видимому, и сейчас валяются в углу космы его грязных волос, его полосатая арестантская форма и деревянные колодки, но передумал.
Глава четвертая...Торопливо простившись с печальной и пугающе незнакомой Богуславой, Бакукин быстро, почти бегом миновал Гартенштрассе и вышел на широкую улицу. По ней он ежедневно ходил утрами откапывать бомбы. Называлась она, кажется, Кайзераллее. Перед глазами все еще стояло озаренное вспышками разрывов смертельно бледное лицо Богуславы. Бакукин перешел широкую улицу с бульваром посередине, прижался к каменному забору и огляделся. Не было нигде ни души. Теперь все его желания, все мысли были сосредоточены на одном: он на свободе, он должен что-то делать. Как и что – он еще не знал, окончательного плана действий пока еще не выработал, хотя много думал об этом там, в засыпанном обломками подвале, валяясь в ожидании Богуславы на стружках и соломе и тоскливо посматривая на оплывающую свечу. И как это часто бывало с ним в критические случаи его жизни, план созрел мгновенно: он должен, несмотря на риск, идти сейчас на сортировочную станцию Дортмунд-Эвинг, где в обгоревшем вагоне жили его товарищи. Там, на станции, где он знает каждый путь, каждый закоулок, он любой ценой должен устроиться в поезде на восток и уехать к фронту. Решив так, он осторожно, пристально всматриваясь в даль пустой улицы, пошел хорошо знакомым путем, тем, которым ежедневно ходил под охраной однорукого верзилы Отто на работу в город. Он помнил на этом пути каждый дом, каждый поворот.
Частые глухие разрывы бомб удалялись. Центр бомбардировки переместился на юг, по-видимому, в район вокзала Дортмунд-Зюд. В этой стороне ночное небо плавило высокое багрово-дымное зарево. На станции было светло, как днем. На путях валялись догорающие вагоны, бригады ремонтников торопливо восстанавливали пути, взад-вперед сновали дрезины, подвозя шпалы и рельсы, маневровый паровозик тянул платформы с гравием и песком, бегали и кричали какие-то люди в форменных плащах. Идти туда было рискованно и бесполезно: эшелонов на сортировочной не будет до тех пор, пока не восстановят все пути.
Обходя развалины, которых раньше тут не было, Сергей оказался в метрах пятидесяти от вагона, где еще совсем недавно жил. Постоял, прислушался. Вокруг покоилась тяжелая давящая тишина. «Словно вторично судьбу испытываю, – подумал Бакукин, – напороться на часового проще простого». И, вздохнув, пошел дальше. «Как-то там Карл, Влацек, живы ли они, вот если бы знали, что я хожу рядом и... на свободе». Глухие раскаты взрывов смолкли. По всему городу облегченно и торжественно, словно напоминая о том, что они еще живы и невредимы, завыли сирены отбоя.
Уже под утро, засыпая в подвале под зудящий писк голодных мышей, Бакукин подумал о том, что завтра он будет действовать решительней.
Весь день он наблюдал из укрытия за станцией. К вечеру пути восстановили и с горки покатились вагоны, образуя составы. Он приметил особый, свой, с зачехленными танками и «фердинандами» на платформах, с длинными, тяжело груженными пульманами среди них, подумал: «Этот наверняка на восток, к фронту». И стал ждать темноты. Раньше ночи он все равно не уйдет, этот их порядок Бакукин тоже знал: все поезда расползаются со станции ночью.
На западе, откуда надвигалась на город черно-лиловая туча, лохматая и разлапистая, зловеще погромыхивало. Туча сглотила тускнеющее вечернее солнце. По земле поползла, быстро увеличиваясь в размерах, серая одутловатая тень. Между лесом труб вспыхнула дымно-золотистым пламенем узкая полоса, тут же догорела, покрылась пепельно-серым отгаром. Несколько минут над городом повисел синий сумрак, но вот дрогнул и он, растворился в каменных громадах. Густая липкая чернота обволокла ближние кварталы, стало совсем темно. Ночь насунулась черная, ветреная, тревожная. Низкое небо из конца в конец вспарывали длинные лиловые молнии, где-то далеко и глухо перекатывался тяжелый гром. Робко, как бы нехотя, начал накрапывать мелкий дождь.
Бакукин вышел из укрытия. Не дойдя десяток метров до путей, он залег в воронку.
Глаза привыкли к темноте. Она малость разрядилась. Нечетко вырисовывались контуры вагонов, тускло отсвечивали рельсы, четче – блестящие буфера вагонов. Около эшелона с танками сидели нахохлившиеся солдаты в плащ-палатках. Вот они повскакали и стали разминать затекшие ноги. Сквозь пелену дождя прорывался полуночный ветерок. Он задирался и волнил брезент на танках, путался в плащ-палатках солдат. Прошел железнодорожный мастер, постукал молоточком по колесам и буферам. Следом за ним поездная бригада осмотрела вагоны и платформы, проверила сцепку. «Скоро будет отправляться», – подумал Бакукин.
Он пополз по-пластунски к эшелону. В трех метрах от него протопали солдаты в касках и с автоматами. Паровоз зафыркал, зашипел парами. Плотно прижимаясь к земле, несколькими сильными рывками Бакукин преодолел последние метры и залег между пульманом и платформой с танком, прижимая тело поближе к рельсу. Прислушался. Медлить было нельзя. Он вскарабкался на платформу и нырнул под брезент. Лязгнули буфера. Эшелон медленно тронулся и пошел в темноту, в ночь.
Ящерицей распластавшись под танком, Сергей пристально вглядывался в темноту. Скоро земля, плывущая мимо, и все, что было на ней, проявилось, словно фотонегатив: в небе стояла полная луна, поливая притихшие поля мертвым светом. За низким бортом платформы замелькал до зевоты однообразный серенький пейзаж: огороженные проволокой выгоны для скота сменялись одиноко рассыпанными усадьбами бауэров, за усадьбами уныло тянулись продымленные грязно-серые корпуса каких-то заводиков, выпрыгивали, словно из-под земли, и натыкались на низкое небо темные кирпичные трубы. А еще через полчаса на земле стало тесно от цехов, бараков, труб, кладбищ изуродованных паровозов, трамваев, автовагонов и просто огромных холмов скрюченного, обгоревшего, проржавевшего металла. Было светло, как днем. Воздух набухал дымом, гарью и пылью. Дождь перестал. Небо совершенно очистилось от рваных торопливо бегущих облаков. «К какому-то большому городу подъезжаем, – подумал Бакукин. – Скорей бы миновать, Германию». Он плотнее прижался к траку, лег на бок, подложил под голову кулак и не заметил, как уснул.
Сквозь сон он слышал, что поезд несколько раз останавливался, раздавались чьи-то отрывистые голоса, потом снова стучали колеса, платформу покачивало, и он засыпал крепче. Окончательно проснулся он от жары. Голова, шея и грудь были облиты потом. И пол платформы и танк раскалились. Он приподнял брезент и выглянул. В белесоватом воздухе загустился пронизывающий звенящий зной. По сторонам дороги плотной стеной стояло густое чернолесье. Временами оно распахивалось и давало возможность взору проникнуть на низинные лужайки с сочной зеленой травой, причудливо окаймленные густым подлеском, то снова сжималось и вплотную подступало к дороге. Оттуда, из лесу, тянуло паркой духотой и острыми запахами перегретых трав и цветов.
«Интересно, куда я еду? – думал Сергей, присматриваясь к пейзажу. – Уж больно места красивые, видеть такую красоту в Германии мне пока не доводилось. На Польшу тоже не похоже, там земля беднее, серее...»
И смутное подозрение шевельнулось в душе: а вдруг еду не в ту сторону, куда надо, а еще дальше на запад, ведь там сейчас тоже идет война, тоже фронт...
Он упрямо отгонял от себя эту тревогу, опасливо поглядывая на солнце, куда оно станет клониться к вечеру?
А поезд шел и шел не останавливаясь. И городов почти не было, леса и леса. Ландшафт становился все гористее. Временами к дороге подбегала белоствольная березка, и Сергей вздрагивал, думая: «Совсем как в России, может быть, все-таки еду правильно?» Иногда в небе на большой высоте, сверкая в лучах солнца, проплывали сотни самолетов, не обращая внимание на ползущий среди леса поезд, шли к иным целям; только небо долго подрагивало от их мощного гула да где-то далеко-далеко тревожно выли сирены.
К вечеру Сергей окончательно убедился: едет не туда. Поезд шел в сторону плавившегося над дальними лесистыми горбами заката. «Ночью спать нельзя, – подумал Бакукин, – может быть выгрузка. Европа – это не Россия, тут за одни сутки можно в любой конец уехать, а я еду почти без остановки уже сутки». Он достал из кармана вальтер, покрутил его в руках, проверил магазин. «Буду к союзникам пробираться, раз к своим далеко», – решил он, и на душе стало спокойнее. Темнота за брезентом сгущалась, на черном бархатном небе задрожали первые звезды. Он откинул брезент, вылез из-под танка и сел у борта платформы. «Как только остановится, так и махну через борт, дальше ехать некуда».
Но поезд шел почти всю ночь. Уже начало заметно бледнеть небо и четко вырисовываться на его фоне телеграфные столбы и подступающие к дороге деревья, когда поезд замедлил ход. Сергей нетерпеливо огляделся. Два почерневших от времени одноэтажных барака, похожих на сараи, стояли возле полотна. Чуть поодаль, одиноко горюнился под сосной низкорослый домик с двумя окнами, вытаращенными на дорогу. В окнах горел свет. Резко скрипнули тормоза, и поезд остановился. В голове состава послышались хриплые злые голоса, топот, ругань.
«Надо уходить», – пронеслось в голове у Сергея.
Он еще раз огляделся по сторонам, махнул через борт платформы и носом к носу столкнулся с плотным, здоровенным солдатом. Тот от неожиданности отпрянул, закричал, руки его непослушными рывками путались в полах застегнутой плащ-палатки. Бакукин дважды выстрелил в упор. Солдат пошатнулся и рухнул ему под ноги. Сергей перепрыгнул через него и побежал не оглядываясь. Вдогонку ему ударили от головного вагона автоматные очереди. Почти одновременно обожгло руку и ногу. Но он бежал не останавливаясь, и только достигнув густого подлеска, клином воткнувшегося в пустырь перед полустанком, оглянулся. Возле эшелона копошились солдаты. Погони за ним не было – не видели, куда он побежал, стреляли наугад. Ранения были легкие, почти царапины. Пули пробили мякоть правой ноги выше колена и левую руку выше локтя. Он хотел перевязать раны, но передумал – надо было уходить дальше. Встал и, хватаясь здоровой рукой за ветки низких кустов, торопливо пошел в глубь леса, думая про себя: «Счастье, что нет собак, иначе пропал бы...»
Быстро светало. В лесу запели первые птички-раноставки. А он шел и шел, изредка оглядываясь назад. Но вокруг было тихо.
– Кажется, пронесло, – подмигнул он сидящей на ветке пичужке. – Теперь, милая, надо держать ухо востро, правда!
Но лес, к его огорчению, стал все сильнее просвечиваться и скоро оборвался совсем. Перед Бакукиным расстилалась бесконечная равнина, далеко на горизонте маячили какие-то постройки, вблизи проходила дорога с высокой насыпью и мостом. Подумав, он направился к нему, залез в трубу, сырую и холодную, и сел. Порвав подаренную Богуславой нательную рубашку, он перевязал раны, лег на дно холодной бетонной трубы и окончательно успокоился.
– День перележу тут, а там видно будет, – прошептал сам себе. – Теперь-то уж не пропадем.
К концу дня он почувствовал сосущую пустоту под ложечкой и понял, что начинаются первые приступы голода. Это ощущение было ему хорошо знакомо. Скудные запасы пищи, припасенные Богуславой, уже истощились.
Всю следующую ночь он пытался добыть пищу. Сначала ему пришла мысль найти картофельное поле и накопать картофеля. Но сколько он ни бродил – поля не было, вместо него он натыкался на какие-то отвалы, потухшие и давно забытые терриконы шахт.
– Второй Дортмунд, – плевался он, – ни черта кроме ржавого железа и этой проклятой породы. Куда я попал?
И вспоминал свою Сибирь. Там в августе не пропал бы в тайге. Сколько грибов, ягод, шишек кедровых, реки кишмя кишат рыбой, а сколько дичи! А тут – шаром покати.
К исходу второй голодной ночи, огибая длинный глухой забор, он напоролся на часового. Спасла Бакукина темнота. День он пролежал на кукурузном поле. Кукурузу сеяли на силос, и початков не было. Попробовал жевать жестяные кукурузные листья – и сплюнул, ничего, кроме горечи, во рту не оставалось. Сосущая пустота под ложечкой усиливалась, кружилась голова, часто тошнило. Сознание тупело, голова наливалась тяжелой пустотой.
Он лежал на спине, равнодушно посматривая в белесое, притомленное зноем небо. Кукурузные листья тихо поскрипывали сухим жестяным скрипом. По небу медленно плыли одинокие тощие облачка. Раны горели. Во рту пересохло. А солнце, казалось, прикипело к небу и не шевелилось, висит над головой и поливает зноем. Временами ка него находила истома, и он дремал, чутко, тревожно, сжав в руке пистолет. Когда зной схлынул, он уснул. Приснилась ему сожженная белым зноем украинская степь. Он идет один, еле волоча от усталости ноги. Все товарищи-парашютисты пали в бою. Он один. Рот иссушила жажда. Слева и справа перламутром горят, переливаются в лучах солнца родники. Подойдет к одному, жадно припадет сухим ртом к воде, а это не вода, а соль. Встанет, пойдет, пошатываясь, дальше – опять родники звенят, брызги водяные горят на солнце малыми радугами. Кинется к ручью, начнет пить – и опять не вода, а соль. Проснулся с гулко бьющимся сердцем, язык повернуть во рту не может. Ухватился за стебель кукурузы, сел. Солнце склонилось к закату, зной привядал. Ему стало немного легче.








