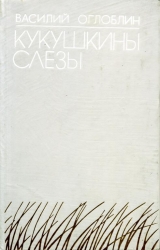
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Провинциальный прикарпатский городок Дрогобыч был тих и безлюден. Жизнь в нем, казалось, остановилась. Тишина его кривых безлюдных улочек полна сонной одури. Только ветер переметал из конца в конец мертвые листья да бумажный мусор. На вершине высокого холма почти в самом центре городка возвышалась мрачной громадой старинная тюрьма, напоминавшая древний рыцарский замок.
Когда зажили простреленные грудь и ноги и Егоров стал свободно передвигаться по камере-палате, его перевели в камеру на третьем этаже главного корпуса в блок с непонятным названием «зэт». Тюрьма была приспособлена фашистами к тому времени под огромный перевалочный и сортировочный пункт.
День выдался хмурый, ветреный. Дальние кряжи лесистых гор донизу запеленало густым мороком. Над тюрьмой низко плыли рваные грязно-серые облака. Перед обедом блок «зэт» выгнали из камер, выстроили в длинную шеренгу на плацу, приказали раздеться. Откуда-то из-за угловых башен на тюремный плац, напоминающий дно глубокого колодца, залетел ледяной ветер и, ища выхода, метался в четырех стенах. Люди посинели, скорчились, задрожали.
– Кто очень утомился, может присесть, – с ледяной улыбкой на тонких губах объявил ходящий перед шеренгой офицер. Говорил он на чистом, без малейшего акцента русском языке. – Можете отдохнуть.
Посиневший от холода старик тотчас присел, подтянул колени к дряблому подбородку, обхватил их руками. Тело его, сухое и тоже дряблое, дергалось в ознобе. К старику с дикими ругательствами подбежали охранники, на склоненную голову, спину и плечи обрушился град ударов дубинками и прикладами карабинов.
– Лентяище, собака, обезьяна, как ты посмел сидеть в присутствии офицера великой Германии? Старая свинья, дохлый пес...
Подняться старик уже не смог; он неуклюже ползал, тыкаясь окровавленным лицом в утрамбованную землю тюремного плаца. Тогда офицер подошел к нему и с той же ледяной улыбкой выстрелил в затылок.
– Лентяи – бич человечества, их надо безжалостно уничтожать!
Шеренга окаменела. Больше охотников отдохнуть не было. Люди стояли, стиснув зубы, и ждали, что же будет дальше, для чего их выстроили и раздели. Начало непонятной церемонии ничего хорошего не обещало. Через полтора-два часа раздалась команда:
– Смирно!
Голые люди подтянулись, неловко бросили руки по швам, вскинули дрожащие подбородки. Перед изогнутой подковой шеренгой медленно потянулась группа высоких офицерских чинов, в лакированных сапогах, плащах реглан, насупленных, сосредоточенных. Они строго и придирчиво всматривались в каждого человека, трогали мускулы на руках и ногах, смотрели сбоку, заглядывали в рот, постукивали молоточком по зубам. Егоров прислушивался к их разговорам. Его поразило то, что все они чисто говорили по-русски, и только одному нахохленному хищноносому офицеру ответы людей переводил бойко и отрывисто щеголеватый переводчик. Там, где они прошли, шеренги уже не было. Люди поспешно одевались и, подгоняемые охранниками, строились в две колонны: одна – побольше, другая – поменьше.
Рядом с Егоровым стоял смуглолицый красивый мужчина лет тридцати с аккуратно подстриженными усиками и густой шевелюрой. По его бледному лицу, по нервному вздрагиванию тонко очерченных ноздрей Егоров заметил, что он сильно волнуется, в блестящих цвета спелой черешни глазах металась тревога.
– Слушай, товарищ, – шепнул он, – запомни на всякий случай мой адресок: Киев, Владимирский спуск, восемнадцать. Повтори.
Егоров торопливо повторил:
– Владимирский спуск, восемнадцать.
– Выживешь – расскажешь, где и как... Понял?
– Да, понял, – кивнул Егоров.
– Спасибо. Меня весь Киев знает. Я – певец. Не забудь же.
– На забуду, если жив буду...
Больше он сказать ничего не успел. Свита подошла к ним. На соседа пристально взглянул старший офицер. Рассмеялся.
– Иуда?
– Нет, армянин.
– Врешь, жидовская шкура! Комиссар?
– Токарь.
– Ха-ха-ха... токарь, пекарь... Врешь! Пархатый жид, шелудивый пес!
Презрительная улыбка на губах офицера быстро таяла. Твердый низкий подбородок дрогнул. Лицо стало злым. Быстро заговорили несколько голосов. Старший нетерпеливо махнул перчаткой. Все умолкли. К соседу подбежали солдаты.
– Шнеллер, шнеллер, иуда!
Он торопливо оделся и, подталкиваемый дулами пистолетов, побежал трусцой в колонну налево. На полпути он оглянулся и прощально махнул товарищам рукой.
Очередь дошла до Егорова. Все пристально осмотрели его с головы до ног, пощупали мускулы на руках, заглянули в рот. Начали перешептываться. Егоров с изумлением вслушивался в их разговор. Один из офицеров доказывал, что у него лицо интеллектуально развитого человека, второй возражал: «Не вижу, господин оберст, типичная тупая рожа варвара с ярко выраженными признаками скудоумия». – «Нет, нет, – не унимался первый, – взгляните внимательнее, по цвету глаз и волос он напоминает человека высшей расы, и в глазах я вижу проблеск мысли...» – «Извините, – стоял на своем второй, – но вы склонны к заблуждению. – Офицер вскинул руку с двумя растопыренными пальцами, повисев в воздухе, они коснулись лба Егорова. – Череп, череп, дорогой, взгляните на его форму, и эти скулы азиата, монгола, ха-ха, похож на человека высшей расы...» – «Пожалуй, вы правы», – сдался оберст.
– Кто по происхождению? – обратился уже по-русски офицер к Алексею.
– Крестьянин.
– Колхоз?
– Да, колхозник.
– Что делал в колхозе?
– Тракторист. Землю пахал, сеял, урожай собирал.
– Это похоже на правду. Покажи руки.
Егоров протянул руки ладонями вверх. Оберет поскреб ногтем старые, затвердевшие мозоли, хмыкнул удовлетворенно:
– Кость широкая. Мозоли были. Хорошо. Транспорт «Д», – и, улыбнувшись, добавил: – Мы любим рабочих людей.
Так советский офицер, командир взвода парашютистов лейтенант Егоров оказался в правой колонне.
Он оглядел свою колонну и заметил, что в ней стоят люди грубее, ширококостнее, а в другой колонне – с лицами «интеллектуально развитых людей», как сказал оберст.
Его мысли прервала команда. Колонну погнали, но уже не в камеры, а в стоящий на отшибе большой сарай, напоминающий конюшню. Загнав, закрыли на замок. Алексей опустился на холодный и сырой глиняный пол поближе и щелястой стенке, чтобы иногда можно было наблюдать за тем, что творится во дворе.
На тюремном плацу до полуночи стояли голью шеренги, раздавались гортанные крики команд и хлопали пистолетные выстрелы: добивали «лентяев» – бич человечества. А над башенками древнего замка плыли и плыли седые спутанные космы, и, когда их пронизывал желтый свет угловых прожекторов, Егорову казалось, что это рассыпались по всему ночному небу окровавленные седины старика.
Глава пятаяАлексей поднялся на локтях, положил голову в ладони и долго смотрел в щель на темное усыпанное мигающими звездами небо, на опустевший плац, на мрачную, темную громаду тюрьмы. Ночь наливалась густой темнотой. На вышках ярко горели прожекторы, они шарили по плацу, облизывали белые стены тюрьмы. Глиняный пол сарая был таким холодным, что казалось, будто лежишь на льдине. Тело окоченело.
Перешагивая через людей, к Егорову подошел его сосед по камере, мрачноватый неразговорчивый человек с седым ежиком редких волос. Попросил глуховатым голосом лежавшего рядом с Егоровым молодого парня:
– Подвинься, братишка, я с корешом своим лягу.
Парень подвинулся и уступил ему место рядом с Алексеем.
– Вот спасибо.
Лег рядом, прижался к Егорову, горячо зашептал на ухо:
– Давно к тебе присматриваюсь, вижу – не рядовой, командир либо политработник. Тебя в кого произвели?
– В крестьянина.
– И меня в крестьянина, идиоты. А тех, что налево отделили, убьют. Они надолго не откладывают. Вот, брат, дела. Попали мы с тобой, как кур во щи, и не расхлебаешь. Что-то делать надо. Лежать нам тут с тобой не с руки. Судя по всему, нас не сегодня-завтра отправлять будут. А известно куда – в Германию. На завод или шахту. Надо бежать. Всем. В Германию мы не должны попасть, не имеем такого права.
– А повезут точно в Германию, мускулы-то не зря щупали. Работать заставят. – Алексей скрипнул зубами.
– Работать на фашистов мы, конечно, не станем, – опять раздался над ухом глуховатый, но твердый голос. – Надо сделать так, чтобы никто не работал, ни один человек, надо бежать всем. Отсюда бежать трудно, тут охрана сильная и заборище под небо. Из вагонов бежать надо, в первую же ночь, чтобы не так далеко увезли. Людей к этому готовить надо. Извини, кто по званию?
– Лейтенант, командир взвода парашютистов-десантников.
– Задание выполняли в тылу?
– Да.
– Так и догадался. Отлично. Бригадный комиссар. Фамилия ни к чему. – Он нащупал в темноте руку Алексея и крепко, благодарно стиснул ее в своей сухой и костистой.
И, поворачиваясь с боку на бок, закряхтел скрипуче и надсадно, совсем по-стариковски:
– Загнали в конюшню, как скотину, лежи на голой земле, коченей.
– Скотине солому стелют, – сказал кто-то рядом.
– Мы для них хуже скотины...
– Да, лейтенант, так надо срочно заняться этим делом. С одним поговори по душам, с другим. – Он помолчал, откашливаясь. – Старость – не радость. Будь осторожен. Тут есть уши. Ох-хо-хо... могу я надеяться?
– Конечно.
– Как говорят, выходишь в опасную дорогу – выбирай себе спутника.
Надолго замолчали. Каждый ушел в себя. Холод пробирал до костей.
Рано утром распахнулись широкие двустворчатые двери конюшни и унтер-офицер поманил согнутым в крючок обкуренным пальцем:
– Ком фюнф манн, маль-маль работай.
Все бросились к дверям. Унтер отсчитал пять человек. В числе пятерки оказался и Егоров. Пошли. Унтер – впереди, пятерка – за ним. Пересекли просторный тюремный двор, вышли за ворота. Под разлапистым каштаном, чуть в стороне от дороги, ждал грузовик. Унтер приказал садиться в кузов. Из-за каштана вышли три немца, расселись по углам кузова, положили на колени автоматы. Поехали.
Городок казался вымершим. В пустых двориках гулял, метался сырой ветер, на тусклом утреннем кебе лениво ползла подпаленная с боков лиловая тучка. Ни крика петуха, ни лая собаки, ни одного прохожего. Только патруль полевой жандармерии с огромными оловянными бляхами на груди гулко цокал по булыжной мостовой.
Выехали за город. Егоров недоуменно переглянулся с товарищами. Скрылись В белесоватом жидком тумане неясные очертания последних раин, потянулся унылый захламленный пустырь. В мирное довоенное время тут, по-видимому, была свалка нечистот. Машина остановилась. Солдаты выскочили из кузова.
И Егоров сразу понял, что за работа предстояла им. Недалеко от машины возвышалась высокая куча одежды и обуви. Метрах в двадцати была куча пониже – заношенное нательное белье, набухшие солью солдатского пота кальсоны и грязные рубахи, истертые до дыр фланелевые портянки и серые солдатские носки, побуревшие, майки и трусы. А еще дальше длинными неровными рядами тянулись полосы свежевскопанной земли. Унтер поковырялся в кучах и приказал быстро грузить.
Все принялись таскать и укладывать в кузов брюки и гимнастерки, рубахи и пиджаки, сапоги и ботинки всех сортов и размеров. Таскали и переглядывались, боясь поверить в то, о чем думали, и озирались на свежевзрыхленную землю: это была одежда тех, кто ушел вчера на плацу в левую сторону. Егоров вспомнил, как озверело покрикивали на них охранники, как бегом гнали их, долбя прикладами по лопаткам. Еще вчера, на плацу, они были обречены. Ночью их расстреляли. Голых, под черным мокрым небом.
Алексей работал, словно в густом тумане, ничего не видел вокруг. Он бегом таскал в кузов ботинки, сапоги и гимнастерки, а видел лица расстрелянных, слышал их предсмертные голоса. Как живого увидел красивого соседа по шеренге с усиками и вьющимися волосами, вспомнил, как побледнело его лицо и задрожали тонкие ноздри.
«Владимирский спуск, восемнадцать, в Киеве, – мысленно повторил он, – если выживешь – скажи, где и как...» Он схватил пару яловых сапог, и сердце остановилось: на каблуках были блестящие медные подковки. Алексей видел эти тускло сверкающие подковки каждый вечер, когда его сосед по нарам, москвич Володя, разувался. А вот и его темно-синие диагоналевые штаны. Алексею показалось, что он услышал его звонкий голос. Вечерами после отбоя они подолгу разговаривали шепотом...
Одежду и обувь растрелянных выгрузили в какой-то захламленный сарай на окраине города. Унтер вошел в дом с юрким неприятным человечком в сером клетчатом пиджаке и серой с ворсом шляпе на маленькой голове с оттопыренными ушами. Ждали очень долго. Солдаты нетерпеливо поглядывали на окна облупленного, покрытого грязно-бурыми пятнами особнячка, курили, поругивались.
Унтер вышел сияющий, довольный. Достал из нагрудного кармана пачку сигарет, распечатал и дал всем по сигарете, широко осклабившись и показывая редкие зубы:
– Гут? Я, я, гут...
В тюрьму возвращались пешком. Тусклое солнце уже клонилось к закату, остывая в пыльной мякоти осевшего неба. Дымчатой вечеровой тоской заволакивало глухие дали, немела и меркла замглившаяся глубина сиротливых полей. И пока шли по унылым, выцветшим пустырям, Алексей у каждого куста, у каждого сухого лопуха ждал выстрела в спину: ведь их, свидетелей преступления, тоже могли убить.
Тихий городок по-прежнему казался мертвым, только безучастный ко всему ветер порывисто шастал по заеложенным тротуарам, сметал в кучу мусор, потом, будто передумав, снова разметал его во все концы пустынной улицы. На железной дороге торопливо простучал и мигнул красным фонарем последнего вагона длинный эшелон. Небо совсем почернело, и там, в темной бездне, плавно покачивалась Большая Медведица, где-то далеко прогорланил петух, завыла собака. Вздрагивали, засыпая, ветви придорожных осокорей. Пахло мазутом и полынью. И вдруг в лицо Алексею пахнуло нестерпимо знакомым, родным запахом степной травы.
– Нехворощ, – прошептал он нежно, – так пахнет только нехворощ, печальный и горестный аромат увядания. – И опять подумал о тех, растрелянных. Все, как прежде, как вчера, как будет завтра, а их нет, жизнь, которую они любили, продолжается, а они умерли ночью, на свалке, под черным глухим небом, на сыром ветру... В конюшне Алексея встретил нетерпеливым возгласом комиссар:
– Ну?
– Одежду расстрелянных грузили на машину и отвезли в город, продали какому-то типу. Всю, даже рваные в клочья портянки.
– Где их?
– За городом, на свалке. На пустыре.
Больше комиссар ни о чем не расспрашивал. Стиснул зубы. На окаменевшем скуластом лице долго перекатывались тяжелые желваки.
Глава шестаяВ глухую полночь обитателей конюшни подняли. Выгнали на плац. Оцепили густым конвоем с овчарками. Десять раз пересчитали, отсекая четверки пронзительными лучами фонарей. У тюремных ворот выдали каждому по куску хлеба и ржавой селедке. Погнали по мертвым улицам Дрогобыча на вокзал. Вросшие в немую землю утлые домишки провожали колонну слепыми окнами да тягостными вздохами запутавшегося в деревьях сонного ветра. Полаивали и поскуливали озябшие собаки. Покрикивал конвой, подгоняя отстающих. Брызгали снопами света карманные фонари. На вокзале погрузили в товарные вагоны, по сто человек в каждый. Егоров примостился в передний правый угол, сел. Дверь с визгом закрылась. Тишину ночи оглушил пронзительный свисток, лязгнули буфера, сипло свистнул паровозик, и колеса торопливо и зло завыстукивали: там-та-там, там-та-там, там-тум-тум.
Где-то рядом, в тамбуре, вплетаясь в стук колес, заныла, заплакала губная гармоника. Мелодия была чужой, незнакомой, но отозвалась в сердце Алексея болью, острой тоской и печалью, переполняя душу мукой прощания и мукой разлуки.
В вагоне было тесно. Сидели носом в затылок товарищу. Ноги от неловкого положения быстро отекли, заломило спину, закружилась голова. Воздух стал тугим, липким. В редких щелях потемнело, только изредка мелькали пугливые станционные огоньки. Вагон обступила ночь. Поезд шел быстро, не останавливаясь.
Из заднего правого угла раздался твердый с хрипотцой голос знакомого Егорову бригадного комиссара. Голос часто прерывался приступами кашля, тяжелого, утробного.
– Товарищи, я старше всех вас...
В вагоне наступила тишина. Прекратились кряхтения, кашель и тихие перешептывания.
– Говори, отец.
– Так вот, сыночки, слушайте меня, как если бы послушали родного отца, будь он сейчас рядом с вами, кхе-кхе-кхе. Нас везут в Германию. Мы не можем допустить, чтобы нас угнали с родной земли, мы на будем работать на фашистов на их заводах. Мы остались верны воинскому долгу и военной присяге. Так я говорю?
– Правильно говоришь, отец. Что ты нам посоветуешь?
– Выход у нас один – сегодня ночью мы должны убежать. Все. Или жить и бороться... – он на мгновение замялся, – или умереть честной смертью. Другого пути у нас нет. Нам не надо милостыни от врага. Штаны, купленные на милостыню, всегда короткие и жмут...
Он долго кашлял. В вагоне молчали.
– Что же молчите? Или я неясно сказал?
– Надо бежать, – твердо сказал Егоров. – И немедленно.
– Конечно, бежать, – раздалось сразу несколько голосов.
– Другого выхода у нас нет, не в Германию же переться. Ты прав, отец.
– О чем тут говорить? Командуй, батя.
– А ты нас помирать не посылай, мы и без твово ума управимся, довольно, поумирали, – раздался из темноты злой ломкий голос. – Комиссаров тут немае, булы та уси выйшли, мы и сами комиссары...
– Это сказал трус и предатель, – голос комиссара был по-прежнему спокойным. – Кто это сказал?
Все молчали.
Комиссар продолжал:
– Что же молчите, товарищи. Или предателя послушали? Или забыли мудрость нашего народа: лучше суровая зима в родном краю, чем сто весен на чужбине? А? Так. Скоро уже утро. Ждать некогда. Днем побег невозможен. Надо бежать только сейчас. – Комиссар не договорил, закашлялся. Кашлял он долго, надсадно, с каким-то утробным свистом. – Пора действовать. Оконные люки, я это уточнил, когда грузились, закрыты только на засов. Засов находится посредине люка. Надо продолбить в стене отверстие, чтобы просунуть руку и открыть засов, и спустить вниз люк. Это не очень сложно. Вот вам медицинский скальпель, с большим трудом сберег для этой цели. Щепайте стенку и побыстрее. Чаще меняйтесь.
Алексей слышал, как от стены вагона стали откалываться щепки, сначала мелкие, крошкие, потом крупнее и крупнее, в щель дунул свежий ночной ветер.
Все замерли в ожидании. Через несколько минут ржаво скрипнул запор и чья-то рука опустила железную люковую крышку. Алексей из своего угла через головы сидящих увидел ночное небо с трепетно мигающими звездами.
– Спокойно, кхе-кхе, по одному давайте...
Теперь Егоров весь превратился в ожидание и в десятый раз жалел, что на сел поближе к окну, которое теперь то темнело, то вновь распахивалось в ночное небо. Товарищи один за другим прыгали. Чтобы унять дрожь нетерпения, он стал считать: «Седьмой, десятый... двадцать пятый...» Постукивали под полом колеса: та-та-там, тум-тум-тум. Вагон покачивало из стороны в сторону, а из проема окна падали в темноту один за одним люди.
Скорей бы! У окна шевелился сдержанный говор, нетерпеливые возгласы; неуклюжих поднимали, совали ногами в отверстие люка, приказывали коротко:
– Падай!
– Ну и корова, ты что на турнике не работал?
– Быстро, быстро!
– Куда прешь? Моя очередь...
– Давай, давай!
И вдруг протяжный, дикий, животный крик полоснул тишину, застучали в стенку вагона кулаки, затопали ноги:
– Немцы-ы-ы! Из вагона бегут! Бо-о-о-юсь! Бо-юсь!
– Ах ты, червяк!
– Заткни ему!
Чей-то сильный удар бросил кричащего на свободный пятачок пола; он закрутился, завыл пронзительно; удар каблуком прервал вой; все замерли, прислушались.
– Вот гад, погубил, – прохрипел комиссар, – поезд останавливается, услышали крик.
Вагон дернуло. Лязгнули со скрежетом буфера. Послышалась автоматная стрельба, гортанные крики, лай собак. Все ближе, ближе. Топот многих десятков ног оборвался за стенкой.
По открытому люку полоснул острый свет фонарей.
Брякнул засов. Завизжали колесики. Дверь вагона распахнулась. В лица стоявшим в вагоне ударил яркий сноп света. Все шарахнулись от дверей к стенкам. Мгновение длилась тяжелая угрожающая тишина. Растолкав солдат. к дверям подбежал офицер. Рванул левой рукой расстегнутый ворот мундира. Правой махнул резко и пьяно пошатнулся.
– Аллее! Аллллес цу ершиссен! Доннер веттер![3] 3
Аллес цу ершиссен! Доннер ветер! (нем) – Всех расстрелять! Гром и молния!
[Закрыть] – Неподвижные глаза смотрели в одну точку. – Аллее капут![4] 4
Аллес капут! (нем.) – Всех кончать!
[Закрыть]
Солдаты отступили назад, приставив к животам автоматы, и плеснули в вагон длинными очередями. Живые попадали вместе с мертвыми.
Егорова придавили к полу. Он задыхался. Казалось, что грудная клетка не выдержит тяжести и вот-вот хрустнет. Стоны, вопли, перемешанные с пьяной руганью немцев, переполнили ночь. Кошмар длился, казалось, бесконечно долго. Егоров напряг все силы и попробовал освободиться от навалившихся на него мертвых тел.
– Лежи, – обжег ему ухо чей-то голос, – терпи, это все же не смерть.
– Не выдержу, ребра лопнут.
– Пуля еще хуже...
Автоматы поливали и поливали огнем. Присутствие рядом живого человека приободрило Егорова. Он изловчился, вытянул из-под тел голову, жадно глотнул открытым ртом воздуха, уперся лбом в прохладную стенку, почувствовал облегчение. В вагон заскочил солдат. Пошарил по мертвым светом карманного фонаря. Сплюнул, выпрыгнул. Двери закрылись. Над Егоровым зашевелились. Тяжесть сползла. Алексей распрямился и сел. Голоса удалились. Но эшелон стоял еще долго. Слышно было, как вдоль состава ходили, поругиваясь, солдаты, проверяли запоры на дверях и окнах, чем-то стучали, пересвистывались. Несколько раз хлопнули одиночные выстрелы. Наконец все утихло. Протяжно свистнул паровоз, стукнули буфера, скрипнули колеса, застучали быстрее. Совсем рядом от Егорова выбивали частую дрожь чьи-то зубы, кто-то метался в беспамятстве, кто-то стонал жидким, всхлипывающим стоном. Тишину нарушил знакомый хрипловатый голос:
– Сколько уцелело? Отзовитесь.
Егоров радостно вскрикнул:
– Товарищ комиссар, вы тут?
– Тише. Кхе-кхе. Кто еще?
Из дальнего угла послышался злой голос:
– Я живой, мать их растуды и об землю...
– Еще?
В вагоне стало тихо, так тихо, что Егорову показалось, будто он оглох, словно после контузии.
– Да, маловато. Тридцать два человека убежали, трое живых, шестьдесят три товарища погибли.
– Шестьдесят пять, товарищ комиссар, нас же было сто.
– Шестьдесят три, – в голосе комиссара послушалось раздражение, – предатели и трусы в счет не идут.
Помолчали. Прислушались. Свистел, врываясь в щель встречный ветер. Постукивали колеса. Светало. В раскрытом квадрате люка начал появляться слабый утренний полусвет. Кружилась от голода ли, или от всего пережитого голова. Егоров удивлялся: опять уцелел, надолго ли, нет ли?








