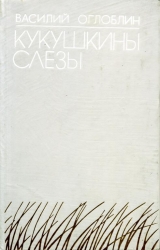
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Сильного в беде всегда тянет к сильному, а живого к живому. Как только истаяли в утренней тишине пьяные голоса солдат, в вагоне ободняло и поезд начал набирать ход, к Егорову подсел третий уцелевший парень. Был он еще совсем молод, высок ростом, белокур, с большими руками потомственного хлебопашца. Заговорил торопливо, часто озираясь на задремавшего в углу комиссара:
– Чо станем делать, браток? Положение у нас теперь аховое. В Германию этот груз, – он показал рукой на мертвых, – они не повезут, выгрузят где-то по дороге. Давай прикинемся мертвыми. А? Чо молчишь?
– Будь что будет. Снявши голову, по волосам не плачут. Бежать надо. Тут мы ничего не высидим.
– Куда побежишь теперь? Светло уже. А в тамбуре – слышь – голоса. Их там двое, либо трое сидят. Они теперь начеку. Глядят в оба. Кабы до следующей ночи дожить. Ночью убежали бы. Те, что убегли, идут теперь где-то, к своим пробираются. Пофартило.
Парень умолк на минуту. Повздыхал, повздыхал и зашептал снова, горячо дыша прямо в лицо Егорову:
– Послушай, а тебе не страшно с мертвяками-то рядом сидеть?
– Мертвый не тронет. Он безобидный. Живых надо бояться.
– Ну, не тронет, только страшно...
– И я и ты могли бы быть мертвыми. Чего нас бояться?
– Нас-то бояться нечего, а они ведь мертвые...
– Да помолчи ты. Думай больше.
– Пошто молчать, паря? Как звать-то тебя? Меня Василием зовут. Из Сибири я. Давай на пару бежать, все сподручнее будет, а?
– Почему на пару? А комиссар? Зовут меня Алексеем.
– Вот и ладно, Леш, все вместе и побежим, с комиссаром-то оно вернее... У него ума-то не с наше...
– У тебя, видать, слово в зубах не завязнет, – огрызнулся Егоров.
Парень насупился. Обиженно опустил глаза и умолк.
От длительного сиденья в одном положении тело у Алексея затекло. Он встал и, осторожно перешагивая через убитых, пробрался к открытому люку. В лицо освежающе дунуло утренней сыростью, прелым запахом мокрой земли. За насыпью понуро тянулась однообразная плоская равнина, испятнанная узкими длинными полосками полей. Проплыл убогий хуторок с тощими, общипанными хатенками, густо прилипшими к бурой, запепелившейся земле. К дороге вплотную подбегали нестройными рядами побуревшие, облупившиеся будылья подсолнухов и отставали. Вдали зыбуче покачивался чахлый, насквозь просматриваемый лесок. Провожая глазами убожество и нищету земли, Егоров догадался, что они едут по Польше, скоро будет Восточная Пруссия. «Надо что-то предпринимать, – думал он, – далеко уже увезли».
Поезд шел и шел. Бурые космы дыма клубились и рвались за люком, обдавая Алексея гаром; почти не умолкая плакала губная гармоника. «Радуется, гад, что с родной сторонкой встретится скоро, что еще живой, – подумал Егоров, – душа наружу рвется».
Алексей вернулся на свое место и сел. Комиссар по-прежнему дремал. Сосед заметно оживился. Его крупное скуластое лицо расплылось в улыбке, в глазах сверкнула робкая надежда.
– А знаешь, я думал, думал и додумался: мертвых они стаскивать не станут, они им для отчета нужны. Понял? Вишь, прут без остановки. Доживем до темноты – убежим. Ага? Чтой-то комиссар долго дремлет? Пусть себе подремлет, старый уже, притомился от такого-то кошмара...
– Погоди, не шуми. Забылся он.
– Ага, подождем малость.
Оптимизм сибиряка понравился Егорову, и он сказал дружелюбно, подражая ему:
– Убежим, паря, убежим.
А про себя подумал: «Удивительный все же русский человек. Сидит вот сибирский парень рядом с мертвыми, думает о жизни, даже способен улыбаться и пожалеть старшего товарища: «Притомился, пусть отдохнет от такого кошмара», – и лицо спокойное, кажется, равнодушное ко всему, что происходит вокруг...»
– А от ребят-то, паря, вроде дух дурной пошел?
– Не придумывай. Рано еще духу-то идти.
– А вроде бы уже и воняет.
– То тебе так кажется.
– Может, и кажется...
Он что-то хотел сказать еще, но вдруг весь напружинился, подался туловищем вперед, прислушался.
– Леш, а поезд-то сбавляет ход, неуж остановка? А?
– Да, останавливаемся.
Оба замерли.
– Лезем под мертвых... И комиссара мертвяками прикрыть бы.
Взвизгнули пронзительно тормоза. Поезд остановился. В квадрате люка видны были какие-то высокие кирпичные постройки, трубы, весь его разлиновали толстые обвислые провода. За стенкой послышался топот, отрывистые голоса.
– Пропали, братан, выгружать станут.
Егоров подполз к комиссару. Он сидел в прежней позе, откинув седой ершик к стенке и скрестив руки на груди. На худом темном лице застыла презрительная улыбка.
– Вася, а ведь комиссар-то умер. – Егоров нащупал его руку. Она была холодной. – Помер комиссар, и прикрывать его уже не надо. Теперь нас осталось двое, Вася.
– Гляди-ко, видно, раненый был, а не стонал ни разу...
Эшелон стоял долго. Мимо вагона несколько раз проходили солдаты, громко разговаривая. Каждый раз они стучали автоматами в стенку вагона и хохотали:
– Руссише риндфлейш[5] 5
Руссише риндфлейш (нем.) – русская говядина.
[Закрыть].
– Найн, руссише кальбсбратен[6] 6
Найн, руссише кальбсбратен (нем.) – нет, русская жареная телятина.
[Закрыть].
– Найн, руссише шинкен...[7] 7
Найн, руссише шинкен (нем.) – нет, русская ветчина.
[Закрыть]
И ржали раскатисто в несколько глоток.
– Я, я, руссише кальбсбратен...
Лоскут неба в квадрате люка становился все синее, постепенно наливаясь чернотой.
– Леша, а ведь уже вечереет, скоро ночь, как стемнеет – выгружать начнут убитых.
– Прикинемся мертвыми. В темноте не разберут.
Но поезд тронулся. И Егоров с сибиряком облегченно вздохнули.
Теперь эшелон шел мимо столбов, труб, платформ; всюду перемигивались и скрещивались неяркие огоньки, бежали вдогонку хриплые звуки, скрежет, лязг.
Сибиряк забеспокоился, подбежал к окну.
– Опять, братан, неладно, по городу едем, а бежать время, ждать некогда, может, они в морг вагон загоняют.
– Давай? – спокойно, как тогда в самолете перед прыжками, сказал Егоров и решительно шагнул к люку. – Не задерживайся, прыгай следом за мной.
Он поджался на руках, выбросил ноги в люк, напружинился, закрыл глаза и разжал пальцы. В уши хлестнул тугой ветер, откинул его назад, на срез насыпи. Падая под откос, Алексей дважды перевернулся и уткнулся носом в гравий. Сел, растер ладонями сильно ушибленное колено, вытер с лица грязь и кровь. Вверху, на насыпи, простучал и мигнул красным фонарем последний вагон. Эшелон ушел.
Алексей встал и поковылял, сильно припадая на ушибленную ногу. Пройдя шагов сто, он легким свистом позвал товарища. Тот отозвался впереди. Они сошлись и, прислушиваясь и озираясь, пошли по нахохлившемуся лесу.
– Чудеса, да и только, – бурчал сибиряк. – Ехали по городу, а оказались в лесу. Как оно у них так-то?
Но не успели пройти и сотни шагов, как Егоров натолкнулся на высокий каменный крест, споткнулся за плиту, упал, чертыхаясь, в низкорослые кусты.
– Фу ты, чертовщина какая, это, сибирячок, не лес, а кладбище. Кладбища-то у них бывают в самом центре города, а не на отшибе, как у нас.
– И право, погост, гля, кресты кругом. А вон и лампада горит. Опять к покойникам попали, везет нам на мертвяков.
Они сели на влажную могильную плиту, стали вслушиваться в тишину и всматриваться в ночной мрак. Над чужим городом висела черная тревожная ночь. Эту затаившуюся черноту из конца в конец вспарывали длинные молнии, сквозь чащу кладбищенского леса изредка проклевывались редкие огоньки, доносился глухой перекатывающийся гул.
– Гроза, что ли, надвигается? – спросил Василий. – У их ведь все не по-русски, может, и грозы в начале весны бывают? А?
– Это, сибиряк, не гроза. Это самолеты приближаются наши, вот немчура и встревожилась. Скоро сабантуй будет. Знаешь, что такое сабантуй?
В разных концах города лихорадочно завыли сирены, брызнули в провалившееся небо жидкие снопики прожекторов, вразнобой, слоено зазевавшиеся собаки, затявкали зенитки.
– Налет, – возбужденно сказал Егоров, – вот-вот начнется, слышь, как небо содрогается, волнами идут, армада. Покажут кузькину .мать...
И в ту же секунду огромные фонтаны огня брызнули в небо. Земля под ногами качнулась. Егорову показалось, что зашевелились даже кресты на могилах. Город оглушило, ослепило. Все вокруг гудело, трещало, горело и рушилось. Стало светло, как днем. И в этом переменчивом фантастическом свете было видно, как рассыпаются вокруг городского кладбища громады средневековых готических домов, как летят в воздух лавины вспоротой земли и клубы черного дыма застилают все вокруг.
– Славно работают ребята, – восхищался Алексей, – жарко стало не только живым, но и мертвым. Оживают наши соколы, оживают, лето сорок первого миновало...
Натыкаясь на кресты, запинаясь о плиты, ослепляемые частыми вспышками, побежали они с кладбища в самую гущу огня. Только теперь, когда все живое зарылось под землю, и смогут они выбраться из лабиринта городских кварталов.
– Бежим, сибирячок, бежим, – прерывающимся от бега голосом хрипел Алексей на ухо товарищу. – Хлопцы помогают нам вырваться из проклятого капкана, хлопцы спасают нас, удирать надо быстрее из города, после бомбежки поздно будет.
Долго метались они среди огня и с оглушительным хрустом оседающих зданий, перебегая пустынные кривые средневековые улочки, перелезая через дымящиеся завалы, пока вырвались из города в пустоту и тишину.
– Во банька была, думал – учадею! – тяжело дыша и отдуваясь, хрипел сибиряк. – Теперь опнемся малость, а то дух парком выйдет.
Они присели на сухой взлобок. Отдышались. Пламя над городом упало, стало заметно чахнуть. Затявкали зенитки. На востоке начал растекаться слабый расплывчатый утренний полусвет, потянуло сырым понизовым ветерком.
– Очухаются в городе скоро, уходить надо подальше, – решительно заявил Егоров, посмотрев на съежившегося, угрюмо молчавшего сибиряка.
– Теперича пожевать бы чего-нибудь не мешало, – вскинул он понуро опущенную голову. – Эх, краюху бы аржаную, тепленькую да сольцой присыпанную, во как мутит все в середке.
– Не дразни себя. Знаешь же, что пожевать нечего. Вот оглядимся немного – добудем где-то еды. Вставай, пошли!
– Куда пойдем?
– А вон туда. Небо светлеет, и заря занимается. Путь у нас с тобой один – на восток.
– Айда на восток.
Побродив по унылей заболоченной низине, они вышли на узкую, выложенную крупным булыжником, дорогу и зашагали к темнеющему на горизонте лесу. Светлела, растекаясь все шире и шире, малиновая полоска зари. Алексей, шел впереди спорым шагом, рассматривая местность, подолгу останавливал взгляд на затопленных синим весенним разловодьем жидких рощицах, тоскливо смотрел на звонкий и пенистый, ускользающий в лощинку ручей. И то ли от ощущения буйного весеннего пробуждения, то ли от сознания того, что земля эта чужая, ручьи и рощицы чужие, и даже сам воздух, настоянный на острых запахах прели, влаги и хмельного брожения соковицы, чужой, у Алексея Егорова с такой необъяснимо великой силой проснулась тоска по родной земле, так заныло и защемило сердце, что стало тяжело дышать и смотреть вокруг.
Он зло ускорял шаг, и рослый, здоровый сибиряк едва успевал за ним.
Взошло солнце, и заметно потеплело. Алексей предложил:
– Давай, дружок, ополоснемся в ручье, грязь и кровь чужую смоем.
– Давай, – охотно согласился сибиряк.
И они впервые за все это время пристально посмотрели друг на друга.
– Паря, а ведь на тебе лица нет! – воскликнул сибиряк, и Егоров увидел, как побледнело его лицо, а зубы начали выбивать мелкую частую дробь. – Ты посмотри, сколь на тебе крови!
– А ты посмотри, сколько на тебе...
Егоров все пристальнее всматривался в его лицо, прислушивался к его раскатистому юношескому баску и убеждался в том, что он сильно напоминал ему кого-то.
– Послушай, браток, а как твоя фамилия, а то идем, идем вместе...
– Моя-то? Кислицын прозывался от рождения. А чо?
– Кислицын?
– Ага. А чо?
– А у меня помкомвзвода был Кислицын, сержант Кислицын.
– А чо удивляться? Ежели был сибиряк, то у нас пол-Сибири Кислицыны, ага, а как звали-то твово сержанта?
– Сережа Кислицын.
– Гляди-ко. А у меня старший братан Серегой прозывался. На два года старше меня. В парашютистах служил. В Сухиничах.
Егоров обнял парня за плечи:
– То и был твой старший брат у меня помощником, Сережа Кислицын. Дружили мы с ним. Боевой был парень. Погиб он на моих глазах...
Оба надолго замолчали. Слова тут не понадобились.
И только теперь, очнувшись и пытливо вглядываясь друг в друга, они оба поняли, какую страшную ночь пережили, и только теперь им стало по-настоящему страшно. Их колотил, сотрясал нервный озноб.
– А ведь мы с того света выцарапались, – прохрипел Кислицын.
Но слабость была минутной, и Егоров уже стряхнул ее.
– А ты, дружок, не думай об этом, забыть старайся, будто приснилось тебе.
Они спустились к бурлящему пенистому ручью, пристроились половчее и умылись, а Кислицын все не унимался:
– А комиссар-то, бедолага, даже не ойкнул, не застонал, руки на груди скрестил и голову высоко поднял, а...
– Человеком он был, истинным русским.
Кислицын задумался, спросил нетерпеливо:
– Что теперя делать-то станем?
– К своим пойдем, воевать, Вася, будем.
– Ага, воевать. Я теперича ух как зло воевать стану. Я им буду глотки зубами рвать, мне и за Серегу еще расквитаться надо. А как же... Больше уж в вагон не попадусь...
Когда, умывшись, выходили на дорогу, Егорова осенило: лучшего места для сна не сыскать, чем бетонная труба под шоссе. Сюда вряд ли кто заглянет. Труба была овальная, словно арка; по дну ее тек ручеек, мутный, тенистый, пропахший карболкой и известью, на окрайках же было сухо. Солнечные лучи еле-еле заглядывали в нее, и в глубине притаился сырой мрак подземелья.
– Вот тут, Вася, мы и переднюем, – указал Егоров на трубу.
Они, пригибаясь, влезли в этот удобный схрон, вытянулись на влажном песке, тесно прижались друг к другу.
– Алеша, а ты расскажи мне про братана, про Сережу, а?
– Потом, потом, у нас будет еще время.
– Ладно...
Они уснули крепким сном измученных людей. Чахлый ручьишко жадно ловил первые острые лучи поднимающегося над землей солнца, преломлял их в мутных каплях и брызгал на лица спящих радужными бликами.
Было начало апреля сорок второго года. Шел десятый месяц войны.
...Через шестьдесят семь суток они, изможденные, в рваной одежде, босые, совершенно неожиданно для себя в темном притаившемся лесу напоролись на молодой властный голос:
– Стой! Кто идет?
– Свои, браток, свои.
– Пароль?
– Да не знаем мы, браток, никакого пароля.
– Не разговаривай! Ложись! Стрелять буду!
– Не шуми. Доложи начальству: Маяк возвращается с задания.
– Ложись!
– Можем, браток, и полежать, нам теперя это ох как пользительно, милый ты наш, родной ты наш, – пророкотал Кислицын и с удовольствием вытянулся на оросенной нетоптанной траве.
ВЕСНА В ТЮРИНГИИ
Глава перваяВ ночь на двадцать третье марта сорок пятого года третья ударная армия генерала Паттона в составе трех корпусов начала форсирование Рейна в районе города Оппенгейма. В 22 часа 30 минут переправилась пятая пехотная дивизия. Оборонительная линия немцев перед форсированием была перепахана огневым ударом штурмовой авиации, и потери были незначительными – двадцать восемь человек убитыми и ранеными. Первой достигла противоположного берега рота лейтенанта Сергея Бакукина. Над Рейном плыл молочный туман. Рота через полчаса после начала переправы вела бои на улицах города. Горластые, напористые негры, солдаты роты, прочесывая квартал за кварталом, быстро продвигались вперед. За пехотой широкий и быстроводный Рейн форсировали четвертая и одиннадцатая танковые дивизии.
Сломив слабое сопротивление немцев, армия начала развивать наступление в сторону Веймара, Готы, Эрфурта и Ордруфа.
Узкие улочки перепуганного и притаившегося Оппенгейма запрудили сплошным потоком тяжелые танки. Увалисто раскачиваясь и высекая снопы искр из булыжной мостовой, танки рвали длинными стволами пушек слоистый ночной туман и, время от времени постреливая, вырывались на простор. За танками хлынули юркие тупорылые джипы с автоматчиками. В мокром воздухе бюргерского Оппенгейма повис густой рокот мощных моторов, отрывистые гортанные крики солдат, одиночные и потому оглушительные выстрелы танковых пушек, лязг гусениц, шум, вой. Безлюдный город трепетал белыми флагами: из каждого дома, с каждого балкона свисали униженно и покорно длинные белые полотнища. Город безропотно отдавался во власть победителя.
Командир второй роты первого батальона лейтенант Бакукин получил по рации приказ батальонного командира прекратить движение.
Рота остановилась и заняла поспешно покинутый хозяевами белокаменный особняк в центре Оппенгейма. Дом, судя по всему, принадлежал крупному фашистскому боссу. Все вещи в комнатах были на месте, а роскошная постель в спальне хранила запах тонких женских духов. Бакукин подавил сжатым кулаком высокие пышные перины на постели, ухмыльнулся, снял автомат и бросил его на постель.
– Поспим на фашистских пуховиках.
Он выставил у входа автоматчиков и оглядел усадьбу. Ажурная чугунная решетка окружала просторный двор с газонами, клумбами и белыми статуями древнегреческих богинь и богов в ухоженных умелыми руками аллеях. В тумане плавал большой сад. У парадного входа с высокими тучными колоннами по сторонам мраморной лестницы застыли в величественной и угрожающей позе два каменных льва. На верхний этаж, украшенный балконами с чугунными решетками в стиле барокко, вела мраморная лестница с бронзовой баллюстрадой. Лестница до самого верха была застлана дорогой ковровой дорожкой.
Приказав роте размещаться в комнатах нижнего этажа, лейтенант поднялся наверх, внимательно оглядел просторную прихожую. На вешалке висело кожаное пальто, тут же рядом были трость с костяным набалдашником и фетровая шляпа. Над двустворчатой дверью – большой портрет Гитлера в массивной багетной раме. Лейтенант подпрыгнул, сорвал портрет, чиркнул по нему тесаком крест-накрест и швырнул к входной двери. Ординарец, веселый белозубый негр, с хохотом вытер подошвы ботинок о шутовскую челку фюрера. Но Бакукин даже не улыбнулся. В последние дни ему все чаще и чаще хотелось побыть одному, наедине с самим собой, со своими думами и воспоминаниями.
– Устраивайся на ночлег вот здесь, – показал он ординарцу на соседнюю комнату, – и можешь отдыхать, а я погуляю по особняку.
Он осмотрел богатую библиотеку, к его изумлению наполовину состоявшую из русской классики, в задумчивости постоял в зале. Ординарец притащил ящик рейнского вина и кучу банок с консервами. Бакукин поморщился.
– Отнеси все это, Джеймс, ребятам. – И прошел в спальню.
Постель отливала голубоватой белизной простынь. Два толстых пуховика, заменяющих одеяла, были откинуты, на высоких подушках еще сохранились вмятины от недавно лежавших голов. Сергей положил под крайнюю подушку автомат, придвинул к кровати стул и сел разуваться. Вдруг за торшером, словно тень, отделилась от стены дрожащая, как в лихорадке, бледная девушка и неслышной скользящей походкой проплыла по спальне, бесшумно легла в постель. Ладонями маленьких смуглых рук она закрыла испуганные глаза, из которых вот-вот должны были брызнуть слезы.
– Битте, герр офицер, – сказала она слабым голосом.
Бакукин сначала растерялся, оторопел, потом, поняв, в чем дело, насупился, лицо его стало строгим и печальным. Он шагнул к постели, сказал тихо, ласково:
– Не надо, встаньте!
Девушка несмело отняла ладони от лица, с минуту смотрела в печальные глаза еще совсем молодого офицера. Ее большие глаза озарились, засияли теплым и благодарным светом, который брызнул внезапно вместо готовых пролиться слез. Она села на краю постели, опустила на коврик босые ноги. Бледность стекла с ее лица, она улыбнулась слабой, вымученной улыбкой.
– Это правда?
– Не обижу. Успокойтесь.
Она снова улыбнулась благодарно и заговорила быстро-быстро, с придыханием, переходя на шепот, ласковый, доверительный, и не переставала смотреть Сергею в глаза:
– Меня, господин американский офицер, зовут Ирмой. Я служу горничной у фрау Ильзы. Фрау – злая, желчная дама. Фрау часто била меня за всякий пустяк. Два часа назад они сели в машину и уехали неизвестно куда. Меня оставили следить за домом и имуществом.
– Кто они? – перебил ее лейтенант.
– Фрау Ильза и ее муж, редактор и издатель местной газеты, Отто. Фрау обещала хорошо заплатить мне, если я сберегу имущество и дом...
Слушая торопливый рассказ Ирмы, лейтенант мрачнел. Перед глазами всплывали страшные картины недавнего прошлого, перед глазами стояла Богуслава. Девушка заметила это и замолчала, тревожно и выжидающе бросая на офицера быстрые взгляды.
– У вас есть комната? – спросил после неловкого молчания Бакукин.
Ирма опять заторопилась:
– Да, у меня на чердаке есть небольшая комнатка, и если господин офицер не возражает, то я уйду к себе и не буду больше беспокоить господина своим присутствием. Господин офицер устал и должен отдохнуть, а я каждый вечер перед сном буду молиться за него и просить деву Марию уберечь его в этой страшной войне, я буду просить ему счастья, добра и радости...
С этими словами Ирма встала, сконфуженно одернула платьице, отыскала туфельки и, изящно сделав реверанс, ушла, высокая, стройная, красивая, чем-то немного напоминающая Богуславу.
Бакукин спустился вниз. Его ребята спать не думали. Они сидели в просторной столовой вокруг длинного стола и, обнявшись, пели громкими гортанными голосами печальную негритянскую песню. На столе было тесно от бутылок и банок.
– Ребята, в доме есть девушка-служанка.
– О’кей! – в один голос выкрикнули они и заулыбались широкими белозубыми улыбками. – Немецкая девушка господину офицеру.
– Нет, ребята, ни один из нас не обидит ее.
– О’кей!
– Ничего, кроме вина и пищи, не брать!
– О’кей!
– Если что-нибудь пропадет – бедную девушку накажут.
– О’кей!
– И пора спать!
– О’кей!
Десяток стаканов с вином потянулись к командиру роты, но он остановил протянутые к нему руки и, шутливо погрозив пальцем, пошел наверх. Он всей душой полюбил этих славных и сильных ребят. Он воюет с ними почти полгода и знает каждого. Все они большие наивные дети. В дверях он остановился и еще раз повторил:
– Спать!
– О’кей, господин лейтенант!
Но почти всю ночь раздавались то протяжные и печальные, то быстрые и веселые негритянские песни, звенел веселый девичий смех, заглушаемый раскатистым солдатским хохотом. Особняк редактора и издателя фашистской газеты не хотел погружаться в сон.








