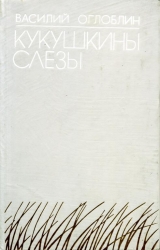
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– От жары все и от ран, – сказал сам себе. – Ночью добуду пищу, поем, и все пройдет.
Всю ночь он искал жилье человека. Под утро набрел на небольшой хуторок. Зашел в крайний двор. По остро-кислому запаху безошибочно угадал, что на усадьбе есть кролики: в детстве он кормил и любовно ухаживал за этими безобидными животными, и запах их жилья отличит среди тысячи запахов. Он отыскал увесистый булыжник, нащупал в темноте проволочные клетки, открыл одну из них, убил двух больших кроликов и ушел.
Но даже наевшись досыта поджаренной на костре несоленой крольчатины, он не почувствовал облегчения. Его по-прежнему лихорадило, тошнило, кружилась голова и пересыхало во рту. «Неужели всему виной раны? – тревожно думал он. – Ведь ранения легкие, крови потерял, правда, много. Чепуха. Раскис. Надо идти...»
На пятую ночь он вышел в лес. Обрадовался. Но быстро понял, что и лес больше не был ему другом. Силы таяли. Усилием воли он заставил себя идти, не останавливаясь ни на минуту. Взбирался на горные кряжи, жарил на берегах быстрых речушек мясо, переходил эти речушки вброд, спускался в распадки, продирался через бурелом, и все слабел, слабел, слабел. Людей нигде не было.
Седьмой день он провалялся в какой-то лесной канаве, часто впадая в забытье. В лесу было душно, и он задыхался. Нога превратилась в неотесанное бревно.
– Комель, как есть комель старой лиственницы, – бурчал он, оглядывая ногу. – Что же происходит. Ведь ничего страшного не может быть, раны пустяковые, царапины. Ну, опухла нога, горит вся, загноилась, надо перевязывать чаще...
Он отодрал от раны засохший лоскут рубахи, прополоскал водой, выбрал чистое место на тряпице и снова завязал.
– Пройдет. Это не смертельно. – Он опять успокоил себя. – Надо идти. Даже днем идти, места глухие. Много позволяю себе. Так ты и до конца войны ходить будешь без толку, вояка...
Вечерняя прохлада приободрила его. Он решительно встал. Прислонился к стволу дерева. Внизу, в долине, клубился молочный туман, предвестник близкой ночи; вверху загорались и трепетно задрожали далекие звезды. Их голубоватый свет показался ему мертвым.
– Нет, – стиснув зубы, прохрипел он, – это еще не конец. Не могу я так глупо умереть.
В высокой черной бездне падали, срываясь, звезды. Одна, вторая, третья... Следя за их стремительным полетом, он рухнул и потерял сознание.
Так, в беспамятстве, в бреду, он провалялся на вершине лесистого кряжа всю ночь и весь долгий день. Когда очнулся – снова светило солнце, только свет был каким-то вялым, болезненным. Он долго лежал, ничего не понимая. Потом сел. Опять ощупал разбухшую ногу и попробовал встать. Резкая боль бросила его на землю. Тогда он стал цепляться здоровой рукой за камни и подтягивать, словно червь, непослушное тело. Подтянет, отдохнет, и опять ищет глазами камень. Так, в кровь исцарапав тело, ободрав одежду, он спустился с кряжа, переполз через дно распадка, напился в горном ручье холодной воды и стал карабкаться в гору по крутой каменистой тропе. До слуха донесся громкий собачий лай. А когда он утих, Сергей явственно услышал человеческие голоса. Почувствовав опасность, он насторожился, достал из кармана вальтер. Но человеческие голоса и собачий лай удалились. Тогда он стал пристально всматриваться в голубой сумрак и заметил на вершине горы большой белый дом, окруженный вековыми соснами. Дом ослепительно сверкал белыми стенами. Окна его невозмутимо отражали закат, а красная черепичная крыша становилась все краснее. Бакукин долго, не отрываясь, смотрел на эту крышу. От яркого красного цвета его опять затошнило, и в глазах пошла рябь. До слуха долетели измятые расстоянием голоса, обрывки чужой песни, беззлобное урчание пса, плеск воды.
«Чуть не влип, – промелькнуло в сознании, – надо уходить...»
Он заставил себя встать. Взял в руку пистолет и пошел в противоположную от дома сторону, опять на тот лесистый кряж, с которого он с таким трудом спустился. Близость опасности взбодрила его, и он пошагал словно пьяный, шатаясь из стороны в сторону, по крутой каменистой тропе. Он сделал два десятка шагов и упал. На эти шаги были израсходованы его последние силы. Красная крыша над белым домом ярко вспыхнула и медленно погасла. Палец руки, судорожно сжимаясь, нажал на спусковой крючок. В тишине лесного вечера глухо хлопнул выстрел. Эхо подхватило его и раскидало по дремлющим горным распадкам.
Через несколько минут, ножом разжимая намертво стиснутые зубы, ему вливали в рот коньяк. Над ним склонились мужчина и женщина, и быстро застрекотала картавящая французская речь:
– Тихо, тихо, Марсель, он жив, он бредит, он что-то говорит. Слушай: Бо-гу-сла-ва. Богу слава. Странно. Это имя женщины. Польки. Да, да, это имя польки. Слушай, слушай. Это поляк. «Пить, пи-и-ить». Странно. «Пить» – это русское слово. Марсель, это русский, – торопливо говорила женщина, склоняясь над незнакомцем и наклоняя ухо к его пылающему жаром рту. – Он просит воды.
– Судя по одежде, это немец. Одежда немецкая.
– Одежду он мог добыть. Это русский.
– Русский? Откуда он мог взяться здесь?
– Кто знает, мало ли шатается теперь в лесах всякого люда?
– Быстрее обрабатывайте его раны, придет в сознание – все расскажет.
– Чем? – вспыхнула женщина. – Сбегай домой, принеси мою сумку. Только быстро.
Марсель бегом побежал в гору, к белому дому, девушка уложила незнакомца на спину и быстрыми, торопливыми пальцами ощупала его тело, послушала пульс, вздохнула:
– Живой.
– Будет жить? – спросил Марсель, подавая девушке сумку.
– Надеюсь. У него, думается мне, просто большая потеря крови и сильное истощение.
– Как он догадался выстрелить?
– Скорее всего, это случайно.
– Возможно.
Над Бакукиным склонилась высокая стройная девушка в блузе и брюках. Тонкие смуглые руки быстро обрабатывали грязные воняющие раны. Марсель еще раз влил в рот коньяку. Бакукин пришел в сознание. Рука рванулась к пистолету. Стоящий рядом смуглый мужчина с пушистой бородкой улыбнулся.
– Кто вы такие? – прохрипел Бакукин, порываясь встать.
Бородач рассмеялся:
– Ожил. Мы не немцы, не фашисты, – сказал он по-немецки, – можете с нами говорить и на родном языке, мы все равно ничего не поймем. Успокойтесь. И пистолет вам пока не нужен, а лучше всего подремлите, это полезнее.
– Кто вы?
– Вы у друзья, товарищ, – коверкая слова, сказал бородач по-русски. – Мы партизаны, маки.
– А-а-а-а-а, – застонал Бакукин, – друзья...
Обо всем этом ему рассказали Сюзан и Марсель позднее, когда он был уже совершенно здоров.
Так он, Сергей Бакукин, советский лейтенант-парашютист и узник Бухенвальда, попал к французским партизанам, а от них в октябре сорок четвертого – в регулярную часть американской армии. До конца сорок четвертого воевал рядовым. Ранним утром шестнадцатого декабря немцы внезапно начали в Арденнах крупное контрнаступление. Американские войска, застигнутые врасплох, пришли в полное замешательство и в первые дни беспорядочно бежали по всем дорогам, ведущим на запад, сломя голову. Такого жуткого панического бегства войск Бакукин еще не видел.
Второго января сорок пятого в Вогезах, на небольшом лесном плато, в тяжелом неравном бою, когда остаткам батальона грозило полное уничтожение, Бакукин взял командование на себя и вывел батальон из плотного кольца немцев. После этого боя в буковом лесу его назначили командиром мотострелковой роты и представили к высокой награде, которую вскоре вручил ему командующий третьей ударной армией генерал Паттон.
И вот уже почти три месяца командует русский лейтенант американской ротой. Командует не хуже самого сэра Ричарда Самаса, командира батальона. С грехом пополам, воруя время у короткого сна и проклиная себя на чем свет стоит, выучился довольно сносно говорить по-английски, выслушивать и понимать приказы батальонного командира, и вот – командует, где тяжелым словом, где жестами и мимикой, а больше личным примером: пистолет над головой и – айда, ребята, вперед, бей гадов! Белозубые кучерявые парни полюбили его и понимали всегда без слов. О’кей! И – точка.
Глава пятаяУтро вставало над землей светлое, радостное. Сергей спрыгнул с кровати, потянулся, трижды присел, выкидывая рука, подошел к окну, распахнул его настежь. В комнату хлынул приторно-сладковатый аромат цветущей сирени. Ярко светило солнце. В его теплых лучах таяли, испарялись последние летучие космы ночного тумана. В утреннем свете все выглядело вокруг просторнее, объемнее, и по всему разливалась еще дремлющая, не проснувшаяся окончательно влажная утренняя теплота. В саду пели птицы. Между деревьев струился голубоватый дымок и нежно лоснилась молодая влажная зелень. В глубине сада был большой овальный бассейн, окруженный плакучими ивами.
И Бакукин остро почувствовал весну, ее тонкие, будоражащие душу запахи. Вместе с этим светлым чувством пришло второе – чувство радости и полноты жизни, какое, несмотря на все горечи и утраты, приходит только к молодому здоровому человеку.
Он быстро оделся и вышел. Автоматчик у входа улыбнулся ему во весь рот и отдал честь. Побродив по саду и насладившись тишиной и покоем, Сергей зашел к радисту, прослушал последние сводки о событиях на фронтах стремительно приближающейся к финишу войны. Сообщение Совинформбюро и немецкая сводка совпадали. Фашисты научились, наконец, говорить правду, война научила. Советские армии вели бои крупного масштаба на подступах к Кенигсбергу, Вене, Братиславе и Вроцлаву.
Солдаты жарили на кухне тушенку с яйцами, пекли на хозяйских сковородках пышные пресные лепешки, пили вино, кричали гортанными голосами, кидали в открытые окна окружившим дом голоногим девчонкам галеты, сигареты и шоколад, весело ржали, перемигивались, звонко щелкали языками, повторяя свое неизменное «о’кей!»
– Ком, ком, блонден гаре...
– Их?
– Е, е, ду.
– Битте шойн.
– Гитлер капут?
– Я, я, капут.
– Гретхен, люблю Джеймса?
– Я, я, гут, их либе дих...
Девочки звонко смеялись, солдаты ржали.
Бакукин знал, что ночью все эти пятнадцатилетние арийки будут сидеть на коленях у солдат, пить вино, целоваться, визжать, обнимать тонкими полудетскими ручонками бычьи шеи здоровенных ребят, а когда все утихнет – спать с солдатами во всех уголках особняка фашистского идеолога, под каждым деревом его богатого сада. Лейтенант при виде этого морщился, злился, но поделать ничего не мог: в американской армии подобный образ поведения солдат не только не возбранялся, но всячески поощрялся старшими.
Ординарец принес завтрак: квадратную бутылку виски, миску бобов с тушенкой, хлеб, галеты, шоколад, плитки чуингама и бутылку кока-колы. Бакукин приказал все это отнести на чердак служанке Ирме, а сам спустился на кухню и позавтракал вместе с солдатами. Пресные негритянские лепешки ему понравились, они напоминали сибирские шаньги, которые он так любил в детстве.
Весь день и вечер Бакукин провел в библиотеке, с интересом обходя полки и заглядывая в книги. Поморщился. Белогвардейская макулатура. Швырнул в угол. Рядом – «Единая, неделимая». Тоже полистал. Тоже – в угол. Взял следующий увесистый том. «За чертополохом». Автор Краснов. Вспомнил казачьего атамана. Ухмыльнулся: «На писанину потянуло». Взял следующий том – «От двухглавого орла к Красному знамени», автор тот же.
– Ого! – присвистнул Бакукин. – Целое собрание сочинений битого белогвардейского атамана!
Но вот настоящий клад: Достоевский, Лев Толстой, Александр Куприн. Все на русском языке. Видимо, фашист изучал загадочный русский характер, иначе для чего же иметь в личной библиотеке эти книги? Да, изучал, изучил и сбежал без оглядки, оставив дом и все свои сокровища на беззащитную и робкую служанку Ирму, научив ее продать себя за расположение американского офицера.
Набрал полную охапку русской классики и читал до рассвета. Все это богатство он потом приказал ординарцу отнести в машину.
Утром рота покидала особняк. Плотной немой стеной стояли в стороне, робко наблюдая за происходящим, бледные после бессонной ночи девчонки в дешевых измятых платьицах, остановив на уходящих тусклые неподвижные глаза. Под деревьями в молодой зелени растекались влажные голубоватые тени, от пригретой земли шел парок, фыркали джипы, лязгало оружие, летели в сторону девчонок последние бессмысленные слова прощания. В окне второго этажа застыла строгая неподвижная фигурка Ирмы, ее маленькие круто изогнутые губы были плотно сжаты. Встретившись взглядом с лейтенантом, она улыбнулась и низко поклонилась. А еще через три минуты и особняк, и сад, и окутанный голубоватым туманом город скрылись в облаках бурой пыли.
Бакукиным овладело нетерпение. Душа его ликовала. Двигались в сторону Веймарского треугольника, в сторону Бухенвальда. Дороги были сплошь разрушены и загромождены завалами. Организованной обороны у немцев уже не существовало. Небольшие разрозненные группы фашистских солдат, которые колонна встречала на своем пути, обычно сдавались без сопротивления. Это были измотанные, изможденные, падающие от усталости с ног солдаты различных родов войск. И Сергей Бакукин невольно вспоминал сорок первый год и свои мытарства в тылу врага. Тогда это были сытые, наглые и жестокие завоеватели, а эти напоминали смирных и трусливых нашкодивших котят. Тогда было начало войны, а теперь рукой подать до ее конца. Пленных почти не допрашивали: в этом не было надобности. Все они твердили одно и то же: «Гитлер капут», тяжело вздыхали и обреченно махали руками. Им уже было все безразлично – навоевались.
Первого апреля третья ударная армия подошла вплотную к Веймарскому треугольнику. Четвертая танковая дивизия стояла в десяти километрах к западу от Эйзенаха, одиннадцатая танковая – в Оберфельде. Эти места Бакукин знал. Падение Веймара, в восьми километрах от которого находился фашистский концлагерь Бухенвальд, считалось делом дней или даже часов. Нетерпение Бакукина росло: скоро, скоро он встретится с товарищами, если они уцелели.
Восьмого апреля в половине второго дня к Бакукину прибежал взволнованный радист.
– Сэр, минуту назад принята радиограмма, переданная открытым текстом по азбуке Морзе, – он протянул лейтенанту листок бумаги. – Очень важно.
Бакукин прочитал:
«Союзникам. Армии генерала Паттона. Передает концентрационный лагерь Бухенвальд. SOS! SOS! Просим помощи! Нас хотят уничтожить».
– Радиограмма, – торопясь и волнуясь, сообщил радист, – была передана на английском, немецком и еще каком-то неизвестном мне языке.
Бакукин побежал с радиограммой в штаб армии.
– Там десятки тысяч людей, много русских, – торопился он высказать свои мысли адъютанту командующего. – Мы не можем медлить, надо спешить на помощь.
– Будет доложено генералу, – сухо ответил адъютант. – Можете быть свободны, сэр.
– Да, но... я хотел бы доложить лично, я знаю...
– Можете быть свободны, сэр.
В тот же день был передан ответ также открытым текстом на английском языке: «Концентрационный лагерь Бухенвальд. Держитесь. Спешим на помощь. Штаб третьей армии».
Бакукин, узнав об этом, успокоился. Узники концлагеря будут спасены. Но шли часы, шли сутки за сутками, а на помощь бухенвальдцам никто не спешил. Стальная лавина ударной армии застряла в нескольких километрах от горы Эттерсберг, около Эйзенаха и Эрфурта.
Сергей вспомнил, как они вместе с Алексеем Русановым прорывались к своим из вражеского тыла. Холодной вьюжной ночью первого февраля сорок второго года их восьмая воздушно-десантная бригада была выброшена в район Озеречни для усиления сражавшегося в тылу врага в районе Вязьмы первого гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. Десятого февраля они после тяжелых боев заняли район Моршаново – Дягилево, разгромили наголову штаб пятой фашистской танковой дивизии, захватили огромные трофеи. В начале апреля противник, сосредоточив крупные силы, начал активные действия против десантников. Командование фронта приказало выводить воздушно-десантные войска на соединение с десятой армией через партизанские районы, лесами и болотами. Начался трудный и длительный поход с тяжелыми боями. В середине июня батальон, где Бакукин командовал ротой, окружили фашисты. После трех суток беспрерывных боев от батальона осталась горстка бойцов. Лесок, где они засели, простреливался насквозь, все в нем рвалось и горело. В ночь с двенадцатого на тринадцатое июня комбат Русанов повел остатки батальона в последнюю атаку. В этой отчаянной атаке пуля пробила Бакукину грудь, не задев сердце. Они вчетвером, с раненым комбатом Русановым и еще двумя десантниками, отползли к болоту, сплошь заваленному трупами. Диски в автоматах были пусты. Не было ни патронов, ни гранат. Ничего не было, кроме пылающих ран.
Как только загустились жидкие июньские сумерки, они отползли к лесу и пошли. По дороге у Бакукина горлом хлынула кровь, он упал и потерял сознание. Какая участь постигла комбата и двух парашютистов – он не знал. Когда очнулся, в небе над головой висело палящее солнце. Над ним стояли фашистские автоматчики, громко переговариваясь: «Рус официер, рус парашютист...» Орден Ленина и орден Боевого Красного Знамени на гимнастерке и кубики в петлицах остановили их. Его доставили в штаб, всех остальных раненых приканчивали на месте.
Так оказался он в Бухенвальде.
Однажды, лежа на нарах в ревире, он услышал знакомый голос. Санитар устраивал нового больного. Приподнял голову и вгляделся в полумрак. В проходе между нар стоял его комбат Алексей Русанов.
И вот сейчас, находясь в нескольких километрах от концлагеря, от своих несчастных друзей, Бакукин мучительно вспоминал пройденные с ними тяжелые дороги.
Глава шестаяКолонна в составе трех батальонов мотопехоты медленно и осторожно двигалась по причудливо петляющей в распадках лесистых гор асфальтированной ленте дороги. По сторонам глухой стеной стоял девственный буковый лес, прошитый лучами поднявшегося над дальними горными кряжами солнца.
Весна победоносно и торжественно вступала в свои права. Весна сорок пятого года. Она пришла на истосковавшуюся по миру и тишине, измученную, исстрадавшуюся, залитую людской кровью землю, полная мучительных, радостных, окрыляющих ожиданий. Конец всему: кровопролитным битвам, миллионам и миллионам смертей, рвущему небо гулу тысяч и тысяч самолетов, чудовищным разрушениям, грохоту, дыму, пожарам, подстерегающей на каждом шагу смерти, конец людским страданиям, конец прожорливым печам бухенвальдского крематория, конец всему тому, что кроется за страшным словом «война». И от этого радостного ожидания, от веры в близкую победу над фашизмом, словно почки на деревьях, набухали весенними жизненными соками человеческие души.
Сергей Бакукин, думая об этом и многое, многое вспоминая, испытывал ни с чем не сравнимое чувство глубокого душевного подъема. Он сидел на переднем сиденье открытого джипа, рядом с водителем, положив автомат на колени, и с любопытством всматривался в живописный горный ландшафт. Тюрингия. Один из самых красивых уголков Германии. Волшебная страна музыкантов, певцов и поэтов. Дух Гете и Шиллера витает над этими кряжами, над этими лесами и живописными лесными лужайками.
Лес внезапно оборвался. С левой стороны показалось нагромождение больших горных выработок, по-видимому каменных карьеров. До слуха донеслась частая пулеметная стрельба. Батальоны спешились и, развернувшись в густую цепь, пошли в наступление, обтекая каменоломню со всех сторон. Стрельба внизу с небольшими промежутками повторялась.
«Странное дело, – подумал Бакукин, – куда они стреляют, ведь впереди американских войск нет, их колонна головная, первая». И смутная, страшная догадка обожгла душу: «Рядом концлагерь, всего в нескольких километрах. Это они стреляют там, это палачи уничтожают заключенных. Неужели, неужели, – лихорадочно думал он, торопя роту вперед, к глубоким впадинам выработок, – неужели опоздали?»
Цепи залегли по скосу обрыва. Перед глазами открылось страшное зрелище. По кромке каменоломни на подведенных к карьеру железнодорожных путях стоял длинный эшелон, около пятидесяти больших бурых вагонов. В самом низу карьера возвышалась высокая куча трупов, набросанных беспорядочно, словно наспех выгруженные дрова. Рядом с кучей дымились большие костры. На двух высоких камнях были уложены в виде колосников железнодорожные рельсы, а на колосниках жарились трупы расстрелянных людей в полосатой форме. В голубое весеннее небо поднимался жидкий, почти бесцветный дым, удушливо пахло жареным мясом. А чуть поодаль на глыбе гранита стоял, словно монумент, широко расставив толстые ноги, тучный высокий эсэсовский офицер и посасывал прямую трубку. Через поясной ремень тяжело переваливалось бочкообразное пузо. Скулили нетерпеливо овчарки. Рвали утреннюю тишину грубые гортанные голоса. Лязгали буфера подталкиваемого вагона. Пронзительно скрипели дверные вагонные колесики. Распахивались двери. Рослые эсэсовцы прыгали в дверные проемы и выгоняли из вагонов, выбрасывали людей в полосатой форме и, окружив плотным кольцом охраны, гнали вниз в карьер к кострам.
– Лос! Лос! Шнеллер!
Страшно изможденные, бритоголовые, похожие на мертвецов, люди шли, поддерживая друг друга под руки, спотыкались, падали, подхваченные товарищами, поднимались. Полосатая одежда была пропитана нечистотами и кровью. Выгнав живых, из вагонов выбрасывали умерших.
Все это Бакукин увидел в мгновенье. Он вскинул автомат и дал очередь по офицеру. Монумент рухнул. Заключенные кинулись врассыпную. По ним открыли беспорядочный огонь. Сергей вырвал пистолет и бросился впереди роты в атаку.
Его белозубые кучерявые атлеты, прыгая по каменистым уступам вниз, через две минуты были на дне каменоломни и уничтожали застигнутых врасплох и растерявшихся эсэсовцев. Короткий бой быстро утих, и на дне каменоломни наступила жуткая, леденящая душу тишина.
Уцелевшие, еще не веря чуду, стояли тесной кучкой у горы трупов. Потрескивали в кострах сухие буковые и ясеневые поленья, жарились на колосниках обгоревшие тела... Наконец от толпы спасенных отделился высокий худой парень с пергаментной скоробленной кожей на лице, с глубоко запавшими в глазницы вылинявшими, бесцветными глазами, облизал запекшиеся губы и проговорил глухим нутряным голосом, глядя себе под ноги:
– Там... еще один вагон... – И одутловатые землистые мешки под его провалившимися глазами дрогнули: – Кабы вы, этово, малость пораньше бы, самую малость...
Солдаты из роты Бакукина кинулись к последнему вагону, распахнули двери, но из вагона долго никто не выходил. И только когда заключенные поняли, что это не смерть, а избавление, стали неловко спускаться один за другим из вагона. Многие из них, хмелея от чистого воздуха, падали и теряли сознание. Живых в вагоне было около пятидесяти человек, остальные умерли в дороге от истощения.
– Сколько вас было и кто вы? – спросил Бакукин высокого парня по-русски.
Лицо парня дрогнуло. В глазах остро сверкнула радость и изумление:
– Ты русский?
– Русский.
– Да неужели правда?
– Правда, с какой стати мне врать вам.
– Откуда ж родом?
– Сибиряк.
– Елки-палки, сибиряк... чудеса! – Глаза парня вспыхнули радостью.
Грязно-серые, тусклые лица остальных тоже приняли живое человеческое выражение, все зашевелились и шагнули к Бакукину. Парень уронил ему бритую голову на грудь и зарыдал страшно, беззвучно, только все его высохшее тело содрогалось.
– Братушка, милый, если бы ты только знал, что тут с нами было...
Успокоившись, выплакавшись, он заговорил быстро-быстро, с ужасом поглядывая на горы трупов и горящие костры:
– Это горят русские, и в куче тоже почти все русские, было среди нас немного поляков и чехов, а больше все русские.
– Сколько вас было? Откуда вы?
Парень словно не понимал вопроса и молчал долго. На острых скулах, обтянутых сморщенной кожей, тяжело перекатывались тугие желваки, словно он мучительно напрягал память и никак не мог вспомнить ни себя, ни тоге, что с ним было. Глаза смотрели мимо Бакукина, на вагоны, и что они видели в той одному ему доступной дали, оставалось для всех тайной.
– Откуда мы? – повторил он вопрос Бакукина и опять умолк.
– Из Бухенвальда мы, – ответил вместо парня пожилой заключенный с мишенью на полосатой куртке. – Все из Бухенвальда мы, живые и эти мертвые.
– Из Бухенвальда? Братушки вы мои! – дрогнувшим голосом, глотая внезапно прихлынувшие слезы, вскрикнул Бакукин, меняясь в лице. – Из Бухенвальда. А ведь я тоже был в нем. Почти десять месяцев.
– Да ну? – изумился старик с мишенью. – Был в Бухенвальде? Чтой-то, браток, сумнительно. Бухенвальдцы-то бачишь какие, с креста снятые, а у тебя, извини уж за худое слово, рожа-то вон какая румяная. Сумнительно.
– Был, папаша, был, врать не стану. Да разве можно и врать в таком месте, перед ними вот...
– Перед имя врать не можно, – согласился старик. – Ну, можа, и был, а сюда-то как, к иностранцам-то?
– Долгая история, ребята. Работал я в команде смертников, бомбы невзорвавшиеся откапывали. Сбежал в июле прошлого года. Попал к французам. К партизанам. А теперь, как видите, в союзной армии воюю, фашиста добиваем.
– Гляди-ко, повезло тебе, парень. Счастливчик. Кабы в лагерю-то остался, то, можа, вместе с нами был бы, а то вон там, на кострах... – Он осекся. Виновато посмотрел на товарищей, словно сказал что-то ненужное, лишнее.
Парень недовольно покосился на него, опять устремил отсутствующий взгляд куда-то мимо стоявших плотной стеной американских солдат и офицеров, облизал сухие, запекшиеся губы и стал рассказывать быстро, торопливым дребезжащим бормотком, поминутно оглядываясь назад, на вагоны, будто кто-то мог его услышать там и перебить. В его расширенных глазах, словно раздуваемое ветром пламя, бился мятущийся ужас. Старший офицер попросил Бакукина переводить.
Вот что рассказал парень:
– В лагере последние дни было очень тревожно. Пятьдесят с лишним тысяч заключенных притаились и ждали, что вот-вот должна разразиться гроза. По ночам мы с тревогой и ожиданием вслушивались в глухую артиллерийскую канонаду. Мы знали, что идет освобождение или смерть. И беда стряслась. Дайте мне чего-нибудь попить, у меня во рту пересохло...
Американский майор крикнул своего ординарца и приказал дать флягу с коньяком. Парень жадно отхлебнул два глотка и закашлялся.
– Водка. Водички бы... водка теперя не по нашим желудкам.
Ему подали воды. Парень напился. Покосился на офицера и протянул флягу с водой своим товарищам. Они жадно, захлебываясь, стали по очереди пить.
– Восьмого апреля, – тихо продолжал парень, – в одиннадцать часов утра, репродукторы лагеря прохрипели приказ коменданта оберфюрера Германа Пистера: в двенадцать часов всему лагерю построиться на аппельплаце с вещами для всеобщей эвакуации. К нам в блок прибежал какой-то парень и прочитал воззвание: «Никому на плац добровольно не выходить, эвакуация – это смерть». Подпись под воззванием: «лагерный подпольный центр». А мы и не знали до этого, что есть какой-то подпольный центр.
– Я, ребята, знал, – вставил Бакукин, – есть такой в Бухенвальде подпольный центр. Руководит им немец Вальтер Бартель. А из наших ребят там Николай Симаков, Бакий Назиров, Смирнов. Говорили мне об этом мои друзья.
– Ну вот видишь, ты, выходит, больше нашего-то знаешь. Вот, ладно, прошел час, тишина в лагере сгустилась до того, что в ушах с непривычки зазвенело. На аппельплац никто не вышел. Все сидели по блокам. Ребята ломали нары, запасались палками, железными прутьями – всем, чем можно было обороняться.
– Против пулеметов и орудий? – робко прервал его Бакукин.
– А что? И против пулеметов. Нас много было. Ждем, что будет дале. По радио раздался новый приказ коменданта. Он дал на сборы два часа и предупредил, что если через два часа лагерь не выстроится на плацу, он применит оружие. Истекли и эти два часа. Завыли сирены. Распахнулись угловые ворота, и в лагерь ворвался батальон мотоциклистов-автоматчиков. Они открыли стрельбу по блокам. Мотоциклистов сопровождали легкие броневики с пулеметами и пушками. Из центральных ворот в лагерь хлынули эсэсовские сотни с автоматами, станковыми пулеметами и фаустпатронами. Ой, что там было...
– Это было восьмого в обед?
– В два часа дня.
Бакукин вспомнил о радиограмме, она была принята радистом восьмого апреля в два часа дня. Вот, оказывается, что творилось в лагере в это время.
– Мы радиограмму в это время получили от подпольного центра с призывом о помощи. – Бакукин посмотрел на батальонного командира, потом снова обратился к парню: – Ну, ну, что же потом?
– Потом? Потом ад был кромешный, да и то в аду, наверно, слаще. Эсэсовцы врывались в блоки, стреляли, выгоняли заключенных и под усиленным конвоем гнали на плац. С наступлением темноты они покинули лагерь – ночью быть среди нас они уже боялись. В числе согнанных оказались и мы, и те, что горят теперь на рельсах. Вечером нас погрузили в вагоны на станции Бухенвальд и повезли. Ни пайка, ни воды на дорогу не дали. Повезли, как скот на бойню... И вот – привезли...
Он посмотрел невидящими глазами на гору трупов, на горящих товарищей, добавил совсем тихо:
– А что теперь там и не знаю.
– Усих, мабуть, вже порешили, – вставил старик с мишенью, тупо глядя в землю, – усих до одного.
– Целые сутки, – продолжал парень, – мы сидели в закрытых вагонах, вслушиваясь в то, что происходит за стенами. Через каждые минут десять-пятнадцать тишину рвали пулеметные очереди. Мы знали – расстреливают. Потом в щели вагона стал проникать так знакомый по лагерю запах горящих человеческих волос. Многие сошли с ума. В нашем вагоне почти половина людей умерли еще в дороге. Вот какие, братец, дела. А ты говоришь, был в Бухенвальде.
– Был.
– Кого там знаешь или знал?
– Многих знал. Степу Бердникова, Луи Гюмниха, старостой он был в нашем блоке.
– А в каком же в вашем?
– В шестьдесят первом. В малом лагере. Сомневаешься, не веришь?
– Верю. Теперь верю. Кого же еще знал?
– Ваню Лысенко, Борю Сироткина, а самым близким был Алеша Русанов, капитан, мой однополчанин.
– Русанов? Алексей? Знаю хорошо. В сорок четвертом вместе на нарах валялись... как же... знаю, знаю. Был там. Живой был. А теперь – кто знает.
– Усих порешили доси, – вставил опять старик.
– Неведомо.
Старший офицер, потрясенный услышанным, попросил Бакукина спросить, есть ли в лагере американцы.
– Е и хранцузы, и английци, и американци, – ответил старик, – уси е, богатьско. Ентих, самых маленьких, чумазых, як воны звуться, богатьско.
– Итальянцы? !
– Воны, воны, италийцы, богатьско е италийцев, принцесса ихняя, италийська, даже е, бачив одного разу, смуглява, гарна, чудно якось зветься.
– Мафальда, – уточнил парень, – дочь короля Эммануила.
– Так, так.








