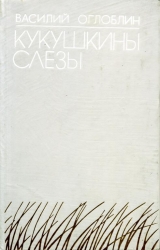
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Надежда Павловна Огнивцева была обнаружена и арестована не случайно, хотя никто в селе не видел ее и не знал о ее возвращении. Не случайным был приход в их дом соседа-предателя Милюкина. В этот день по списку, аккуратно им составленному, полиция арестовала весь сельский актив, оставшийся в селе, ведь Милюкин знал о каждом все. Комментируя коменданту список, Милюкин особое внимание просил обратить на фамилию Огнивцева.
– Правда, – объяснял он, – ее сейчас нет в селе, куда-то исчезла, но может и должна объявиться и тогда... Дети малые у нее тут остались, а какая мать не наведается к деткам.
– Дети?
– Двое маленьких.
– Так. К детям обязательно придет.
– Я слежу неустанно, если появится, от Кости Милюкина не уйдет, в айн момент сцапаем и приволокем.
– Браво, Костя, браво!
– Коммунистка, жена летчика-капитана, – объяснял он, – ярая большевичка. К тому же, как я мыслю, не зря сюда приехала, с особыми целями, шпиенка.
Выслуживался он рьяно. В список были включены все учителя, врачи, работники районных учреждений, даже ненавистный ему с детских лет, топивший на суде отца, главный бухгалтер райпотребсоюза, хотя он и был отпетым пройдохой и жуликом. Попала в список и ботаничка Аделаида Львовна. Мысль об использовании Ромашки подал коменданту тоже он.
– Я видел их несколько раз вместе, они дружат, – уточнил он свою идею.
– Да-да, понимаю. – Комендант дважды жирно обвел фамилию Огнивцева красным карандашом и подчеркнул. – Следи, следи неусыпно. При появлении немедленно сам лично арестуй. Молодец, с такими, как ты, можно делать большие дела. Я в долгу не останусь.
– Яволь! – заученно выпалил Милюкин, сияя от радости. – Яволь, герр комендант.
В камере, куда два пьяных полицая втолкнули избитую Надю, сидело десятка полтора женщин, молодых и старых. Некоторые метались в беспамятстве и бредили. В разных углах полутемной кладовой шевелился приглушенный гул и стон. Липкий тяжелый воздух обволакивал лежащих, волглые стены пахли плесенью, с черного потолка капало. Оглядевшись, Надежда Павловна прошла на середину камеры, постояла в нерешительности, вздохнула и опустилась на грязный, заеложенный пол. Кружилась голова, лицо горело, в глазах плавали круги. Из рассеченного плетью виска сочилась кровь.
Она не думала о том, что будет с ней, что ее ждет через час, через минуту, она была готова ко всему, даже самому худшему. Ее мучило и угнетало другое: что она так глупо попалась и что уже не сможет вырваться отсюда. Где-то тут, в этой камере-кладовой, во дворе ли, который она только что проходила, большом, мрачном, окруженном тесовым заплотом, оборвется ее жизнь. Как ниточка тонкая, оборвется. И Алеша никогда не будет знать об этом, и никто, никто не будет знать; так и канет она в безвестность, как будто ее и не было на белом свете. А ведь она еще ничего-ничего не сделала для народа, для спасения родины от варварского нашествия, она не убила ни одного фашиста, не сожгла ни одной машины, не расклеила ни одной листовки. Ничего не свершив, она может растаять как снежинка, залетевшая в пламя. И, не сделав ничего, умереть в муках. Эти мысли пугали ее и приводили в отчаяние. «Надо, надо успокоиться, – внушала она себе, – сосредоточиться, подумать о чем-то важном, главном». Но ниточки мыслей путались, рвались. Она пыталась связать их и никак не могла. Проплыла в белесом облачке горенка, спящие на кровати дети, бледные руки Оленьки; облачко растворилось в темноте, и она забылась. А когда очнулась, уже ободнело. Из оконца в камеру жидко сочился бледно-лиловый свет раннего утра и проглядывался лоскут пепельно-серого неба.
– Всю ночь проспала, – изумленно прошептала она и оглядела камеру.
– А вам спится, как праведнице, – донесся до нее грубоватый и, как ей показалось, насмешливый голос. – Нас аж завидки взяли.
– А что, хоть перед смертью высплюсь. Утомилась я, много ночей не спала.
– Мы что-то не знаем вас. Не здешняя?
– У свекрови гостила с детьми, и вот сюда попала.
Надя рассказала коротко о своем несчастье.
– Сердешная, деточки-то, деточки как там?
– Уезжать, милая, надо было с мужем вместе.
– Знал бы, где упасть...
– Да, если бы знать, что с тобой через час будет...
Так она начала знакомиться с обитателями камеры. Первой заговорила с ней знатная, знаменитая на всю область звеньевая, орденоносец. Сидела тут, кроме медиков, учителей и депутатов, даже престарелая «колдунья», как звали ее в селе, древних лет старуха, уже не в себе. Надя прислушалась к бредовому бормотанию и тяжелым вздохам старухи, спросила тихо:
– Ее-то за что?
– Ах, да так, пустяки. Кричала что-то на улице немцам вслед и своим ореховым посохом грозила. Избили до полусмерти и сюда бросили.
– Милюкин-то, оборотень, к фашистам перемахнул, – ни к кому не обращаясь, возмущалась старая учительница. – Я ведь его с первого класса учила, выучила мерзавца.
– Яблочко от яблони недалеко падает: отец-то сидел за растрату, жулик был, каких мало, развратник и пьяница, видно, и помер там, больше десяти лет уже прошло, как посадили. Костя маленьким еще был, в школе, в семилетке, учился.
– А мать у него с ума сошла.
– Разве от такой жизни не сойдешь?
– Мать-то жалко, добрейшая женщина была, страдалица, полюбовалась бы на своего сыночка.
– Изверг, бьет-то как, всех без жалости.
– Погубил он нас всех, выслуживается, аж наизнанку себя выворачивает.
– Отольются кошке мышкины слезы.
– Когда ему отольются – тебя уже не будет.
– А не будет, недолго уж...
За стеной затопали, послышались голоса. Все умолкли. Дверь тяжело распахнулась, на пороге появилась девушка. Она было отшатнулась назад, но в спину ее толкнули, и девушка, бледнея, переступила порог. Все узнали Ромашку. Юбка на круглых коленях мелко подрагивала, вздрагивали и уроненные беспомощно вдоль тела руки. Чистая, белолицая, с волнами красивых густых волос, стекающих с красивой головы, в малиновом свитере крупной вязки, с утренним румянцем на полных щеках, девушка в сырой и грязной камере показалась ненужной, лишней. Она и сама, видно, понимала это и заплакала.
Надя присмотрелась к девушке и узнала ее. Они познакомились в первый день приезда в Алмазово, еще на пристани. Потом как-то шли с пристани в село, Алеша еще помогал нести девушке лоток. Всю дорогу наперебой говорили о каких-то незначительных милых пустяках, шутили, весело смеялись. Как недавно и как давно это было! Потом Надя разговаривала с ней, когда проводила Алешу. Девушка продавала эскимо, рассказывала о своей неудачной любви и замужестве.
– Зина, Зиночка! – вскрикнула Надежда Павловна. – И вас сюда же?
– Ага.
Ромашка заплакала еще сильнее, полные плечи ее сотрясались. Потом так же внезапно успокоилась, размазала слезы по лицу, обмякло осела на пол рядом с Надей.
– И вы здесь? Все здесь? Какой ужас! Что-то теперь будет?
– Кто знает, Зинаида Власовна, вас-то они зря, по ошибке, разберутся, отпустят. Такие им без нужды, – раздался из угла злой глуховатый голос.
Ромашка не ответила, уронила голову в Надины колени, прошептала с ласковым изумлением:
– Как же вы-то?
– Как и все.
– Вы же уезжали?
– Я не уезжала, Алеша... Вы же помните, как я его провожала.
– Да, да, помню... Капитан, летчик, симпатичный такой. Но вас же долго не было в селе?
Надя, волнуясь, рассказала ей и о той страшной ночи в степи, и о Зое Васильевне, и о своем возвращении.
– Бедная вы, бедная, а Оленька, Сережа?
– С матерью. Живы пока и здоровы.
– Что же мы теперь делать будем, Наденька?
– Мы – ничего. С нами что-то будут делать.
– Ой, страшно-то как, ужас!
– Одного я не могу понять, – задумчиво проговорила Надя, – как мог народ, у которого есть такая музыка, такие поэты, позволить оболванить себя?
– Не надо об этом, милая, – раздался из угла тот же грубоватый голос. – У стен поповской кладовой тоже есть уши.
– Почему поповской? – искренне изумилась Надя.
– Об этом пусть вам Зинаида Власовна расскажет.
– Да, Наденька, это наша кладовая, – виноватым голосом и потупив глаза прошептала Ромашка. – И немецкая орсткомендатура тоже в нашем доме. В моей комнате спит сейчас комендант. В моей спальне. Подумать только! А я – в кладовой.
– А вы что, дочь попа?
– Зовут так, по-старому. В начале двадцатых отец мой покойный попом был в Алмазове. Так до сих пор и зовут: дом поповский, дочь поповская, маму – попадьей. Уже и церкви давно нет, а мы все поповские. Ужас! Помню, маленькой девочкой я заходила в эту полутемную кладовую за вареньем. Жутковато становилось от темноты. Вон там, – она показала рукой на стенку, – были полки, и на полках стояло варенье, земляничное, мое любимое, а с потолка свисала плесень. Увижу и трясусь, как в ознобе. Я очень боялась плесени, да и теперь боюсь. И вообще мне очень страшно, Наденька, ужас!
– Тебе нечего бояться. Тебя никто не тронет! – раздался опять тот же сухой ломкий голос из угла. – Продавщица мороженого, кому ты нужна?
Зина вгляделась в темноту и к своему удивлению узнала Аделаиду Львовну.
«Это ей Милюкин мать свою припомнил, – подумала она без злобы. – Мать-то Костина из-за нее погибла».
– Учительница это, Аделаида Львовна, – шепотом пояснила она Наде. – Зла она на меня из-за сына, мужа моего бывшего, не слушайте ее.
Она зарылась глубже в Надины колени, и плечи ее опять задрожали.
– Успокойся, все наладится, все образуется. Ты же не сделала никому зла, почему тебе страшно? Страшно бывает тому, кто делает людям зло. Вот им, тем, кто там, за дверью, когда-то будет очень страшно, поверь мне. За всех им вспомнится, за все они поплатятся...
А ты успокойся. Страх, он от смерти не спасет.
– А вам, Надя, не страшно?
– Не думала об этом. Некогда было. Вырваться бы, Зиночка, отсюда.
– А тогда куда?
– Как куда? Разве ты не знаешь? Воевать, бороться. Весь народ от мала до велика поднимается на борьбу. В ней каждому найдется место... Только не вырвемся. А если ты действительно попала сюда по ошибке и тебя, ясноглазка, выпустят на волю, – слушай меня внимательно, – немедленно уходи из села, куда угодно, только помни, что ты советская, русская девушка. Русская, понимаешь, а этим все сказано. Ты прости меня за то, что я так просто называю тебя... Так прозвал тебя мой муж Алеша. Сказал как-то: «Какая милая девушка, ясноглазка...»
Надя не договорила. Заскреблись у замка. Дверь распахнулась. На пороге, посвистывая плеткой, стоял Милюкин.
– Выспались, крали? Огнивцева, щечка подживает? А, русалочка?
Плеть со свистом покрутилась перед носом Надежды Павловны.
– Поповна, Ромашечка, кралюшка козырная, ком, герр комендант оченно срочно требовают.
– Ужас! – побледнела Ромашка, закрыла лицо руками и нетвердой походкой шагнула к двери.
И только заглохли в коридоре шаги, как вся камера напустилась на Надю.
Надя молча выслушивала торопливый шепот женщин, готова была согласиться с ними, разделить их законное негодование: ведь они-то лучше ее, Нади, знают Ромашку, – и в то же время чувствовала, что все в ней протестует, восстает против этих доводов. Вспомнила Алешу, когда они простились с Ромашкой у маминого двора: «Какая милая девушка, какие прозрачно-чистые глаза!» Алеша никогда не ошибался в людях... Нет, нет! Ей нечего опасаться Зины, не может она быть плохой и подлой, тут что-то не то и не так. Она верит ей и будет верить...
Ромашка вернулась через час. Глаза подпухли от слез, набрякшие веки вздрагивали. На лице вместо утренней свежести растеклась бледность и усталость.
– Ну что, Ромашечка?
– Пропала я, Наденька, пропала.
– Что пропала?
– Ой, страшный он очень. Улыбался. Говорил сначала ласково. Предлагал коньяку: «Вы милая, умная девушка, вашего отца убили большевики...» – Она перешла на шепот. – «Нет, – говорю, – он спился и умер в психиатрической больнице». – «Глупая, – говорит, – это большевистский прием уничтожения неугодных. Вашего отца убили, вы должны мстить за него, это долг каждой порядочной девушки. Вот и мстите. От вас требуется совсем немного: войдите в доверие к Огнивцевой, она – красная шпионка, нам надо знать, кто и зачем послал ее сюда? Надо знать все: явочные квартиры, пароли, связных. Вы это можете сделать просто: две ночные беседы и – тайна шпионки перестанет быть тайной!» Пропала я. Он меня не оставит в покое.
– Что еще?
– Спрашивал, слышала ли я о Тироле?
– Да?
– Ага. Говорит, что это божественный поэтический край. Спрашивал, хочу ли я поехать в Тироль?
– И что ты сказала?
– Я сказала, что мне страшно там, в камере, и я хочу домой, только домой. Я не хочу в Тироль.
– А что он?
– Он насупился, долго молчал, потом говорил сердито и все время повторял: «Вы нам тайну Огнивцевой – мы вам Тироль и много, много денег». Потом вызвал Милюкина и приказал отвести в камеру. Потом остановил, подошел, взял меня за подбородок и прошипел: «Идите в камеру и думайте, хорошо думайте, в камере лучше думается, если же вы ничего не надумаете...» Он не договорил, только улыбнулся, и мне жутко стало от той улыбки. Наденька, милая моя, они ведь специально посадили меня. Чтобы я тебя оклеветала и погубила. Погибла я, Наденька, убьют они меня.
Она снова как-то по-детски беспомощно прижалась к Наде, уткнула голову в ее колени.
– О чем вы еще говорили так долго?
– А так, муть всякая, распинался нудно и многословно о добродетелях, о каком-то Фрейде, спрашивал, комсомолка ли я? Сказала, что у нас все юноши и девушки в комсомоле.
– Это правда?
– Нет. Исключили меня. Поповскую дочь. Дочь врага народа.
– Гадко с ним с глазу на глаз?
– Нет. Просто страшно. Вежливый, манеры тонкие. Улыбается. Глазки строит. Романчик не прочь закрутить... А я, Наденька, лучше умру. Посмотрю в глаза, а в них – лед, аж холодно.
– Не забудь, Зина, он фашист. Не обманутый, не оболваненный, по духу, по сути своей фашист. Он же философию изучал, а философия у фашистов звериная: долой человека, долой мораль, долой разум. Звери они!
– Пропала я! Жила, училась, мечтала, обиды переносила, мороженым торговала, влюблялась неудачно. Потом пришли два пьяных предателя-полицая, увели, заперли в кладовую. Выведут ночью во двор и – все. Вечная ночь и мрак. И ничего не останется, словно тебя и не было никогда. Как все просто и страшно. Ужас!
– Успокойся, ясноглазка, один древний мудрец сказал: «Пока дышу – надеюсь».
– Я, Наденька, и надеяться не умею. Страшно мне. И со страхом своим бороться тоже не умею.
– Страху, ему в глаза гляди и не мигай, а мигнул – пропал.
– Хорошо вам, вы смелая...
Ночь насунулась тревожная, мглистая. Близко к полуночи во дворе послышалась какая-то возня, что-то хряскало, стукало. Женщины сбились в кучу, притаились. Одна «колдунья» металась в горячке в углу, выкрикивая протяжные непонятные слова. Ближе к полуночи стали раздаваться крики, одиночные выстрелы. Зафыркали моторы грузовиков. Никто в камере не мог сомкнуть глаз. Прислушивались к странным зловещим звукам, затаив дыхание. Ждали чего-то неведомого, пугающего и рокового.
Грузовики, надсадно завывая, ушли. Навалилась тяжелая волглая тишина, словно уши позатыкало ватой. Женщины облегченно вздохнули.
В зарешеченное оконце жидко цедился робкий, неживой свет ущербного месяца, и лица женщин казались тоже неживыми. Спать не пришлось. В коридоре затопали тяжелые сапоги. Торопливо заскрежетал замок. Два немца с автоматами и в касках перешагнули порог. Посредине, как-то бочком, протиснулся, поигрывая плеткой, пьяный, покачивающийся Милюкин.
– Встать! Герр комендант требует. По одной! Живо! Ты, сука облезлая, давай! Стой! Пошла прочь! Ты, с косичками, давай! Живо!..
Он схватил девушку за руку и бросил ее под порог, немцы подняли, поволокли, выламывая руки.
– Господи, что же делается, – тяжело вздохнул кто-то.
– Погибель наша пришла...
Камера притихла. Перестали ворочаться и вздыхать. Плечи Ромашки опять вздрогнули. Надя молча утешала и успокаивала ее, гладя золотистые волосы.
Через полчаса девушку притащили волоком, жалкую, растерзанную, в разорванном платьице, и бросили, бездыханную, за порог.
– Ты, сука, давай! Живо!
И поволокли, подталкивая в спину прикладами, орденоноску...
Кошмар длился всю ночь.
Надя всю ночь просидела, обхватив руками увядшую Ромашкину голову, будто окаменела, и шептала, шептала ей ласковые, ободряющие слова и знала, что Ромашка слышит ее, понимает и благодарна ей за это.
«Ромашка, Ромашка, сорвут тебя скоро и бросят, и ногой растопчут, – думала Надя, успокаивая девушку. – А ведь будь ты фальшивой, лживой, дурной, ты бы жила, извивалась, хитрила, ненавидела и презирала себя и жила...»
Думая так и утешая Ромашку, Надя представила, увидела сидящих в горенке на лавке присмиревших детей, и к сердцу ее больно прихлынула горячая, обжигающая волна.
В камере ободнело. Густой слоистый воздух набухал сыростью, по́том, гнилью, остро пахло известью и прелой соломой. В окне обозначился рваный лоскуток бледного неба. Женщины, сбившись в кучу, вполголоса переговаривались, только «колдунья» и девушка, которую водили к коменданту первой, метались в беспамятстве, да где-то под черным потолком однообразно и утомительно жужжала крупная муха.
В сизом камерном воздухе тягуче поплыли золотистые паутинки. Они часто рвались. Надя равнодушно следила за их ленивым течением и догадалась, что их рвут ноги часового, который ходит мимо их окна, а золотистые паутинки – это солнечные лучики, проникающие в камеру. Вот так же равнодушно и грубо он оборвет и их короткие жизни...
Устав следить за плавным скольжением паутинок и думать, Надя откинулась к стенке и задремала. А когда очнулась, в камере было совсем темно. В квадрате окна смутно мерцало пепельно-дымное вечереющее небо. Надвигалась новая ночь, и на лицах женщин застывал смутный, мятущийся ужас перед ее неизвестностью. А когда в оконце снова заглянул бледный, ущербный месяц, с шумом распахнулась дверь и сиплый срывающийся голос Милюкина прокричал:
– Госпожа Амеба, прошу к господину коменданту.
Аделаида Львовна вышла из угла и решительно переступила через порог.
Глава двенадцатаяТоропливыми шажками семеня впереди Милюкина по широкому двору, Аделаида Львовна уже знала, как ей вести себя, что делать там, в поповском доме. План созрел давно, в камере, и она только ждала, когда ее вызовут на допрос. Она не глупая, наивная Ромашка и дурачить себя никому не позволит.
– Поторапливайся, кляча уезженная! – прикрикнул на нее Милюкин. – Это тебе не про амебу сказочки дуракам сказывать.
– А ты, Константин, голос на меня не повышай, не покрикивай. Услыхал бы твой отец, как ты со мной разговариваешь – не поздоровилось бы тебе, отец-то любил меня больше жизни и любит, если жив еще. Ты хоть память-то об отце родном, о святом человеке, великомученике, не заплевывай, стыдно так-то.
– Но-но, поговори мне, я ведь не посмотрю, что отцовская краля козырная, так плетью ухожу, что за мое здоровье! У Кости это не заржавеет.
Переступив порог поповской светлицы, Аделаида Львовна низко поклонилась офицеру и замерла.
– Учительница естествознания по кличке «Амеба», – весело отрапортовал Милюкин. – Моя бывшая учительница и полюбовница моего отца, царство ему небесное! – Костя весело заржал.
– Так точно, господин офицер. Учительница местной школы, в большевистской партии никогда не состояла, в комсомоле тоже, обожаю немецкий народ, хочу принести пользу фюреру и великой Германии. Имею кое-что сказать господину немецкому коменданту без посторонних, тет-а-тет.
– Но-но! – огрызнулся зло Милюкин, ударив плетью по голенищу. – Поговори у меня.
– Выйди, Костя, я позову, – улыбнулся офицер.
Милюкин, сверкнув белками, вышел.
– Так вот, говорю, что хочу принести пользу. Я вдовая бедная женщина, кому не лень, тот и обидит. А что касается Огнивцевой, жены советского летчика, коммуниста, то все могу доложить честь по чести, наслышалась за эти ночи от нее такого, господин комендант, такого...
– Да-да, продолжайте, простите, как вас?
– Аделаида Львовна.
– Продолжайте, фрау Аделаида.
– С девчонкой, с поповной, зря вы связались. Глупа она, как и ее матушка попадья. И такая же развратная, как ее мать. Мать-то ее, Феоктиста Савельевна, с цирковым борцом на кладбище, под крестами, грех-то какой...
Комендант оскалился, разговор с фрау Аделаидой его явно заинтересовал.
– Говорите, говорите, да вы садитесь, – он элегантно подставил ей плетеный стул. – Я слушаю, вы мне нравитесь, обаятельная женщина.
– Вот, говорю, зря вы с поповной, глупа. Она, извините, только для постели и создана. А Надежда Огнивцева – это, я вам скажу, орешек, да еще какой. Все как на исповеди. Огнивцева – человек для вас крайне опасный, очень, очень опасный. Она не шпионка, у нее нет ни паролей, ни явок, ни фамилий, ни связных. Нет, нет, она в здешних краях человек чужой; она ярая коммунистка, жена коммуниста; она, если вырвется отсюда, много горя вам причинит. Она так и сказала: «Только бы вырваться, буду сражаться до последней капли крови, буду бить их, извините, гадов...»
– Так и сказала?
– Так и сказала, господин офицер.
– Что же она еще говорила? Не скрывайте, как на исповеди.
– Еще говорила, что вы не оболваненный, не обманутый, а фашист по духу, по своей сути, что вы человеконенавистники, боже мой, что она на вас несла, уму непостижимо. А я люблю Германию, ваш великий народ. О Германия! Страна поэтов и философов, музыкантов и ученых! Я очень люблю Германию, господин немецкий офицер.
– Прекрасно, фрау, фрау...
– Аделаида.
– Прекрасно, фрау Аделаида. Расскажите что-нибудь еще, с вами так интересно беседовать. Где ваш муж?
– О, это было давно, я вдовая бедная женщина, уже довольно старая. Вы ведь пожалеете меня и не отправите больше в камеру? Все, что можно было узнать, я уже узнала и сообщила вам. А муж? С мужем я разошлась давно, еще в молодые годы. Ах, да это неинтересно. Не представляет совершенно никакого интереса для господина немецкого офицера.
Она начала беспокоиться, посматривать на двери, и комендант понял.
– Милюкин! – крикнул он.
Милюкин немедленно вырос в двери и подобострастно вытянул голову.
– Слушаю, господин комендант.
– Проводи фрау в камеру. До свидания фрау, фрау... Спасибо за приятное знакомство.
– Господин офицер, я же...
– Так надо, так надо, чтобы никаких кривотолков в камере, женщины есть женщины. Милюкин!
– Яволь!
Озираясь, как затравленная, Аделаида Львовна посеменила в кладовую. Милюкин, оглянувшись на окна, остервенело выругался и огрел ее плетью трижды наискосок, передал в руки часовому, а тот уже швырнул ее в камеру.
День прошел в тревожном и жутком ожидании следующей ночи. Надя поняла, что фашисты, как и шакалы, выходят на охоту только ночью. А когда ранняя сентябрьская ночь наступила и в оконце снова заглянул месяц, открылась дверь и пьяный охрипший голос Милюкина прокричал:
– Крали, вынежились. Выходи! По одной!
Женщины сорвались. Сбились в кучу. Начали торопливо прощаться.
– Это – конец.
Надя бережно подняла с колен Зинину голову, поцеловала в бледное лицо, шепнула на ухо:
– Крепись, ясноглазка.
Встала и, подталкивая впереди себя Зину, шагнула к выходу.
– Пшли вон! – прошипел Милюкин. – С вами разговор будет особый. Выходь, выходь, крали козырные.
Женщины молча, одна за другой, выходили из камеры. Милюкин стоял сбоку, рассекая воздух плеткой, считал:
– Семь штук, тринадцать штук, четырнадцать штук... быстро! Быстро!
Старая учительница, проходя мимо Милюкина, укоризненно покачала седой головой:
– Костя, Костя, я же тебя с первого класса учила.
– Вот и выучила, – раскатисто заржал он, – проходь, проходь, не выпрашивай плети, кляча старая.
– Отольются тебе наши слезы, змееныш.
– Отольются, отольются да ишо как...
Последней плелась Аделаида Львовна. В ее глазах все еще теплилась робкая надежда на чудо. В двери она растерянно остановилась.
– А мне куда, Костенька, неужель тоже в машину?
– В машину, в машину, кляча заезженная. Быстро! Поедем на курорт на пляжах нежиться, го-го-го...
И огрел ее плеткой.
Камера опустела. В левом углу сидели, тесно прижавшись друг к другу, Надя и Зина, в правом металась и бредила «колдунья». Немец подскочил к ней, пнул сапогом, выругался, отошел на три шага, дал короткую очередь из автомата, сплюнул:
– Вег, швайне!
Милюкин кинулся во двор, вернул двух женщин.
– Забирайте отсюда эту падаль.
Мертвую неловко подхватили под мышки, поволокли, рассучивая на полу веревочку жидкой крови. Зину било как в лихоманке, осунувшееся красивое лицо подернулось меловой бледностью.
– Наденька, что же это такое?
– Это фашизм, Ромашка, фашизм, и ничего более.
– Скорей бы...
Больше они не проронили ни слова. Не сомкнув глаз, просидели до рассвета. В кладовой медленно светало. Проявились стены и пол. Четко вырисовалось бесформенное темное пятно в правом углу; от пятна к двери потянулась извилистая полосинка, словно червь дождевой прополз; под порогом вырос стоптанный ботинок, сползший с ноги мертвой; посредине камеры распластался оброненный кем-то грязный полушалок. Взошло солнце. Их вывели из оцепенения шаги. В дверях стоял немец. Ткнул пальцем:
– Ком![1] 1
Ком! (нем.) – Иди сюда!
[Закрыть]
Надя поднялась.
– Найн, ду![2] 2
Найн, ду! (нем.) – Нет, ты!
[Закрыть]
– Ой, Наденька, пропала я, ужас!
– Я, я, ужас, ду, ужас, ком!
Надя почувствовала, как все ее тело, руки, ноги, голову обволакивает страх. Она не боялась смерти, не боялась мук. Ей было страшно за Ромашку, за милую, наивную, доверчивую, она боялась, как бы Ромашка под страхом мук, боли не сломалась. Зину увели. Надя стала ждать, прислушиваясь к каждому звуку, каждому шороху. Она пыталась мысленно представить себе то, что происходит сейчас там, в кабинете коменданта, в бывшей поповской зале, и не могла. Ждала она долго. Но вот до ее слуха донеслась грубая русская брань. Она узнала голос Милюкина. Потом услышала шаги. Дверь отворилась. Милюкин шагнул внутрь камеры. На лице его застыла напряженная глуповатая улыбка. Потом он резко рассек воздух плетью, сказал угрожающе тихо:
– Ну, кралюшка, готовься. Скоро и ты в крови своих щенят будешь купаться, так-то, русалочка моя незабвенная. Горько припомнишь ты тот денечек, когда хлобыстнула Костю Милюкина по румяной щечке, ох, как припомнишь.








