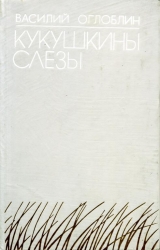
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
В полночь в камеру, где сидела Надежда Огнивцева, ввалился Милюкин. Зная, что Надежда Павловна обречена и решение об ее казни комендантом уже принято, он разыграл свой последний фарс. Потоптался у порога, присел на нижнюю ступеньку, поставил между ног фонарь. Долго всматривался в зыбкий полумрак камеры. Молчал. Слышно было, как мечется за стеной разгонистый ветер. Заговорил глухо; и Наде послышалось, как в хриплом с перепоя голосе булькнул смешок:
– А теперя слушайте, Надежда Павловна, что вам Константин Милюкин сказывать станет. По Ромашечке, небось, убиваетесь? Угадал? Зазря убиваетесь. Ромашечка теперь уже дома, отпустили кралю козырную с богом, пусть себе нежится на поповских пуховиках.
– Это правда?
– Правда. Милюкин никогда не врет. Сжалился над ней комендант и отпустил к мамаше, к попадье то есть. Виды на нее комендант имеет. Хоть и немец, а губа не дура. Полюбовницей ее своей захотел сделать. Говорит: «Ничего в мире не видал обаятельней и обворожительней, чем русская поповна...» Вот и выходит, что ты теперя, кралюшка, считай, что в безопасности. Говорил я с комендантом: мол, понасердке посадил, из ревности, значит, мол, невинна она ни в чем, отпустить бы ее на все четыре стороны. Мол, верно, муж у нее летчик, дак и что ж с того... Герр комендант рукой махнул – делай, значит, как знаешь. Вот и выходит, что теперя ты в моих руках. Захочу – озолочу и царицей сделаю, захочу – на перекладине вздерну. Люблю я вас, Надежда Павловна, дюже люблю. Покоя с тех пор, как увидел на Ицке, лишился, рассудка лишился...
Надя не выдержала, крикнула:
– Замолчите! Люблю... Да знаете ли вы, подлец, подонок, холуй фашистский, что такое любовь? – Она нервно захохотала. – Вот уж поистине куда конь с копытом, туда и...
– Не дюже, не дюже. Волнение вам теперя вредно, шибко вредно. Последнее слово говорит Костя Милюкин. Либо станешь его женой-полюбовницей и утром пойдешь домой к своим деточкам, либо... – он наигранно вздохнул, – либо в петле будешь болтаться на сельской площади. Вот так.
Он беспокойно заелозил на ступеньке, часто затягиваясь сигаретой.
– А смерть-то, она, милая, не блин масленый, да и больно дюже бывает, когда Костя перед тем, как повесить, бить тебя станет, тело твое белое, ручки твои выкручивать. Вот и решай, кралюшка.
– Вон! Уходите!
– Подумай, соседушка, крепко подумай. А покеда – гутен нахт...
Надя почти не слушала его. Но напоминание о детях вывело ее из оцепенения. Она резко подалась вперед и выпалила резкой рассыпчатой скороговоркой:
– Купить хочешь, холуй фашистский, на материнском чувстве играть вздумал? Уходи прочь! Думать мне нечего. У меня все передумано. Убивай скорей! Всех! Меня, мать, деток моих. Рви меня на кусочки, режь, кромсай, топчи!...
Милюкин ярко осветил фонарем ее прекрасное в гневе лицо, с минуту смотрел немигающим взглядом в ее округлившиеся глаза, сплюнул, грязно выругался и ушел. Надя снова откинулась к стенке. Где-то громко и торжественно пропел в предутренней тишине петух, откуда-то издалека долетели до нее гортанные слова, – видимо, кричал часовой под ее окном, – и, не коснувшись ее сознания, исчезли. Она думала о Ромашке. Вспомнила ее за лотком мороженого, светлую, красивую, улыбающуюся, в тот пронизанный звонкостью летний знойный день, когда она проводила Алешу, вспомнила ее притягательную белозубую и какую-то извиняющуюся улыбку, ее мягкий ласковый голос. «Ромашка, Ромашка, неужели правда, что ты на свободе? Иди, Ромашка, живи и отомсти за меня. И ты, Алеша, живи, борись и отомсти за меня».
С Ромашки мысли ее переметнулись на себя. И вдруг она ослепительно ярко, как это бывает только в бестревожном, здоровом сне, увидела себя дома, в уютной горенке; в окна заглядывает старый сад с именными яблонями; мать, скрестив руки на груди, сокрушенно покачивает седой головой, повязанной белым платком; в коленях трутся шелковистыми головками ее дети, ее Оленька и Сереженька, их неуверенные ищущие глаза заглядывают ей прямо в душу и ждут ответа. А душный долгий день уже растаял в сухом звенящем зное, и заметно вечереет. От этой нарисованной ею картины Надя вздрогнула и застонала. Одно ее слово и...
– Нет, нет, нет! – мучительно выдавила она из себя. – Никогда! Лучше смерть...
Три дня и три ночи Надя сидела одна. Ей не давали ни воды, ни пищи. Казалось, про нее забыли, похоронили заживо в поповской кладовой, где когда-то стояло на полках любимое Зинино земляничное варенье и с потолка свисали хлопья плесени, которых так боялась Зина. На четвертый день в полдень пришел Милюкин.
– Надумала?
– Прочь, негодяй!
– Ладно.
Он круто повернулся и быстро вышел, поигрывая плетью.
Надя облегченно вздохнула:
– Ну вот и все. Теперь уже скоро.
Через полчаса ее вывели во двор. В безоблачном небе светило не по-осеннему теплое солнце позднего бабьего лета. Голова Надежды Павловны закружилась, и глаза залили слезы. Она торопливо смахнула их, чтобы не подумали, что она плачет. Ее окружил густой стеной конвой. На шею ей повесили фанерную табличку с аляповатой надписью на немецком и русском языках: «Я – красная шпионка».
Ее вели по широкой, залитой ярким светом улице под конвоем двенадцати вооруженных автоматами фашистских солдат. Впереди, высоко выкидывая сухопарые ноги, гусем вышагивал комендант. За ним трусил нетвердой рысцой Милюкин.
Высоко над площадью, щедро заливая землю яркими лучами, стояло полуденное солнце. Резвый ветерок доносил до Надежды Павловны духмяные запахи преющей на межах картофельной ботвы, острый дым осенних костров и еще какие-то незнакомые, но такие волнующие запахи осени, вечные запахи русской земли.
«Скоро, совсем скоро ничего этого не будет, – как вспышка молнии пронзила все ее сознание стремительная мысль. – Ничего, только мрак». А рыже-опаловая тучка скользнула по диску солнца. «Нет, – радостно подумала Надя, – как вечно это яркое солнце, так вечна жизнь, и земля, и запахи ее...»
Мысль оборвалась. Ее больно толкнули прикладом в лопатку, и она поняла: надо, пора сделать последний шаг. Она выпрямилась, посмотрела на площадь и увидела людей. Обвела взглядом обмершую толпу: та стояла скорбная, тихая, потупясь ушедшими куда-то внутрь глазами, смотрела в землю, в пыль. Надя искала глазами Ромашку, но не нашла. Потом ей показалось, что в толпе она видела Алешину мать с двумя маленькими шелковистыми головками на груди. Она впилась взглядом в это видение и попрощалась. Подняв выше голову, она увидела виселицу: свежеоструганный столб и от него перекладина. На перекладину опустилась откуда невесть взявшаяся ворона, переступая лапами, умостилась удобнее и каркнула на всю площадь: каррррр, кар, карр...
Эти зловещие звуки были последними земными звуками, услышанными Надеждой Огнивцевой.
А вечером того же дня горел старый дом Огнивцевых и полицаи остервенело вырубали именной, фамильный сад. Среди них вертелся пьяный Костя Милюкин и кричал:
– Под корень! Под самый корешок! Весь род огнивцевский под корешок! Всю породу!
И люди видели, как в клубах дыма и пламени на мгновение мелькнуло уже неземное, отрешенное лицо старой Алексеевой матери. Жилистые сухие руки крепко прижимали к впалой груди две белокурые детские головки. Потом распущенные пряди волос жадно лизнуло пламя, и все исчезло в его зловещих переплясах.
...Прошло два дня и две долгих осенних ночи. Два дня и две ночи раскачивалось на виселице под разгонистым сырым ветром тело Надежды Павловны. А утром третьего дня село ошеломила и оглушила новая потрясающая весть: ночью кто-то спалил школу, где размещались фашистские солдаты, и поповский дом, где была комендатура, а на виселице в петле вместо Надежды Павловны Огнивцевой болтался труп начальника полиции Милюкина. На той же самой фанерной табличке, где было написано: «Я – красная шпионка», с обратной стороны было выведено крупными буквами: «Я – предатель», а чуть ниже маленькими печатными: «Так будет с каждым, кто предаст Россию».
Древняя и совершенно глухая бабка Степанида, выстукивая ореховым костылем, шла от избы к избе и, окруженная бабами, рассказывала:
– Видела, бабоньки, своими глазами, как о полночи нагрянула в село огромаднейшая конница, туча тучей наши, значит, и побили они всю немчуру, всех полицаев, а энтого, вожака ихнего, Милюкина, потащили босого, в подштанниках и повесили. Вот те крест, все своими глазами видела.
Бабке Степаниде верили, зрение у нее было еще острым, да и сами они слышали ночью конский топот, шум и выстрелы.
Ромашка исчезла бесследно, только возвращавшийся на подводе со станции хромой Антип рассказывал, что видел ее идущей к лесистым увалам, а куда шла – неведомо.
– В лес, к партизанам, – утверждали бабы.
Село притихло, люди при каждом подозрительном звуке торопливо подбегали к окнам и, прячась за косяки, выглядывали на пустынную улицу. И что-то оно теперь будет? Только равнодушная ко всему происходящему Ицка катила и катила мимо села почерневшие волны, и веяло от нее неприютливостью и стужей.
ПРЫЖОК В БЕЗДНУ
Глава перваяСигнальная лампочка над дверью в кабину пилотов вспыхнула и, мигнув дважды, погасла. Лейтенант Егоров обвел взглядом суровые сосредоточенные лица парашютистов и встал с бокового сиденья. Лампочка вспыхнула еще раз, и он приказал кратко:
– Ну, ребята, пошел! Пошел!
От скамеек один за другим отделялись десантники, решительно делали полтора шага вперед, к двери, на мгновение замирали перед нею, рванувшись, кидались в черный проем и исчезали, растворялись в ночной бездне.
Алексей Егоров прыгал последним. Несколько секунд более положенного он находился в свободном падении, потом дернул кольцо. Когда над головой раскрылся купол парашюта и Егорова резко дернуло вперед, он перебрал руками туго натянутые стропы и огляделся. Внизу, на земле, пугливо помигивали редкие тусклые огоньки. В ушах свистело. Ночь была тихой, темной, безветренной. Плавно покачиваясь, он медленно шел на сближение с землей, изредка различая в темноте неясные очертания куполов плывущих под ним ребят. Ночь уже начинала подтачивать утренняя отбель, заметно светлело в той стороне, откуда появится на земле солнце.
Приземлился он на ровном лысом косолобочке. Ловко погасил парашют, быстро скатился в неглубокий уложек. Вскочил, отряхивая с шаровар траву, оглядел десантников.
– Все?
– Все, товарищ лейтенант, – подтвердил сержант Кислицын. – Вроде за поскотину на гульбище собрались, девок, жалко, нету да и гармони не хватает.
– Шуточки в сторону, сержант, пошли, ночь-то уже тает, объект где-то тут, рядом.
Вокруг простиралась голая степь. Подул свежий понизовый утренний ветерок. Начало светать. Стали видны искореженные и обгоревшие машины, пушки и танки, полуразложившиеся трупы около пулеметных ячеек, горы отстрелянных гильз, каски, противогазы, изодранная в клочья солдатская амуниция, искалеченное оружие.
– Много солдатской кровушки испила тут землица, – вздохнул сержант Кислицын. – Ой, как жарко тут было...
На пути попалось большое поле неубранной кукурузы. Жесткие высохшие листья жалобно поскрипывали на ветру сухим, жестяным скрипом.
– Сколько добра пропадает, ай-я-яй, – огорчался Кислицын. На рыжем горизонте появилась черная точка.
– Кажется, грузовик. Приготовиться, – коротко приказал Егоров.
Группа залегла. Черная точка на двигалась. Они встали, пошли. Это сказался обыкновенный тракторный вагончик, в каких живут механизаторы во время страды. Ржавые колоса вросли в траву, на стене выгоревшая надпись: «Уборка – дело сезонное...»
– Слова Сталина, – обрадовался радист Вася Бывшее. – Эх, было времечко до войны!
Все молчали. Облупленный вагончик механизаторов напомнил каждому о прежней жизни, о дорогом и заветном.
– А я, товарищ лейтенант, живал в таких будках, я же тракторист, – с протяжным вздохом проговорил Кислицын.
Егоров в бинокль долго оглядывал окрестности. Километрах в пяти от вагончика возвышались островерхие кроны пирамидальных тополей, раин, по-здешнему, дальше смутно белели хаты. Между вагончиком и селом наискось припала к земле бурая гривка посадок. Над ней – столбы. Небо между столбами чуть приметно разлиновано пунктиром. На проводах виднеются черные комочки – птицы. Егоров долго рассматривал окрестности и передал бинокль сержанту.
– Посмотри, Сережа, кажется, все верно: и село рядом, и дорога.
Кислицын прижал к глазам бинокль. Был он высок, широкоплеч, чуть сутуловат; квадратный подбородок и могучая шея говорили о большой физической силе. Глубокие светло-серые глаза, так напоминающие северное небо, почти всегда лучились озорноватой улыбкой. Лицо было типично русское, с добрым выражением и какой-то притягательной силой.
– Товарищ лейтенант, видите тополя? Это – село. А столбы видите? Это – железная дорога. – В широкой улыбке его немного большого, грубовато очерченного рта, с припухлыми мальчишескими губами, в добрых серых глазах сверкнула радость. – Э, да этот вагончик нам богом подкинут. Может быть, поживем тут? Сходим на дорогу, разведаем, а ночью начнем орудовать. Ей-бо, в голову никому не придет, что в вагончике механизаторов жильцы поселились.
Вагончик оказался вместительным. Половину его занимали дощатые нары. На нарах сиротливо допревал сноп житной соломы. На стене висел оборванный наполовину плакат: девушка-трактористка в красной косынке и синем комбинезоне зовет белозубой улыбкой на трактор. В углу на табуретке стоял продымленный, заржавленный керогаз и лежала коробка спичек, на полке – пол-литровая банка с рассыпанной солью. К великому изумлению Васи Бывшева, над нарами на стенке висела семиструнная гитара. Он кинулся к ней, провел мечтательно по струнам, запел грустно:
Вот пройдет от нас война сторонкой,
Я действительную отслужу
И в Сибирь, в родную деревеньку,
На могилку к матери схожу...
– Живем, ребята, с гитарой разве пропадают?
Радист играл и пел, а лейтенант Егоров с поразительной отчетливостью вспомнил последний предвоенный вечер в Сухиничах...
Чуть слышно вздыхали сады, от начинающих созревать плодов струился в ночном воздухе еле уловимый терпко-сладковатый аромат. Из местечка плыли в городок протяжные белорусские песни. Приглушенные расстоянием, они казались еще протяжнее. На последних куплетах высоко взмывал звонкий подголосок, парил где-то в вышине и обрывался внезапно. У входа в третью казарму собралась кучка десантников, звенела негромко гитара, и молодой сочный баритон негромко, вот так же, как сейчас радист Бывшев, с глубоким внутренним волненьем пел: «Вот пройдет от нас война сторонкой...» Нехитрая солдатская песенка до глубины души тронула Алексея. Как совсем недавно это было и как давно. С тех пор, кажется, прошла уже целая вечность...
Радист Вася Бывшев поиграл, повертел гитару в руках. На грифе выцарапано: «Коле от Нади».
– Коля, Коля, где-то ты теперь?
– Располагайтесь на нарах и отдыхайте, – приказал Егоров. – Сержант, выставь часового у входа и подальше – наблюдателя. Внимательно следить за местностью.
День прошел спокойно, казалось, что степь вокруг вымерла. Только иногда из села доносились неясные шумы машин.
Сержант Кислицын с тремя десантниками ушли к дороге в разведку, остальные рыли вокруг вагончика окопы и ходы сообщения. Надо было быть готовыми ко всему. Егоров работал вместе со всеми, вслушивался в короткие обрывочные фразы своих парашютистов, ухмылялся:
– Словно зимовать тут собираемся...
– А земля-то как пахнет...
– Не говори, люблю земляной дух, особенно весной.
– Когда поле пашется, марево над ним течет, струится...
Разведчики вернулись не скоро. Кислицын доложил:
– Железная дорога сильно охраняется. На каждые сто метров – два часовых. На месте не стоят, ходят, один – в одну сторону, другой – в противоположную. Минут через семь-восемь сходятся и опять удаляются один от другого. Придется снимать посты. Часовых хорошо разглядели – старики дряхлые. Можем разделаться, как повар с картошкой. И не пискнут.
– Однопутка?
– Да, одна колея.
– Это легче. Готовьтесь, как стемнеет – выходим! – приказал Егоров.
На землю медленно опускался неяркий предосенний вечер. От вагончика, быстро увеличиваясь в размерах, поползла тень. Скоро дали замшились, растворились в сгустившейся синеве; степь засыпала, по ней потек, разливаясь все шире и шире, слабый колеблющийся свет молодого месяца. Вокруг стояла непроницаемая тишина, лишь со стороны села долетали изредка слабые звуки: фыркала машина, лаяла собака, приглушенно хлопали выстрелы.
Когда совсем стемнело, Егоров негромко приказал:
– Бесшумно – за мной!
До дороги было километра три. Шли молча. Только слышалось дыхание солдат, тащивших тяжелые ящики с взрывчаткой. Они часто останавливались, и тогда вся группа замирала, вслушиваясь в ночную тишину. Достигнув неглубокой балки, тянувшейся вдоль дороги и поросшей кустами, залегли. Егоров отдавал последние приказания:
– Ни одного выстрела. Нож в зубы и по-пластунски. Начинать сразу же, как пройдет дрезина. Ясно? Чтобы на стыках не обнаружилась пропажа часовых, наденьте немецкие каски и шинели, идите спокойно навстречу, буркните фразу по-немецки и поворачивайте назад, в случае, если у врага появится подозрение, работайте ножами так, как вас учили, – Егоров замялся. – Не зря же учили... И так до тех пор, пока не будет заложена взрывчатка и не пройдет поезд. Ясно? А поезд скоро должен быть. Надо спешить. Теперь рассредоточивайтесь и – вперед. Сержант Кислицын, будешь со мной.
На дороге, на каждых ста метрах, ходили, тихо переговариваясь, по два немца. Они часто останавливались, опасливо посматривая на темные посадки, прощупывали их ярким светом фонарей. Егоров ясно различил две высокие сгорбленные фигуры, почти бесшумно вышагивающие по шпалам. Где-то в болотнике скрипел деревянным скрипом дергач, немцы тихо ругались.
Голоса были тоже деревянные, как крик дергача. Немцы трусили. Егоров подумал про себя: «Так-так, каждого кустика бояться стали, подождите, не то еще будет...»
Прошагав до конца своего участка, немцы останавливались, поджидали идущих навстречу товарищей, минуту-две стояли вместе, о чем-то тихо переговариваясь, вспыхивал бледный огонек зажигалки, потом снова расходились в разные стороны.
– Лучше всего их брать на средине участка, – прошептал Кислицын, – так вернее.
– Тихо! – оборвал его Егоров.
Так лежали они долго. Когда немцы удалились в обратную сторону, они подползли к самой насыпи, – теперь до немцев можно было рукой достать. Около полуночи прошла на тихом ходу дрезина. Часовые заметно оживились, громко переговаривались с солдатами, сидящими на дрезине, потом даже прыгнули на нее, проехали несколько метров, спрыгнули.
– Скоро пройдет эшелон, – шепнул Кислицыну Егоров.
– Ну.
Когда немцы отошли метров на тридцать, Кислицын ящерицей переполз через полотно и замер с противоположной стороны.
– Как только будут между нами – прыгай.
– Ну...
Время остановилось. Бесконечно долго тянулись последние перед схваткой минуты. Но вот совсем близко хрустнул под ногами шагавших часовых гравий, едко пахнуло в лицо сигаретным дымом, и две высокие сутулые фигуры выросли прямо перед носом. Егоров и Кислицын прыгнули одновременно. Два свистящих затяжных вздоха, глухой удар оседающих на полотно тел, резкий металлический звук лязгнувшего о рельс оружия.
– Ну, живо под насыпь, шинель, каску и автомат не забудь...
Через минуту Егоров и Кислицын шагали по шпалам, положив руки на шмайссеры, пониже натянув козырьки пилоток и густо дымя сигаретами. Теперь они шли навстречу двум немцам. А на свободном участке уже начали работать взрывники. Они быстро закладывали в двух местах взрывчатку и тянули бикфордовы шнуры от полотна через посадку в балочку.
– Четко, ребята, четко! – уходя, приказывал лейтенант. – Промаха быть не должно.
– Будьте спокойны, товарищ лейтенант, не первый раз.
Не дойдя пяти метров до встречных часовых, Егоров прохрипел:
– Аллее гут... нихт шлюммерн...
– Яволь! – послышалось в ответ.
Егоров резко повернулся и зашагал назад, спиной слушая удаляющиеся шаги врагов.
– Во, ослы вислоухие, – хихикнул Кислицын. – «Нихт шлюммерн». А что это такое?
– Тихо, Сережа. Они уже полусонные, ночь-то тает вон, а они старые, с дремотой борются кой-как. А «нихт шлюммерн» – это приказ у них такой – не дремать!
– Ну и чудеса, не дремать, ах, кабы я мог так: никс, никс... Вот и забыл уже.
Шли они очень медленно, тянули время: второй раз «нихт шлюммерн» может уже и не получиться, возьмут да и подойдут вплотную перекурить вместе и – влипли. Егоров начал уже беспокоиться: вдруг того, нужного им эшелона, ради которого они прибыли сюда, вовсе не будет, тогда зачем же так усиленно охраняется дорога? Нет, все должно быть правильно, разведка в последнее время работает четко...
На востоке уже ярко обозначилась длинная, быстро алеющая полоска, на ее фоне четко вырисовались низкорослые кусты посадки, насыпь и телеграфные столбы. Егоров замер. Заныли рельсы, и до слуха донесся ясно слышимый и нарастающий с каждой секундой шум приближающегося поезда.
– Вот он, Сережа, – выдохнул Егоров.
А когда на рельсы упали, прощупывая каждый метр дороги, жидковатые полосы бледно-желтого света, Егоров и Кислицын спрыгнули с полотна дороги. Алексей дал команду, и подрывники подожгли бикфордовы шнуры. Все замерли в нетерпеливом ожидании. Поезд шел на большой скорости. Состав вели два паровоза.
– Тяжелый, – толкнул Егорова локтем в бок сержант.
– Да, тяжелый.
Теперь эшелон было видно как на ладони: пульманы вперемежку с площадками, на которых темнели зачехленные танки и орудия. Замыкали эшелон пассажирские вагоны.
– Ну, ну, – торопливо шептал Егоров, вцепившись пальцами, словно клещ, в плечо Кислицына, – ну, ну...
Два взрыва почти одновременно встряхнули утреннюю тишину, выметнули в небо столбы пламени, оглушили сонную наволоку треском, грохотом, хрустом, воем. Паровозы как-то пьяно пошатнулись и рухнули под откос. Вагоны и площадки лезли друг на друга, со скрежетом рушились с высоты вниз, раскалывались на части, как щепки. Один за другим грохотали взрывы. В пламени вагонов ошалело метались люди и исчезали. Нескольким эсэсовцам удалось выскочить из грохота и пламени. Они ошалело метнулись в сторону от дороги и были скошены автоматными очередями десантников.
– Пластает-то как! – восхищался Кислицын.
– Это, Сережа, настоящий бой! – торжествовал Егоров. – Это им за Сухиничи двадцать второго июня, это им начало большой, страшной расплаты за все. Еще не то, Сережа, будет, обожди...
В посветлевшем небе гасли последние неяркие звезды, со степи, от вагончика, резво подул свежий утренний ветерок. Рассветало.
– Уходить теперь нельзя. Опасно. Днем нас обязательно обнаружат. Надо ждать ночи, – раздумывая, говорил Егоров. – Как думаете?
– Днем они нас, как слепых мышат, раздавят в голой степи. За десять километров все видно, – поддержал лейтенанта радист.
– Надо, товарищ лейтенант пересидеть в вагончике. В голову никому не придет, что мы натворили чудес и сидим тут, рядом, будут искать дальше.
– Пожалуй, верно. Самое лучшее в нашем положении – это пересидеть молча тут, у них под носом. С темнотой наведаемся в село, разведаем, много ли их там. Шороху, как говорят, наделаем, – окончательно решил Егоров и приказал: – Отдыхайте, ребята, а ты, сержант, со мной.
Они вышли из балки и направились к горящему эшелону. В пятидесяти метрах лежал убитый ими немец. Егоров повернул его навзничь, долго, пристально смотрел в его уже подернутое пеплом смерти лицо. Белокурый, красивый, упитанный. Светлые густые брови недоуменно изломаны. Полы черного куцего мундира обгорели. В петлицах – череп и две изломанные молнии.
– Эсэсовец. Фашистская гвардия. Отборные войска...
Егоров отстегнул от пояса эсэсовца увесистую кобуру, достал пистолет. Тяжелый, с длинным стволом.
– Сережа, глянь – парабеллум. Отлично стреляет. Пригодится.
Пламя над горящим эшелоном погасло, пало, треск заметно утих, ничего живого там уже не было.
– Ладно, Сережа, пошли спать, надо отдохнуть. Поработали мы с тобой сегодня хорошо. Может быть, в первый раз за всю войну по-настоящему поработали. А?
– Было, товарищ лейтенант, и до этого.
– Было, Сережа, было. Но сегодня мы поработали особенно...
На железной ступеньке в дверях вагончика сидел часовой. При виде командира он вскочил и виновато улыбнулся:
– Извините, товарищ лейтенант, немного задумался и... присел.
Егоров осведомился:
– Тихо?
– Тихо, товарищ лейтенант. Тихо и глухо, как в голбце.
– В голбце? А это что такое?
– Так, товарищ лейтенант, у нас подполье называется.
– Смотреть в оба!
– Есть смотреть в оба!
Ребята, утомленные ночной работой и нервным напряжением, почти все спали. Егоров и Кислицын легли на оставленное им место на нарах, положив под голову затхлый, пропахший мышами и пылью сноп соломы, умолкли. Кислицын через несколько минут начал тихо посапывать, а к Алексею сон не приходил. Он перебирал в памяти события последних недель и дней и ужасался: сколько смертей, сколько крови, вся русская земля обагрена ею.
В щели вагончика просачивались еще греющие лучи осеннего солнца, крыша и стены накалились, стало душно и парко, как в сибирской бане, когда плеснешь на каменку ковш воды. Перед глазами Егорова стремительно поплыли расплывчатые, едва уловимые кадры, мелькнул образ жены Нади, ее красивые белые руки потянулись к нему; и Алексей уснул сном утомленного человека.








