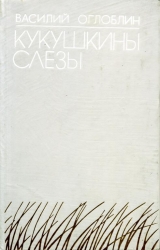
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Вечер уже стелил по степи фиолетовые тени от каждого бугорка, от каждого кустика полыни, когда к заброшенному тракторному вагончику подкатил на велосипеде странный мужичок. Малого роста, шустрый такой, рыжие усики, как лес осенний, насквозь просматриваются. Голова, будто крупная репа хвостом вверх, глазки острые, мечутся из стороны в сторону, словно заблудились, и печально слезятся. Спрыгнул с велосипеда, опешил:
– Тю, тю, тю, здоровеньки булы. Звидкиля вас занесло?
– Ладно, ладно, папаша, зачем пожаловал? – строго спросил Егоров.
– Ай, то усе дурници. Племяш мой, як у армию уходыв, наказував у вагончику забраты. Шкода, кажет, гитара та як подарунок хлопцеви вид дивчины. Кажет, шкода, забери, дядьку, гитару и бережи. Ось я згадав цей наказ племяша и прибув. А тут ось що...
– Правду говорит папаша, есть гитара, – вышел, побренькивая по струнам, Вася Бывшев. – Передаю вашему племяшу в целости и сохранности, как дар от воинов Красной Армии. Пожалуйте, получайте. Мировая, скажу вам, гитара. К тому ж подарок от милой Нади.
– Брось зубоскалить, – оборвал его Егоров. – Немцев в селе много?
– У сели – ни, не богатисько. На зализничной станции – богато. Дюже богато.
– Танки есть? Артиллерия?
– Ей танки, богато. Уси в ешелонах, к фронту идуть, ось и тот ешелон, що вы...
– Ладно. Немцы в селе по хатам живут?
– Э, ни, по хатах воны боятся, уси у школи, покатом на соломи, хи-хи, як ти свиньи...
– Сильно фашисты в селе лютуют?
– А лютують, нехристи поганые. Усих активистив поперевешивали, усю худобу у селян отняли, ни поросяти шелудивого, ни курки зощипанной не зосталось, усэ забрали, ненасытни.
– А как живете?
– А як жилы, та и живемо, у колгоспи робымо, як и при Советах робыли. Яка жизнь у мужика – як не ворочай, усэ одна нога короче, худо живемо, – и засмеялся жиденьким, дребезжащим смешком.
Ребята обступили мужичка, с любопытством расспрашивали его. Кислицын отозвал лейтенанта в сторонку, спросил с тревогой:
– Товарищ лейтенант, думаете отпустить его?
– А что же ты предлагаешь? Расстрелять?
– Подозрительный он какой-то, глаза неспокойно бегают.
– Человек как человек. А глаза бегают, так это от неожиданности – растерялся он, встретив нас тут.
– Дело ваше, а только не нравится он мне. Нутром чувствую, что с гнилинкой он.
– Успокойся, Сережа, скоро ночь, а ночью нас ветром сдунет отсюда. А людям верить надо, нельзя так, огулом.
– Ладно, – махнул рукой и вздохнул Кислицын, – верить-то надо, да не всем, этому бы я не поверил, ей-богу.
– А ты злой, оказывается.
– На врагов – злой.
– Ну ладно. Командир тут я. Я и распоряжусь.
И дружелюбно похлопал Кислицына по плечу. Обращаясь уже к мужичку, сказал:
– Ну, спасибо за визит, папаша, нажимайте на педали.
– А вжеж, треба нажиматы.
– Как село называется?
– А Степанками зовемо.
– О нашей встрече никому ни звука.
– А вжеж.
– Будьте здоровы.
– До побачення.
Быстро вечерело. Мужичок прытко вскочил на велосипед, стрельнул глазами по вагончику, поправил на спине гитару и заработал педалями, как-то неестественно сгорбившись, словно пулю вдогонку ждал. Оглянулся, помахал рукой.
– Перепуганный какой-то, несладко, видать, под фашистом живется, – провожая гостя глазами, проговорил Егоров и приказал готовиться к ночной атаке на село Степанки. – Забросаем гранатами школу и – в путь. Народ воспрянет душой. А это – великое дело.
От вагончика в сторону села поползла тощая тень. Вот она запуталась где-то в колючем темном жнивье, увяла. Небо слилось со степью. Низко припадая к земле, струями подул понизовый сырой ветер. Неуклюже выполз месяц и плеснул на степь мертвым ледяным светом.
И вдруг от станции, то падая, то взлетая в небо, зашарили белые холодные лучи. Свет их с каждой секундой становился ярче, жирнее. Послышался приглушенный гул моторов.
– Машины идут, товарищ лейтенант, – ледяным голосом крикнул Бывшее, – сюда идут.
– Неужели, гад, предал? – Егоров резко повернулся в сторону фар, прислушался: – Да, сюда идут. Три машины. До роты...
Егоров быстро оценил обстановку. Отходить нельзя. В голой степи их уничтожат без особого труда, как мышат раздавят. Остается одно: принять бой и тогда под прикрытием темноты и пулеметного огня отходить.
– Бывшее, радируй: задание выполнено. Обнаружены. Принимаем бой. Маяк. Все! Занять круговую оборону! Пулеметы мне и сержанту. По команде отходить!
Над вагончиком сгустилась гнетущая тишина. Люди устраивались поудобнее в окопах, клацали затворы, чертыхался Бывшее.
– Пустить бы гаду пулю в спину и делу конец.
– Кабы знатье.
– По роже видно было, эх...
Егоров притянул к себе Кислицына, прошептал:
– Ты, Сережа, будь рядом со мной. Прикрывать отход станем, спасать надо ребят. А доведется умирать, так уж вместе. Смотри... Эх, маху я дал. Прав ты оказался. Прости, друг.
Машины остановились в двухстах метрах от вагончика. Яркий свет фар ощупывал его облупленные стены, падал на брустверы окопов. Из машин повыпрыгивали немцы, развернулись в густую цепь. На фоне не успевшей потухнуть мутновато-желтой полоски зари ярко вырисовывались чуть подавшиеся вперед фигуры врагов с приставленными к животам автоматами. Раздался резкий требовательный голос:
– Рус парашютист, сдавайся!
Егоров подождал еще немного, припал к пулемету, взял цель и ударил очередью. Густой настильный огонь не давал фашистам оторваться от земли. Но, подгоняемые офицером, они вскакивали, беспорядочно стреляя, бежали на окопы, не выдерживали, падали и отползали, оставляя за собой черные кочки убитых. Поняв, что так, в лоб, обороняющихся им не взять, они отошли и залегли.
Несколько минут стояла тишина, нарушаемая гортанными выкриками и редкими автоматными очередями. Момент был удобный, и Егоров, не раздумывая, приказал:
– Уходите! Все! Я останусь, прикрою огнем. Командование передаю сержанту Кислицыну.
– Я не пойду! – прохрипел над ухом Кислицын. – Без тебя не пойду.
– Молчать! Выполняй приказ!
– Я...
– Молчать!
– Эх ты, а еще друг...
Со стороны станции, скрежеща траками, приближался тяжелый танк. Егоров понял, почему залегли и притихли враги: ждут танка. И вспомнил о минах.
– Черт подери, у нас же есть мины, противотанковые мины! – закричал он неизвестно кому. – Мины...
Он кинулся к ящику, взял две мины, выполз из окопа, установил мины в пяти метрах от него. Вернувшись, приготовил гранаты и лег за пулемет. Теперь он был совершенно спокоен: ребята за это время успели уйти уже далеко, их надежно укроет темнота.
«Сколько же убитых? Совсем немного. Буду убит я. Погиб весельчак Бывшев. И больше никого. А сколько мы их положили там, на дороге, и тут, у вагончика? Много положили, дорого им обойдется одна моя жизнь... Что ж, я виноват в том, что не рассмотрел в мужичонке врага, мне и рассчитываться за свою близорукость. Там после возвращения все равно спросили бы, как и почему погубил группу? Так лучше честная смерть». Он даже представил себе, как бы его спросили: «Скажи, лейтенант Егоров, ты живой? Живой. А группа где? Отборная группа. Ты что, лучше всех, погубил ребят, а сам остался живой? А?» Нет, группу он спасет, а умрет один, да Вася Бывшев... И все. Алексей опять вспомнил невзрачного мужичонку, вспомнил его похожую на репу голову, рыжие жидкие усики, подумал: «Такой тщедушный, в чем душа держится, и такой гад».
Егорову было хорошо видно, как вокруг танка закопошились солдаты. Через минуту танк взревел, выхлопнул газы и, неуклюже покачиваясь и стреляя, рванулся на окопы. Прямым попаданием снаряда в щепы разнесло вагончик.
Егоров дал длинную очередь по пехоте, бегущей за танком. Приготовленные гранаты метнуть не успел: окоп качнулся, зашатался, хрустнул под гусеницами пулемет, лицо Егорову залило горячим машинным маслом, раздался взрыв, ослепительно сверкнул огонь. Лейтенанта стиснуло, придавило и накрыло тяжестью и чернотой.
С трудом расцепив отяжелевшие, слипшиеся веки, Алексей Егоров увидел странную картину: он лежит навзничь в изножье высокой каменной стены, настолько высокой, что ее вершина уходила в густо подсиненное небо. Там, где обрывалась стена, одиноко и лениво ползла подпаленная с боков тучка.
– Что за чертовщина? – выругался он.
Хотел пощупать стену – не смог, рука не шевельнулась. Попытался приподняться и сесть – ожгло больно.
– Странно, где я?
Он закрыл глаза и попробовал вспомнить, что с ним было. Но в голове копошились вязкие, неуклюжие, рвущиеся мысли. Ничего не вспомнив, он снова стал наблюдать за тучкой. Она за это время переместилась вправо и вытянулась. До слуха донеслись какие-то странные скрипящие звуки; он долго прислушивался к ним, и вдруг его озарило: так это же скрипит дергач. Этот с детства знакомый звук отрезвил Алексея. Он с поразительной отчетливостью припомнил каждую секунду боя и все понял: никакого колодца нет, он лежит на дне обрушившегося под гусеницами танка окопа, присыпанный землей. Алексей ощутил, как тело сковывает навалившаяся тяжесть. Дышать было тяжело. Он напряг силы, судорожно рванулся, но тяжесть не сбросил, тело было непослушным. Он снова забылся, а когда открыл глаза, увидел прямо над собой низко повисшую ущербную луну. Оттуда, сверху, в лицо пахнуло сырой прохладой, и до Алексея донесся тонкий, нежный аромат степной повилики.
– Сколько же времени я лежу тут? – бормотал он. – То была тучка, а теперь луна. Ерунда, надо шевелиться и стряхивать с себя землю, одну руку освобожу, а там откопаюсь.
Он начал дергать руки, шевелить ногами.
– Надо, надо двигаться, – торопил он себя, – иначе могу потерять сознание, и тогда пропал, не могу же я так глупо умереть.
...Земля, это он хорошо помнил, когда они копали окопы, была сухой и мелкой, как пепел, ребята еще ругались: пыль какая-то, а не земля. Он жадно глубокими глотками вдыхал ночной воздух и шевелился, шевелился. Вся его воля, все силы были, словно в фокусе, сосредоточены теперь в одной точке: шевелиться и дышать.
А время текло, звезды меркли, небо бледнело, изредка доносились далекие непонятные звуки и остро пахло повиликой.
– Нет! – крикнул он, и сам не узнал своего голоса. – Я должен жить! Жить! Жить!
Проявив неимоверное усилие воли, Егоров через несколько минут вылез из окопа и отряхнулся. Огляделся по сторонам. Рядом черной неуклюжей громадиной возвышался обгорелый танк. Он еще не остыл и дышал раскаленным металлом, окалиной и смрадом. Все вокруг было вспахано, изрыто, искорежено.
– Черт, неужели живой? Живой!
Он посмотрел в сторону села. Там мигали редкие желтые огоньки. Где-то далеко погромыхивало. Вся степь была залита расплывчатым лунным светом. Небо над головой начало заметно бледнеть.
– Надо уходить, – сказал он себе, – скоро утро. Немцы приедут подбирать убитых. Но у меня же нет никакого оружия...
Он осторожно обогнул неуклюже осевший на один бок танк и в пяти метрах от него натолкнулся на убитых немцев. Отплевываясь и чертыхаясь, он брезгливо обшарил их, сунул в карман несколько рожков, повесил на шею автомат, отцепил от ремня здоровенного немца тяжелую флягу и хотел было уходить, но запнулся за труп. Склонился, вгляделся в лицо убитого, узнал. Он бережно взял товарища на руки, отнес на свое место в окоп, накрыл лицо носовым платком и присыпал пыльной землей.
– Прощай, весельчак Вася Бывшев, прости...
Посидел над окопом, решительно поднялся, выпрямился и растворился в лунном разливе.
До рассвета он шел по пустынной прогорклой степи, пересекал неглубокие балочки, редкие огоньки селений обходил стороной.
На рассвете подошел к лесу. Осанистые березы на опушке встретили его тихим успокоительным шелестом поникших ветвей. Потянуло сыростью, сладковатым запахом гниющего дерева, горьким ароматом увядающего лесного разнотравья. Вздохнул облегченно: «Лес теперь мне спаситель».
Пройдя немного лесом, Егоров вышел на полянку. На сочной молодой отаве резвились в каплях росы первые лучи восходящего солнца; под разросшимся кустом лещины, в густых зарослях орешника, на полянке – всюду дремала и позевывала утренняя теплота.
– Хорошо-то как! – прошептал Алексей, просветленным взором оглядывая тихую лесную картину.
На опушке к высокому кусту орешника была мастерски и любовно наметана чьими-то руками копна свежего сена.
«Вот тут и отдохну, – подумал Егоров. – А ночью дальше тронусь».
Он зашел к копешке со стороны леса и стал выщипывать еще не успевшее слежаться запашное свежее сено, как вдруг руки его нащупали что-то твердое. Осторожно разгреб сено и обомлел: из стожка торчали запыленные яловые сапоги. Он отскочил, вскинул автомат и громко прокричал:
– Эй, кто там, вылезай!
Копна зашевелилась, послышались невнятные сердитые звуки, кашель, чихание, лязг затвора, а вскоре показалось заспанное лицо его помощника, сержанта Кислицына.
– Ба! Вот это встреча! Товарищ лейтенант, какими судьбами в мою избушку?
Оба расхохотались. Оба были чертовски рады, что вновь оказались вместе.
– Цел? – осматривая своего командира, спросил Кислицын. – А меня, брат, зацепило и здорово – рука в двух местах перебита, раны беспокоят, огнем горит рука.
– Остальные где?
– Я приказал ребятам пробираться в сторону фронта небольшими группами и в одиночку, так вернее. Табуном тут не пройдешь даже ночью. Посмотри раны, перевяжи.
Егоров разбинтовал предплечье, осмотрел.
– Да, дела неважные, дружище, закраснение кругом пошло. – Он порылся в карманах, достал индивидуальный пакет и перевязал раны. – Ну что ж, Сережа, теперь у нас три руки, два автомата, два пистолета – боевая единица Красной Армии. Воевать станем, а пока давай спать. Устал я, Сережа, очень; я ведь в окопе присыпан был, мог бы и концы отдать. Танк-то я подбил, там, около вагончика, обгорелый стоит, и трупов немецких кругом навалом. Как-то там наши ребята?
– А так же, как и мы, где-нибудь в лесу. День спят, ночь идут. Ориентир один – на восход солнца, к своим.
– Васю-радиста жалко, славный был парень, весельчак. Похоронил я его в том окопе. Давай зарывайся в сено, подрыхнем.
Вдруг из леса донесся людской гомон, фырканье лошади, скрип колес.
– Люди! – встрепенулся Егоров. – Слышишь?
Осторожно, осматривая каждый кустик, они дошли до подлеска, залегли, прислушались. Голоса были совсем близко. Они ясно различили немецкую речь.
Они проползли густые заросли орешника, лещины, бузины. Открылась зеленая опушка, точь-в-точь такая же, на какой они были, и копешка сена такая же. Увидели: посредине полянки стоит лошадь, ушами прядет настороженно, четверо немцев, здоровенных, с бабьими задами, кабана из телеги волокут.
– Вишь, гады, хозяйничают, как у себя дома в усадьбе, – прошептал Кислицын и зло сплюнул. – Кабана привезли смалить. Пусть, пусть осмалят, вспорют, а свеженину мы с тобой есть будем.
Притаились, стали наблюдать. Орудуют, черти, умело, ловко. Зажгли паяльную лампу, смалить начали. Один пламенем по шкуре водит, второй воду из термоса льет и кинжалом скоблит, третий, насвистывая, побежал в сторону кустов, где притаились они, дошел до копешки, надергал сена, понес товарищу, сам присел на корточки, тоже сеном трет поджаренный кабаний хребет, четвертый стоит в сторонке, на лес озирается. Смеются, языками цокают.
– Гут швайнефлайш.
– Я, я, гут!
– Будет вам сейчас «гут»! – сплюнул сквозь зубы Кислицын. – Останется вам только швайне.
Вспороли брюхо, крови в кружку набрали, напились по очереди.
– Гут!..
А осеннее солнце припекало по-летнему. Запутавшись в кронах дубков и ясеней, оно насквозь просвечивало густой, окутанный голубоватой дымкой лес. Перелетела с ветки на ветку потревоженная людским присутствием пичужка и тревожно всхлипывала.
– Бить будем прицельно, одиночными, – прошептал Егоров, – шум поднимать нельзя, близко может стоять их часть. Понял?
– Ну.
Немцы закончили свежевать тушу. Сели на кабана. Закурили. По полянке потек синими струйками, кучерявясь и растекаясь, дымок. Поглядывают на лошадь, уезжать, видимо, думают. Егоров мигнул нетерпеливо, шепнул:
– Давай! Ты – левого, я – правого, в средних – кто вперед успеет.
Выстрелили одновременно. Крайние немцы свалились с кабана, средние сорвались и побежали в сторону копны, не добежав десятка метров, упали. Егоров и Кислицын дали по ним две короткие автоматные очереди. Перепуганная выстрелами лошадь рванула, только подлесок хрустнул. Из телеги выпал автомат.
– Лошадь зря упустили, она бы нам теперь очень пригодилась, – кинулся вдогонку лейтенант, но лошадь оборвала сбрую и скрылась в лесу.
– Эх, неладно получилось с лошадью. Прибежит сейчас пустая, сразу же всполошатся все.
Бросились к туше. Быстро орудуя кинжалами, набили вещмешок мясом, сигареты из карманов вытрусили, автомат прихватили и побежали поглубже в лес.
– Вот так, гады! – хрипел Егоров, тяжело дыша от быстрого бега и тяжелой ноши. – Не забывайте, это вам не Грюнвальд или Шварцвальд какой-нибудь. Русский лес, тут вас каждый куст расстреливать будет, каждая болотная кочка... Подавитесь русским салом!..
Шли весь день. Лес становился гуще, непроходимей. Часто попадались заболоченные пади, густо утыканные мертвыми осинами и березами.
Вечером остановились на берегу заросшей осокой и камышом озеринки. Сержант в изнеможении упал под березой с почерневшим и потрескавшимся от старости стволом, осторожно положил на обнаженные и вздувшиеся корни раненую руку.
– Болит? – участливо спросил Егоров.
– Горит огнем, Алеша.
– Полежи, а я сейчас костерик соображу, мяса нажарим, подкрепимся, а потом сделаю перевязку.
Место было глухое, дикое, ни один посторонний звук не доносился сюда и не нарушал загустившейся вечерней тишины, только глухо и монотонно шумели темнеющие кроны вековых сосен да печально лепетали уже переделай листвой осанистые березы.
Алексей быстро наносил сухого валежника, ловко вспорол кинжалом ствол березы, отщепнул большой кусок бересты, и скоро у самой воды, в прогалинке между стен высокого камыша, весело запылал костер. Нажарили мяса. Молча поели. Покурили. Егоров достал карту. Долго водил по ней пальцем, хмуря брови. Сказал со вздохом:
– Далеко нам с тобой топать, раньше чем за два месяца до линии фронта не доберемся. Придется идти и днем, и ночью. И вся беда в том, что леса-то скоро кончатся, степи опять пойдут, а степью идти нам с тобой трудновато.
– Да, далековато, – вяло согласился Кислицын. – Может, поспим маленько?
– Спать сейчас, Сережа, недосуг, ночь идти надо, днем завтра поспим. Вставай, пойдем.
И они, с сожалением посмотрев на сиротливо догорающий костер, шагнули в темноту.
Глава третьяТак шли они тридцать восемь дней и ночей. Осень все настойчивее напоминала о себе, ночами и утренниками было холодно, часто шли затяжные мочливые дожди, обувь развалилась. От хромовых сапог Егорова остались одни побуревшие голенища. Добротные яловые сапоги сержанта еще держались. Вечерами они выбирали место поукромнее, разводили костер, грелись, обсушивались и, укрывшись плащ-палаткой, засыпали тревожным, чутким сном. Иногда днем заходили в глухие деревеньки и хутора «охлебиться», как говорил сержант, и разведать обстановку. Люди смотрели на них испуганно и жалостливо, как на выходцев с того света. Спрашивали:
– Ридненьки наши, куда вы идете?
– К своим, – отвечали.
– А где они те, свои-то?
– Где надо. С фашистом воюют.
– Горемышные вы горемышные... к своим...
И виновато умолкали.
Несколько раз встречались на лесных дорогах с вражескими машинами и конными подводами. Обстреливали из засады. Прихватывали кой-какую добычу и скрывались в лесу. На тридцать восьмые сутки подошли к линии фронта. Всю ночь пролежали в котлинке, следя за фантастической игрой огня. Передневали. С наступлением темноты решили попытать счастья.
– Ты, Сережа, счастливый, – невесело шутил Егоров. – С тобой не одну линию фронта перейдем.
Ночь была темной и тревожной. Зловеще сгорали низкие зарницы. Часто погромыхивало. Над головами с режущим свистом пролетали снаряды. В черном осевшем небе вспыхивали и сгорали метеоритами ракеты. Линия фронта. Там, откуда погромыхивало, были свои.
Обходя вражескую огневую точку, они в упор натолкнулись на немца. Заслышав шаги, упали, вросли в землю, притаились. Он остановился в шаге от них. Худой, долговязый, он стоял, сильно пошатываясь, и мочился чуть им не на головы. Из ниши немца кто-то окликнул.
Он неуклюже повернулся, прогудел сипло:
– Айн момент, Курт.
В это же время Егоров рванул его за ноги. Он глухо шмякнулся. Сержант был уже на нем.
Продравшись через колючую проволоку, они выползли на голую плешину полого стекающего вниз холма.
– Быстрее, наши рядом, – торопил Егоров. – Мы на ничейной.
Отчаянно загребая коленями и локтями вспаханную снарядами и минами землю, они поползли. В темной вышине, почти над их головами, вспыхнула и рассыпалась огненными искрами красная ракета. Немая тишина взорвалась, вздыбилась огнем и грохотом. Глухо зашлепали минометы.
– Беда, Сережа, пропали, – крикнул Егоров. – Это ночная атака. Бежим к нашим, пока не поздно, а то в самую кашу попадем.
Лощинка зашевелилась, посунулась в их сторону, донеслось глуховато рычащее: рррра-а-а-а-а. Темные фигурки внизу оторвались от земли и стали быстро вырастать и приближаться.
– Наши в атаку пошли, Сережа, бежим и мы.
– Урррра-а-а, – заорал густым басом Кислицын. – Вперед!
– Ура! Вперед, ребята!
Они остервенело карабкались с передней цепью атакующих на вершину холма. Сплошные фонтаны огня преградили им дорогу. Кислицын споткнулся и упал. Алексей кинулся к другу, схватил его за грудки, пытаясь приподнять, и опустил: Сережа был мертв.
– Ах, Сережа, Сережа!..
И снова побежал вперед. Его подхватило, понесло и бросило с чудовищной силой на вздыбленную и пылающую землю...
Очнулся Егоров от нестерпимо яркого света. Открыл глаза. Изрытую снарядами землю стянуло первым морозом. Алексей пошарил рукой вокруг себя: былинки были сухими, ломкими. Приподнялся на локте – вокруг ни души.
Далеко, под лесом, смутно, как в тумане, расплывались серые контуры домов, рядами стояли дымки из труб, столбиками подпирающие серое низкое небо. Дымки дрогнули, растаяли, и он опять провалился в черноту.
Так продолжалось долго. Приходя в себя, он видел на низко навалившемся на степь небе то тусклое негреющее солнце, то холодную, равнодушную луну. В ее призрачном фосфорическом свете убитые, казалось, шевелились и, ломая грузными телами мертвую траву, тяжело ползли на него. Егоров тоже пытался ползти и снова тонул в глубокой засасывающей яме. Окончательно сознание вернул ему холод. Разлепив глаза, он увидел, что вся бескрайняя степь, и ложбинка, и холм были покрыты толстым слоем ослепительно белого снега. Он торопливо сгребал в рот холодные колючие комья и с жадностью глотал их. Оторвала его от этого занятия быстро нарастающая, до самого неба, огромная фигура немца. Егоров рванулся, попытался подняться на ноги и не смог. Обшарил все вокруг себя – оружия не было.
– Все, Алеша, это – конец, – прошептал он беззвучно.
Чуть не наступив на него, немец остановился. Егоров долго, не мигая, смотрел в его расширенные от ужаса глаза, так странно, чуть не на лбу прилепившиеся на грязном, измятом, каком-то изжеванном лице.
Прошла, казалось, вечность, прежде чем над самым ухом треснул пистолетный выстрел. Открыв глаза, Алексей увидел, как немец, засовывая пистолет в кобуру, уходил, быстро уменьшаясь в размерах. Пуля прошла чуть ниже правого уха, только слегка зацепив кожу шеи.
Смерть опять обошла Егорова.
Вскоре он услышал тягучий скрип колес. Приподнял голову. К нему приближался пароконный фургон. Рядом с фургоном немец идет, вожжой посвистывает. В желобе фургона – трупы в навал; по шинелям узнал – немцы. Фургон остановился около него, и тот же ледяной голос проскрипел:
– Майн гот, майн гот!
С минуту немец смотрел на Егорова озадаченно, изжеванное лицо вытянулось. Потом выдохнул коротко:
– Я, я, гут...
Огромные грязные ручищи подняли Егорова, легкого, обескровленного, и бросили в желоб. Тут, в желобе, на мертвых немцах, Егоров впервые почувствовал жгучую боль в правой половине груди и то, что он чертовски замерз. Его трясло. Фургон поплыл по снежному полю, скрипели колеса, наматывая на себя снег с грязью. Немец поглядывает на Егорова, сплевывает, головой качает:
– Майн гот, майн гот...
Фургон остановился около низкого длинного сарая. До слуха Егорова донесся глухой сердитый голос. Офицер разносил солдата за то, что он не добил русского. Привезший Егорова немец, закрыв лицо большими руками и суеверно посматривая в сторону Алексея, шептал офицеру, что он стрелял, но пуля не взяла русского, что он какой-то заговоренный, что ли. Офицер приказал отправить его в госпиталь. Пусть, мол, живет: парень здоровый, поработает на фюрера, раз такой живучий.
И вот Егоров лежит на нарах в лазарете Дрогобычской тюрьмы, названном по-немецки ревиром. Над задымленными кряжами лесистых Карпат лентой вытягивается и рвется темно-пурпурная полоска вянущей зари. В камере темно. Невеселы тягучие мысли Алексея. Не смерти, не ран боялся он, пуще всего боялся плена. И не избежал. Лежит на неотесанных досках тюремных нар и смотрит на дальние незнакомые горы, на печальный закат и думает о том, что так горько и нескладно надвигаются на его короткую жизнь холодные сумерки, а за ними опустится черная ночь и уже не будет рассвета. Алексей Егоров искренне позавидовал своему боевому другу сержанту Сереже Кислицыну, павшему на поле боя: легкая смерть – тоже счастье.








