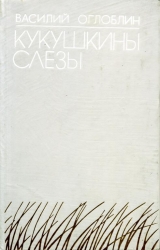
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Пока дед ворочал неуклюжие и противоречивые мысли, лунный свет из ушата весь вытек. Развиднелось, небо рассинилось, распахнулось вширь и вглубь, на востоке обозначилась алая полоска, с левады потянуло шелковым ветерком.
Встал Тарас с чурбана, постоял минуту в раздумье, шагнул в сарай, легко вскинул вверх лестницу, полез, кряхтя, под потолок. Там в надежном месте добротные припасены доски, от Натальиного гроба остались, так и загадывал тогда: «На мою домовину точь-в-точь хватит». Вытянул доски, сносил к верстаку, достал рубанок, фуганок, огляделся по сторонам.
– Эхма, отцвели кукушечкины слезки, отцвели, отплакали...
Засучил выше локтя рукава у рубахи, сплюнул на ладони и пошел стругать так, что скоро весь наполнился хмельным, веселым духом сосновой смолки, а босые дедовы ноги погрузли в ворохах стружки.
Позевывая и почесываясь, вошла Груня, разрумянившаяся после сладкого утреннего сна, толстая коса на голове в корону уложена. Посмотрела на мужа, прикрикнуть хотела, чего, мол, ни свет ни заря черти подняли, да залюбовалась: красив дед в работе, ух, как красив! Серебряные кудри врассыпную, в разлете мохнатых бровей – напряжение, а у самого разбровья, слепив волоски, перекатываются две крупные капли пота, а в каплях – солнце. Полюбовалась Груня, сказала уже кротко, ласково:
– И чего это ты, Тарас, строить надумал?
– Домовину вот себе приготовлю, смерть моя скоро, – сказал глухим голосом, не отрываясь от работы.
– Да ты что, аль не в себе, аль белены поел вчерась в леваде?
– Чую смерть, Груня, прощаться нам с тобой скоро, недолго потешила ты мою старость одинокую.
Груня попятилась, плаксиво сморщилась, зашмыгала по-детски носом, захныкала жалобно:
– Тарасушка, господь с тобой, что это ты надумал живым себя хоронить? Ядреный ты вон какой, тебе еще жить да жить, а душой-то и совсем молод, а ли я пошла бы за старика, сам подумай?
– Вытекла жизнь моя, Груня, как лунный свет из ушата, и буду я в путь собираться, к Наталушке. Отцвели, слышь, кукушкины слезы, отцвели, Грунюшка, и завяли...
– К Наталушке? – Груня смахнула передником слезы, уперла в бока сильные красивые руки, грозно свела черные брови. – Ах, так ты к Наталушке? Ее свел своими причудами раньше времени в могилу, теперь до меня добираешься, меня хочешь уморить, тихоня? Правду говорят люди добрые, что в тихом болоте черти живут. Брось стругать, брось, я тебе сказала! Попалю! Все до единой щепки попалю! Я тебе дам домовину, я тебе покажу лунный свет, я тебе покажу кукушкины слезы! Умирать собрался... ха-ха-ха... смерть он свою чует, я тебе дам смерть, бугай круторогий, в ярмо тебя впрячь надо да землю пахать заставить!
Сильным и сочным, срывающимся от волнения голосом Груня выкрикивала незлые угрозы и не заметила, как сзади, весело размахивая халатом, подкралась Фрося, напарница и подруга Груни.
– Чего это ни свет ни заря не поделили? Чего, Груня, раскричалась? Пойдем, на ферме на телят докричишь.
И, тормоша и обнимая Груню, спохватилась:
– Доброе вам утречко. Идем, идем, Груня, уже не рано, а пока до табора дотопаем, то солнце припекать потылицу начнет.
Груня улыбнулась совсем умиротворенно, и по лицу ее скользнула грустная тень.
– На телят, Фрося, столь зла не скопишь, сколь скопилось на упрямца этого. – Груня обняла щупленькую Фросю за талию и, погрозив в спину продолжающему стругать Тарасу кулаком, пошла со двора. – Фросенька, умирать старый-то мой собрался, домовину себе ладит.
– Да ну? – искренне удивилась Фрося. – Так-таки и домовину?
– Домовину, Фросенька, и какая его муха укусила – ума не приложу. Был дед как дед, а тут сбесился.
– Стар он уже, Груня, вот и готовится к смерти, помоложе бы ты выбирала...
– Помоложе, помоложе, мово-то молодого, Фрося, война-разлучница с миной повенчала, так я его сердечного, с той поры ни разу в глаза и не видывала, во сне только и обнимал меня жаркими руками; вот старика и поженила на себе, силком поженила и не жалковала, да и теперь не жалкую. Он старик, старик, а утешник, горюшко мое бабье нет-нет да и развеет и утешит, утешит. Ядреный он еще, Фрося. Мужик как мужик, все на месте, иной и молодой-то навряд с ним сравнится. И чего он помирать собрался? Может, опять заманить в табор, под вербы ночкой лунною? А, Фросенька?
Груня весело захохотала. В памяти промелькнула та чудная ночь: плакучая ива расплетала и мыла длинные рыжие косы в размечтавшейся Ольханке, посередке реки месяц купался, дурашливо разбрызгивая золотые искры капель, на западе погромыхивало – гроза надвигалась. Свежее сено щедро расточало горько-медовые запахи. А кулик в котлявинке плакал, плакал. Потом отпахли тмином и сморенным смородиновым листом сентябрьские сумерки и торопливо отцвел по яругам жар-вереск, веселые подходили ужинки. Тогда-то и пришла в хату к деду Тарасу Груня и сказала коротко: «Вот что, дед Тарас, хорошо было в лунную ночку под вербами любиться-миловаться, красоту бабью пить полной чашей, теперь рассчитывайся, жить у тебя стану, женой твоей хочу быть, так-то...» И начала хозяйничать в просторной дедовой хате. А когда стылыми осенними туманами потянуло от Ольханки и первые зазимки начали по ночам сковывать притихшую землю, поняла Груня: быть и ей, вечной вдовушке, матерью – и засветилась теплой радостью. Дед Тарас оказался мужиком, да еще каким...
Женщины шли молча. Тропинка, то обтекая густые заросли речного ивняка и верболоза, то весело скатываясь в лощинки, тянулась по травянистому берегу полноводной, местами выплеснувшейся из берегов Ольханки.
– Ой, Фросенька, а мне невесело чегой-то, помрет дед-то мой, а я вот-вот матерью стану, кто нянчить малыша будет, а? Годится дед мой в няньки, Фросюшка? – Груня невесело засмеялась, плеснув по сторонам черными цыганскими очами. – Погоди, Фросюшка, я ему, кобелю старому, двойню скоро припру, враз отямится, некогда будет, баюкаючи, о смерти помышлять и домовину себе ладить.
Теперь хохотали вместе.
– Подари, Груня, подари ему двойню. А ребеночки-то родными будут деду али от кума? – лукаво усмехаясь, посмотрела Фрося в горячие подружкины глаза.
– Ты что? – вспыхнула Груня. – Я – мужняя жена.
– Ну, ну, смотри...
Там, где своенравная Ольханка, делая крутой изгиб, обтекает широкий мыс, ярко сверкнул бидонами и белыми халатами доярок летний табор. Оттуда доносилось протяжное коровье мычанье, сдобренное сочными голосами перекликающихся доярок. У таборных ворот стоял «газик».
– Никак Оксана Лазаревна в таборе уже?
– Кому же и быть, как не ей. Ни свет ни заря носится то по полям, то по фермам. Вот и расскажу ей про дедовы причуды. Женщина она умная, посоветует, – обрадовалась Груня, – поможет совладать со старым чудотворцем.
Оксана Лазаревна, или Головиха, как все звали ее в селе, стояла в кольце молодых доярок и что-то доказывала им, убедительно жестикулируя полными оголенными выше локтя руками. Заметив Груню и Фросю, она вышла из плотного круга им навстречу.
– А ты все округляешься, Груня, – любовно оглядывая фигуру школьной подруги, встретила доярок Оксана Лазаревна, – позычила б малость Фросе полноты, ей не повредило бы, правда, Фрося?
– Дело это женское, Оксана Лазаревна, чтобы справной быть в деле – баба должна быть в теле, – скороговоркой ответила Груня и захохотала. – На сносях я, Оксана Лазаревна, матерью скоро стану, молодой матерью, как в консультациях кличут. – И уже серьезно, озабоченно добавила: – Поговорить надо мне с тобой, Оксаночка, с глазу на глаз.
– Ну, девчата, по местам, да смотрите ж не сплошайте. Что там у тебя стряслось, выкладывай, Груня?
Тихо плескалась о берег теплой волной Ольханка, заливался над головой в безбрежной синеве неба жаворонок, где-то в прибрежных камышовых зарослях монотонно и въедливо кричал удод, а Груня, краснея и волнуясь, рассказывала про странные причуды Тараса.
– Гроб, говоришь, изладил?
– Ага.
– А говорит-то что?
– Постой, чудно как-то: «Отцвели, – говорит, – кукушечкины слезы», – или еще сказал: «лунный свет из ушата весь вытек...»
– Так и сказал?
– Точнюсенько так: лунный свет вытек.
– Лунный свет вытек... – Оксана Лазаревна задумалась: – Лунный свет весь вытек... Странно. А глаза у него какие, светлые, ясные?
– Вроде ясные.
– Да, странно, «кукушкины слезы отцвели», «лунный свет», гроб сделал. Странно, странно. Что-то тут, Груня, нечисто. От безделья и скуки, думается мне, дедова хвороба. Очень неправильно мы делаем, что таких, как Тарас, на пенсию выталкиваем, ведь здоровый и сильный он еще, ему бы пахать да пахать в колхозе. А мастер-то какой! Нет ему в колхозе, да что в колхозе, в районе нет равных. Золотые руки. Мудрая голова. Поискать таких. А выбросили – и вот они кукушкины слезы, лунный свет и прочая чепуха. От скуки, Груня, это, от тоски и безделья. Иди, работай, а я буду сегодня у вас. А насчет беременности правда? Аль пошутковала?
– Правда, Оксаночка.
– От него?
– А от кого же больше, Оксаночка, ты ведь знаешь меня...
– Ну извини, извини. Все наладится, не волнуйся, тебе теперь вредно волноваться, будущая мамаша.
А дед Тарас тем временем усердно стругал, пилил, стучал молотком. Изрядно упрев и выкурив пачку «Севера», к полудню смастерил он отменный гроб. Отошел в сторону, полюбовался:
– Ладная домовина.
Старательно вытер пыльные сапоги о спорыш, оглядел себя придирчиво, еще раз отряхнулся.
– Не куда-нибудь, в домовину ложусь...
Полез в гроб, лег, руки сложил на груди, носки ног вытянул. Полежал смирно, посмотрел в безоблачное, давно рассинившееся небо, поерзал.
– Аккурат по мне, – прошептал довольно. – Дед Наум и не смастерил бы для меня такой уютной домовины.
Вылез. Прибил на четверть гвоздями крышку. Походил вокруг, почесал затылок. Легко взмахнул гроб на плечо и потащил по лестнице под потолок сарая, туда, где лежали доски.
– Ну вот и ладно, – сказал сам себе и опять поймал себя на мысли, что совсем не думается ему о смерти, словно не гроб себе сделал, а челн для прогулок по Ольханке. Пробурчал в усы озадаченно:
– Чего это так: ночью, при луне, одна дума – помирать скоро, жизнь прожита и вытекают из тебя ее последние капли, а днем и думать о том не хочется, жизни радуешься. Или то свет солнечный гонит, черные мысли? Или поработал всласть? Дивно...
Размышляя так, дед Тарас не заметил, как у калитки тормознул председательский «газик». Недоуменно пожал плечами, однако пошел к калитке навстречу незваной гостье.
– Добрый день, Тарас Романович! – Оксана Лазаревна, махнув Саньке-шоферу, чтобы ехал обедать, не ждал, решительно направилась в сторону деда Тараса. «Что она забыла у нас?» – подумал удивленный Тарас, но вслух сказал:
– Кому, может, и добрый, а нашему брату не шибко. А вы, грешным делом, двором не ошиблись, Оксана Лазаревна?
– Не ошиблась, Тарас Романович, к вам мой путь с утра лежал. Дело важное есть.
– Хоть и недосуг мне, а куда денешься, слушаю.
– Сватать приехала я вас, Тарас Романович, ох, как до зарезу нужны колхозу ваши руки. Не пошли бы вы, не поработали бы малость какую на строительстве? Комбинат бытового обслуживания собственными силами строим, а рук умелых, сами знаете, в обрез: дед Наум, братья Шпаки, да и то – какие из них мастера? Одно названье, что столяры, а нам надо рамы оконные сделать, двери. Как здоровье-то?
– Стариковское здоровье, оно, как жинка клятая: тут тебя ласкает, тут тебя макогоном потянет по потылице, аж искры из очей брызнут.
– Отдых не надоел, не гнетет безделье?
– Безделье – шибко вредная штука, от него всякая хвороба и цепляется. Ведь что, Оксана Лазаревна, человек без дела? Ничто. Пустое место. Нуль, значит. У всякого человека должна быть работа какая ни есть. Без работы пропал человек, етово-тово.
Оксана Лазаревна улыбнулась: верную струнку тронула, ох, как знает она деда Тараса.
– Возьмите железо, топор, лемех какой или шкворень. Пока в деле – блестит, солнышко отражает, выбросили за ненадобностью – ржа враз источит, пропало железо. Так и человек.
– Верно, верно, Тарас Романович, не может человек без работы, пропал человек без работы. Вот и добре, договорились, значит, жду завтра на наряд в конторе. А за оплату не беспокойтесь, все будет в лучшем виде.
– Пороблю, пороблю, пока силенки не покинули. Отчего ж не поробить, ежели надо, тово-етово.
– Бывайте здоровеньки, Груне, подружке моей, поклон низкий.
– До свидания, до свидания, а машину-то отпустили.
– Пройдусь пешочком, мне это невредно.
И зашагала середкой улицы легкой упругой походкой, высокая, статная.
– Вот те и на, не забыли, помнят Тараса, пришли поклониться старому Тарасу, – забыв про домовину, весело нашептывал в усы дед, размашисто меряя из угла в угол просторный двор. Косу поднял, бережно повесил на место, ушат отнес, стружки собрал, с метелкой прошелся. – На наряд так на наряд, дело это для нас привычное.
Вечером того дня Груня пришла с фермы чуть позднее обычного. Начала было рассказывать про свои дела, дед Тарас перебил:
– Гостья была. В ножки кланялась, просила поработать, рамы, двери для быткомбината сделать. Мастеров-то, сама знаешь...
– Оксана Лазаревна?
– Она.
– Что ж, пойди поработай, все какая копейка лишняя в дому появится, на соски, на пеленки сгодится.
– Какие такие пеленки еще? – Тарас вскинул пушистые брови, посмотрел на Груню пристально и выжидающе, не смея верить услышанному.
– Матерью буду я, Тарасушка, скоро. Не беспокоила тебя, не говорила, а теперь скажу: в середине лета и в роддом пора мне. Посчитай, сколь времени утекло от той лунной ночки в предосенье? То-то же, пора, аль не помечаешь ничего?
– Грунюшка, утешенье ты мое, радость ты моя последняя, все помечал, тешил себя надеждой, да, думаю, нет, ошибся, а оно и взаправду счастье подвалило на склоне дней. Ах ты, радость-то какая, етово-тово! Парня! Слышь, Груня, только парня! До гроба на руках косить буду, ноги буду мыть и воду пять. Сыночка, мечту всей моей жизни, продолжателя рода моего. Песни буду петь ему солдатские, гвардейские, делу столярному учить стану. Ух, и заживем мы с парнем! А назовем-то как, Грунюшка, героя своего? Павлом назовем. Был у меня друг фронтовой Павел, душа человек.
Весь вечер крутился Тарас около Груни, ласкал ее нежным, совсем не стариковским взглядом. И весь вечер вздрагивали его седые мохнатые брови.
– А как же домовина-то, Тарас Романович? – как бы между прочим сонным голосом спросила Груня, лежа в постели.
– А домовина что? Домовина завсегда сгодится. Мало ли на селе дряблых стариков, помрет какой – домовину Тарасу делать, кому ж еще, а она – вот она, получайте, на совесть сделанная, как для себя, – последние слова Тарас произнес дрогнувшим голосом. – Ну спи, спи, тебе же вставать рано.
И замолчал, сделал вид, что уснул. Но сон не приходил. Уже гасла душная, расцвеченная дальними зарницами короткая летняя ночь, а дед все ворочался, все вздыхал, Вовсе запутались тягучие дедовы мысли, и не мог он дать им никакого ладу: вроде бы все начиналось сызнова и вроде всему приходил конец. «Ишь ты, етово-того, – ворочал мысли дед, – какой крутой извил жизнь-то сделала, а не поздновато ли? Где ране-то была судьба-путалка? Семь десятков, етово-тово, стукнуло. Сколь он еще протянет. Кабы еще десятка два, етово-тово...»
В колхозный родильный дом Груню увезли через три недели, в самый разгар жнив. Увезли прямо от коров, из летнего табора, на молоковозе. Фрося бережно усадила обессиленно ойкающую подругу в кабину, села рядом, обняла Груню, коротко приказала побледневшему шоферу:
– Гони, Митяй, с ветерком, но не тряско.
В предвечерье в небе над Новоселицей разразилась гроза. В мастерской, где работал дед Тарас, потемнело. Он бросил стругать, подошел к окну, закурил. Гроза разрешилась щедрым ливнем. На душе у Тараса стало светло и торжественно. Не успели упасть на землю последние крупные капли дождя, как в мастерскую вбежала намокшая, распаленная бегом Фрося. Остановилась в дверях, вглядываясь в полумрак.
– Тарас Романович, а, Тарас Романович!
– Тут я, или ослепла.
– Ой, и не разглядела в темноте.
– Вроде не мал, чтобы не приметить.
– А с вас, Романович, причитается. – В лукавых Фросиных глазах запрыгали золотые искорки. – Бегите за шампанским и шоколадными конфетами, только бегом,
– Грунюшка разрешилась?
– Быстрый какой!
– Чего мелешься, говори толком, что стряслось?
– Ага, Груняшка, поздравляю с сыночками.
– Как с сыночками? Двойня?
– Ага, двойня.
– И оба парни?
– Оба, Тарас Романович.
Лицо деда Тараса осветилось радостью, мохнатые брови запрыгали, руки торопливо и бессмысленно зашарили по верстаку, перебрасывая с места на место инструменты.
– Гляди-ко, етово-тово, двойня, парни. Ты, слышь, побудь тут, а я мигом, шампанское-то...
– Да нет, я пошутила.
– Ты что, коза, изгаляешься над старым человеком? Что пошутила? Говори! С двойней пошутила?
– Да нет, с шампанским пошутила, не время ей еще шампанское-то распивать.
– И то не время, Фрося, етово-тово, успеется.
– Ох, и намаялась я, Романович, не успели выехать из табора, как она заметалась, бедная, за корчилась. «Сворачивай, – говорит, – в лесосмугу, али не видишь, што со мною деется?» – «Вижу, – говорю, – все вижу, да что я буду делать-то с тобой в лесосмуге?» – «Сворачивай! – кричит и Митяя кулаком по плечу лупит. – Сворачивай, говорю!» А я Митяю перепуганному киваю: гони, мог., не слушай ее. Матенька моя ридна, еле-еле доперла, думала, что сама рожать стану с перепугу. Привезла я ее, сдала с рук на руки врачу, сидела с полчаса на скамеечке под грушей, ждала, что же оно дальше будет, а тут еще гроза эта, ливень. Ой, страхи господни! А потом вышло ко мне Оля-акушерка и улыбается: «Можешь, Фрося, поздравить Тараса Романовича с сынками, два, да крупные какие, молодец молодой папаша».
– Так и сказала?
– Так и сказала, Тарас Романович.
– Это дело, етово-тово. Ну, ты иди, пообсохни малость, а то словно не Груня, а ты опросталась. Ступай, ступай, а шампанское – опосля, с Груней вместе.
– Вишь ты, как все получается, – размышлял вслух дед Тарас, складывая в ящик инструменты. За долгие годы одинокой жизни он приучился разговаривать с Цыганком и с самим собой вслух. – Тогда в предосенье, кочкой той лунной, здаля погромыхивало, а ноне гроза над головой громовень просыпала, добрая, щедрая, быть добру.
Домой шагал шагасто, через лужи перепрыгивал, улыбался в бороду. «Теперь забот – хоть отбавляй, папаша». Забежал наскоро в сельмаг, посмотрел на коляски. Добрые. Да что коляски, баловство одно. Зыбки надо. Две зыбки изладю. Прадеда моего в зыбке урезонивали, деда, отца, мне матушка-покойница в зыбке песенки певала, и сынам моим в зыбке колыхаться, а коляски куплю, то само собой, то для прогулок. Вот сейчас и сделаю первым делом зыбки. Справа от кровати – зыбка, на кольце, на пружине, слева – зыбка. Левой рукой одну качаешь, правой – другую, а песня – на двоих одна. От такого решения пришел Тарас в восторг и зашагал еще быстрее.
– Вот обрадуется Груня, – прошептал в усы, ухмыляясь. – Принесу домой ребят, а в спальне две новые зыбки, клади малышей, баюкай, етово-тово.
Давнее правило у Тараса: задумано – сделано. Кинулся за досками в сарай, ахнул:
– Доски-то, бабушке твоей лихоманка, все на домовину стратил, для смерти, значит, употребил, а для жизни не осталось. Задача. Все годы, сколь себя помню, на жизнь работал, а тут на тебе...
Долго чесал потылицу дед Тарас, а таки полез под потолок, гроб вытянул, поставил на попа.
– Кха, и что ж его делать, етово-тово? Ломать? Жалко. Уж больно искусно сделана домовина, душа вложена. А придется ломать – досок-то больше нету, а идти на поклон к Оксане Лазаревне – душа противится. Поломаю. А когда помру, то какую ни есть сделают домовину, так не зароют.
Оглядел еще раз домовину, вздохнул, взял в руки молоток и ловко превратил ее опять в доски; и опять закипела у деда работа, где подпилит, где подстругает; и не прошло и часа, как две люльки были готовы. Просверлил дырки для дужек, покрасил светлым лаком, поставил на самом пригреве – пусть сохнут.
Вечер уже позевывал, стелил по косогору тени, вытягивал их бережно, когда Тарас, одетый в новый выходной костюм, спустился вниз по буераку к дремотному ручейку в леваде, на то самое место, где косил он три недели назад на восходе солнца молодую сочную травку. Нарвал васильков бледно-голубых, молочных колокольчиков, панычей крученых, маков пылающих охапку целую, сдобрил запашной букет лугового разнотравья кукушкиными слезами, праздничный костюм отряхнул бережно и зашагал вдоль по улице в центр села, к родильному дому. Идет дед Тарас прямой, светлый, под мышкой сверточек, борода расчесана, в бороде усмешечка прячется. Видит – натолп у чайной, все на него смотрят, улыбаются. Слышит краем уха:
– Гляньте, гляньте, молодой папаша идет, в родильный дом, стало быть, путь держит Етово-тово.
– Двойню, балакают, Грунька-то приперла.
– И оба парни.
– Вот это – по-нашенски.
– Мастер молодожен, ничего не скажешь...
– Утер кой-кому нос-то Етово-тово.
– А цветов, глянь сколько, весь луг скосил.
– Га-га-га...
Слышит Тарас зубоскалов, каждое слово настороженным ухом улавливает, не сердится, улыбается счастливо. «Пусть языки почешут, поржут, потому как это им – внове».
Груня вышла не скоро. Была она какая-то незнакомая, не домашняя. Рябенький, в мелкий цветочек платок висел на ней как-то сиротливо, еще резче оттенял непривычную бледность лица и медленную счастливую поволоку глаз.
– Ребят кормила, Тарас Романович, – сказала тихо, целомудренно запахивая на груди тесноватый халатик, – жаднющие парни-то у тебя, никак не насытятся.
– Спасибо, Грунюшка, осчастливила на старости лет. Возьми вот одеяльца, пеленочки и там кое-что.
– Пеленочки сгодятся, а кое-что не надо, тут все есть, Тарасушка. А цветов-то сколько! Весь луг, небось, скосил. Спасибо. Лугом в палате запахнет, незабудки, колокольчики, маки, а это, Тарасушка, что за травка в букете?
– То, Груня, кукушкины слезы.
– А, и то правда, на слезы похожи.
Груня прижала к груди источающий запахи лета букет, сказала тепло, тихо:
– Ну ты иди, Тарас Романович, да не мори там себя голодом, ешь больше, а я скоро, ден через пять и выпишут.
– Посмотреть бы на мужиков-то, Груня.
– Спят они сейчас, Тарас Романович, да еще и успеешь, насмотришься.
– И то правда.
Придя в палату, Груня попросила няню принести банку с водой, бережно перебрала цветы, отложила в сторону кукушкины слезы, решив, что дед впопыхах вместе с цветами прихватил и травку эту неказистую, поставила яркоцветный букет на тумбочку и то и дело склонялась к нему, нюхала, а кукушкины слезы смяла и выбросила в раскрытое окно. И откуда было знать Груне, какой тайный смысл имели в этом запоздалом букете кукушкины слезы – цветы горестные и нежные.
...И опять, как и в прежние сиротские годы своего одиночества, сидел Тарас на завалинке, на самом пригреве, мудро посматривал на небо, покачивал слегка коляски, агукал и счастливо улыбался. И уже не выжидал редких прохожих и не заговаривал первым, как прежде, с ними. Теперь уже проходящий мимо сосед Федот сам останавливался у плетня, с минуту смотрел на деда Тараса, на его новые никелированные коляски.
– Доброе утречко, Тарас Романович. Деток колышем?
– А колышем.
– Мать-то на ферме?
– А на ферме, где ж ей больше быть?
– Ведро, слышь, установилось, Тарас Романович.
– А установилось.
– Да, вроде ведро установилось. А как думаете, надолго?
– Думаю, етово-тово, что надолго. Ну, ты ступай в бригаду, время горячее.
И загадочно и мудро ухмылялся в сивые усы.








