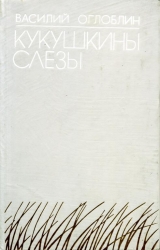
Текст книги "Кукушкины слезы"
Автор книги: Василий Оглоблин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Лейтенант Сергей Бакукин лежал в мягкой редакторской постели с открытыми глазами, без раздражения прислушиваясь к шуму внизу, а когда шум утихал, слышно было, как под окнами ходит, похрустывая гравием, часовой да монотонно убаюкивающе тикают большие стенные часы в зале. Но сон не приходил...
...Их было двенадцать гефтлингов[8] 8
Гефтлинг (нем.) – заключенный концлагеря.
[Закрыть]: десять немцев, чех Влацек, и он, русский Сергей Бакукин, которого все в команде звали ласково и уважительно Иван с ударением на «и». Жили они на окраине сортировочной станции Дортмунд-Эвинг в обгоревшем железном вагоне под охраной шести эсэсовцев и числились за концлагерем Бухенвальд. Ежедневно с утра до вечера они были заняты тем, что ходили по развалинам огромного Дортмунда, откапывали и извлекали из ям невзорвавшиеся авиабомбы. Жили они куда спокойнее, чем в концлагере: ни аппеля, ни карцера, ни крематория. Даже это жутковатое слово звучало для них не так мрачно: споткнешься о смерть – все равно в крематории сжигать будет нечего.
Так и жили. Ежедневная игра в кошки-мышки со смертью поубавила спеси и у охранников, ведь смерть – она уравнивает всех. Охранники к ним относились почти по-человечески, разве только однорукий верзила Отто попробует на чьем-нибудь затылке прочность своего нового желтого протеза – так это уже мелочи.
В то утро их подняли рано. Город всю ночь бомбили американские «воздушные крепости», и работы заключенным предстояло много. После голодного арестантского завтрака все молча строились и экономным шагом, ритмично выстукивая деревянными колодками, уходили в город.
Прокопченный, мрачный, он в это светлое утро дымился и стонал. Бледное, отороченное по сторонам хилыми пушистыми облачками небо казалось больным и перепуганным; узкие улочки были сплошь завалены рухнувшими громадами домов. На уцелевших участках бульвара зеленые пучки травы были влажными от обильной росы и глянцевито лоснились, словно земля плакала. Шагающий рядом однорукий Отто мрачнел, на желтых скулах тяжело перекатывались тугие желваки.
В конце Кайзерплац, на месте чугунного памятника кайзеру, чернел вздыбленный обгоревший вагон трамвая. Уцелевшее колесо все еще крутилось высоко в воздухе, жалобно поскрипывая. По окружности площади, словно свечи в изголовье у покойника, горели платаны. Обильные потоки солнечного света тщетно пытались развеселить изуродованный город – он шипел и дымился, как брошенная в воду головня. После ночного грохота и произвола огня шелковисто-теплые солнечные нити и окутавшая город тишина казались неестественными и лишними. Да и была это не тишина, а кладбищенское безмолвие, роковое и жуткое. И аляповатое изображение хмурого, настороженного типа с прижатым к губам указательным пальцем, призывающего с обломка стены к бдительности и молчанию, вызывало ядовитую усмешку даже на губах мрачного Отто.
Миновав Кайзерплац, заключенные вышли на тихую, уютную Гартенштрассе. Отто впервые за все это утро кисло улыбнулся. В распадке между двух конусообразных нагромождений битого камня и скрученной в спираль арматуры целехонек и невредим стоял грязно-серый двухэтажный особнячок с приземистыми колоннами и парадным входом – веселое заведение фрау Пругель. За особнячком, тоже цел и невредим, простирался большой зеленый сад, огороженный металлической решеткой. В саду, прогибая ветви, висели крупные алобокие яблоки.
– Юбками, что ли, укрываются суки от бомб? – зло выругался Отто. – Притон-то, как цветущий оазис в мертвой пустыне, ни одной царапинки...
Над колоннами, в окне второго этажа, закинув нога на ногу, на подоконнике сидела Крошка Дитте. Пышные пепельно-русые волосы были рассыпаны по голым плечам, сдобная грудь полуоголена, полы цветного японского халатика полураспахнуты и глубоко оголяют красивые ноги. Бакукин каждое утро видит ее сидящей на подоконнике, словно она специально поджидает «рябчиков» (так зовут заключенных, одетых в полосатую форму). И каждое утро она заговаривает первая.
– Эй, однорукая обезьяна, – картинно дымя сигаретой, обращается Крошка Дитте к Отто, – и куда ты каждое утро тащишь этих милых ребят?
– Заткнись, сука! – зло огрызается Отто и грозит автоматом. – Всыплю в откормленный зад.
– Оставь мне на часок «рябчика», ну хоть вон того, беленького, я б его приласкала, бедняжку...
– Я вот приласкаю, – наставляет Отто автомат.
– Ха-ха-ха... чем испугал. Уж не убьешь ли ты меня? Осел, я ведь деньги стою, и немалые. Где они у тебя? А смерти я не боюсь. Я давно умерла...
Изумрудно-золотистые глаза Дитте влажно отсвечивают блеском молодого каштана, на тонких подкрашенных губах блуждает презрительная улыбка.
– Дурак, подарил бы «рябчика», коньячком угостила бы, ты же его и в глаза не видишь, и какой у него запах приятный – не знаешь...
Все тянутся глазами к ней и невольно замедляют шаг. Есть в Крошке Дитте что-то страстное, нежное, давно забытое. Она показывает красивые белые зубы и хохочет:
– Подари беленького, обезьяна однолапая...
– Заткнись, говорю, а не то...
– Не пугай! Крошка Дитте всю ночь просидела на подоконнике, страхом вашим наслаждалась. То ты бойся, смерть-то ищет тебя и найдет, найдет.
Все с радостью слушают Крошку Дитте. Это замечает Отто, злится еще сильнее. Он начинает энергично размахивать желтым протезом, тычет стволом автомата в бока, кричит, разбрызгивая слюну:
– Марш, марш! Уснули?
Все ускоряют шаг, и особнячок фрау Пругель с сидящей в окне пышнокудрой Дитте скрывается за поворотом. Но в ушах еще долго звенит ее насмешливый голос, и Бакукин думает о ней; кто она такая, бесстыдная и дерзкая?
– Сущая ведьма, – сплевывает Кригер, показывая гнилые зубы. – А девка видная.
– Красивая тварь, – бурчит Отто.
Удушливо пахнуло дымом, горячо обдало огнем, дорогу преградили пожарные машины и кареты скорой помощи. Слева и справа в кромешном аду пылающих развалин молча и остервенело работали пожарные и спасательные команды. Какие-то юркие человечки вытаскивали из развалин обгоревшие трупы, складывали их рядком и снова ныряли в огонь и дым. Трупов было много. Израненный город стонал.
«Пока вы еще ведете счет жертвам, – подумал про себя Бакукин, – скоро не сможете сделать и этого, для вас война только начинается...»
Его размышления прервала команда Кригера:
– Стой! Садись!
Все сели около оставленного саперами знака опасной зоны. Совсем рядом вокруг огромной воронки сидели и ходили погорельцы. Они с первобытным ужасом посматривали на дно ямы, где с шипением и свистом прорывалась грунтовая вода, постепенно заполняя воронку. Вокруг ямы возвышались хаотические нагромождения щебня, обгоревших балок, обломков мебели и утвари. Бакукин понимал отчаяние этих людей: тут, на дне воронки, были похоронены их уютные спальни, их сверкающие кафелем кухни, натертые до зеркального блеска полы столовых, их прошлое, настоящее и будущее. Все, все тут, в этой жуткой яме, наполняемой мутно-рыжей пенящейся водой. За одну ночь они потеряли то, чем жили, что накапливали и созидали годами, из поколения в поколение, – все в яме. А они по какому-то странному недоразумению уцелели, и вот сидят и ходят, как тени. Смертельная тоска до краев заплеснула их онемевшие души, ледяным ужасом переполнила глаза.
Бакукин вспомнил испепеленные, стертые с лица земли белорусские, смоленские хуторки и деревни того страшного незабываемого сорок первого года и подумал: вот оно, возмездие...
По скользкому краю воронки заметалась женщина. Светло-желтые волосы рассыпались по плечам и плоской груди. Она то в недоумении разводит руками, то наклоняется и шарит в щебне и пепле.
И вдруг ее безумные глаза останавливаются на Бакукине. Колючий стеклянный взгляд пронизывает его насквозь. Не успел он и глазом моргнуть, как она кинулась на него, цепкие длинные пальцы стиснули горло, искаженный злобой рот приблизился к лицу, и Сергей почувствовал на нем хлопья холодной липкой пены.
– Где мои крошки? Где? Где? Где?
Задыхаясь, он двумя кулаками с силой толкнул ее.
Пальцы на горле разжались. Женщина с визгом упала. Сильный удар тряхнул Бакукина, воронка поплыла в небо, перевернулась и накрыла тяжелой пустотой. Очнувшись, он увидел перед глазами бледное лицо Влацека. Его тихий шепот окончательно привел Бакукина в чувство:
– Зачем ты так? Забьют теперь, замучают...
Голова была свинцовой. Острая боль пронизывала череп. Видимо, Отто пробовал на этот раз не прочность своего нового протеза, а прочность приклада.
– Руссише швайне! – ругался Отто. – Ударить немецкую женщину! Это тебе не пройдет...
Женщина с минуту лежала неподвижно, потом снова сорвалась, дико завыла, судорожно загребая руками известковую пыль. Все бросались к ней. Измученную, обессилевшую, ее подняли с земли, с трудом влили в рот воды, стерли с лица сажу и пыль. Мало-помалу она успокоилась и притихла, только время от времени бросала на Бакукина взгляды. Лейтенанта трясла дрожь. Ему тоже хотелось кричать от боли и обиды за этих людей, от острой жалости к ним, так жестоко обманутым и наказанным. Ему хотелось подойти к этой раздавленной горем женщине, сказать ей что-то доброе, погладить ее свалявшиеся волосы, чем-то утешить ее в страшной беде. Но он не мог этого сделать, как другие, как все окружающие, – он был для них чужой, он был врагом.
– Я, гут, арбайтен![9] 9
Я, гут, арбайтен! (нем.) – Да, хорошо, работайте!
[Закрыть] – приказал Кригер. – А зи аллес вег, аллес шнеллер![10] 10
А зи аллес вег, аллес шнеллер! (нем.) – А вы все долой, все быстро!
[Закрыть]
Люди молча поднялись и побрели, загребая негнувшимися ногами известковую пыль. Двенадцать смертников-заключенных начали вгрызаться лопатами в крошкую и твердую глину. Скоро показался хвост бомбы, измятый ударом. Эсэсовцы нырнули в щель. Копать всем было тесно, и команда разделилась на две партии: шестеро копало, шестеро сидели наверху. Бомба была тучной. Сытые бока ее тускло и зловеще отсвечивали.
– Туша увесистая, – очищая на боках прилипшую глину, погладил бомбу Карл, – много смертей притаилось. Отто, взгляните на игрушку, гладкая.
– Давай, давай, копайте, – огрызнулся Отто, бледнея.
– Это я для отвода глаз, – заговорил Карл тихо. – Вот что, товарищи. Иван должен бежать и немедленно. Более удачного случая до вечера может и не быть. В вагон ему возвращаться нельзя, сами понимаете, прикончат ночью. Слышали, как грозил Отто?
Все переглянулись. Бакукин ждал, что же скажут товарищи.
– Что молчите? Отдадим товарища на пытки, на смерть? Отвечать, конечно, доведется. Мне – первому. Я – старший. Возьму все на себя. Скажу, не усмотрел, наказывайте. Я уже пожил на земле, а Иван молодой. Подставлю под петлю свою шею.
– Всех сгоряча постреляют, когда обнаружат...
– Не постреляют – кто бомбы откапывать будет? Да и отвечать им за нас перед комендантом. А они – трусы. Ну?
Все угрюмо кивнули.
– Теперь слушай ты, Иван. Как будем меняться, мы тебя загородим спинами. В воронке быстро перелезай на другую сторону и – в развалины. Развалинами уходи дальше, где подвалами, где канализацией, смотри там сам, тебе будет виднее. Не отдыхай. Уходи дальше. Путай следы. По воде пройди где-нибудь. Одежду смени как можно быстрее, вплоть до того, что... ну, сам понимаешь. В этой, полосатой, ты мишень. Стрелять будет кому по мишени. Готовься!
Бакукин обвел товарищей глазами. В горле застрял сухой комок. Карл уже командовал громко, так, чтобы слышали эсэсовцы:
– Смена! Вылезайте! Осторожно, подальше от нее, матушки!
Шесть человек присели на корточки, готовясь прыгать в яму, из которой один за другим вылезали испачканные глиной товарищи, вылезали медленно, кряхтя и откашливаясь. Бакукин в это время уже переполз воронку и скрылся в хаотическом нагромождении битого кирпича, балок, лестниц, стропил и черт знает чего. Над головой медленно плыли зыбкие облака, и солнце щедро поливало землю ласковым теплом, и какая-то глупая пичуга захлебывалась от восторга на обгорелой ветке.
Над развалинами покоилась мертвая тишина. Время от времени по гребням пробегал жидкий ветерок. Удушливо пахло приторно-сладким, тошнотворным трупным запахом. Тщетно искал он какую-нибудь щель или яму, или лазейку внутрь развалин. Так шел он долго, тревожно посматривая на солнце, распластавшись ящерицей, карабкался на вершины, сползал и скатывался вниз, поднимая тучи пепла, блудил распадками. Над ним неподвижно висело все то же жидкое, бесцветное небо, бледное от зноя, который палил все нестерпимей.
Временами Бакукину казалось, что не будет ни конца, ни края этим развалинам, жарище, удушливой пыли и преследующему повсюду запаху смерти. С большим трудом взобравшись на высокий холм, бывший недавно, по-видимому, домом, он увидел внизу, совсем близко, большой ансамбль целых домов, неизуродованный бульвар с правильными рядами платанов, застывший посредине улицы трамвай, еще дальше копошились темные фигурки людей, и услышал первые живые звуки.
Идти туда было опасно. Он свернул влево, снова наткнулся на уцелевший квартал и свернул вправо, потом совсем запутался и шел наугад.
Вспомнилась Сергею Бакукину вычитанная когда-то давно и застрявшая в памяти, как занозинка, мысль о том, что ничего и никогда не было для человека невыносимее, чем абсолютная свобода. Он кисло улыбнулся этой мысли: «Нет, не прав философ, лучше час пожить на свободе, умереть свободным, чем влачить ярмо раба. Даже самая страшная свобода – быть одному, в неизвестности, на грани гибели – лучше любой неволи...» Эти мысли приободрили Сергея, он глотнул тягучую голодную слюну и стал карабкаться на новое нагромождение руин. «Мне бы только выбраться из этого хаоса, из этих развалин, выйти из этого проклятого города, а там я, можно сказать, на свободе. Доберусь до леса... Только бы добраться... Лес мне спаситель. Лесом можно уйти на край света, да и пища сейчас какая-нибудь найдется: ягодка, грибочек, травка съедобная...»
Поднявшись на вершину развалин и осторожно выглянув из-за гребня битого кирпича, он снова увидел там, внизу, уцелевший квартал города. Там опять были люди. Он спустился вниз и пополз в противоположную сторону.
Ночь навалилась внезапно, без заката и сумерек. Солнце, утомленное за долгий жаркий день, повисело недолго в разноцветном дыму за дальними трубами и растаяло. На черном, как весенняя земля, перепаханном дальними созвездиями небе тускло засветились низкие трепетные звезды. Крепко настоянный на гари воздух висел тяжело и неподвижно. Нельзя было отдыхать, и есть нечего. Вспомнил слова Карла: «Уходи дальше».
В конце короткой июльской ночи, когда черное небо начало буреть, а звезды меркнуть, карабкаясь по руинам, он неожиданно наткнулся на узкую щель и проник в подвал разрушенного дома. В нос ударило гнильем и сыростью. Долго обшаривал он, словно слепец, натыкаясь на какие-то трубы, перегородки и ящики, все закоулки подземелья, но и тут, кроме зловония и крысиного писка, ничего не было. В одном из отсеков он обнаружил ворох деревянных стружек, сырых и слипшихся. Кисло запахло вином.
– Не помешал бы глоток вина, – выхрипнул и вытянулся на стружках.
Но вина не было. Были только пустые бутыли, обмотанные этими пахнущими вином стружками.
– До меня все выпито, – сплюнул он.
Сон уже расслаблял, сковывал сознание, как вдруг в голову пришла отчаянная мысль: позвать на помощь Крошку Дитте? Сначала мысль показалась дикой, но вот он начал анализировать все ее безумно-смелые слова, обращенные к эсэсовцам, ее перебранку с Отто, ее независимую и гордую позу. Вспомнил ее глаза. Была в них какая-то дерзкая, непонятная, подкупающая и неотразимая сила. Риск, безусловно, большой, но где его нет, риска?
– Крошка Дитте, Крошка Дитте, – шептал он. – Ты должна помочь русскому лейтенанту Сергею Бакукину. Ему ведь немного надо: сменить одежду, чуть-чуть утолить голод, остричь волосы, чтобы не было «гитлерштрассе», вот и все. Ты можешь это сделать. Ты – немка. Ну и что ж? А Курт, а Ганс, а Вилли? Они тоже немцы. Где-то лежат сейчас на нарах в обгорелом железном вагоне и думают о нем, русском парне Иване, перешептываются: а где он, а что с ним? Они, Крошка Дитте, немцы, спасли меня от верной смерти, от издевательств. А ты?
Мысли начали расплываться, путаться, и скоро оборвались. Спал Бакукин, по-видимому, долго. Когда он покидал это неуютное пристанище, небо было снова черным, а низкие тусклые звезды мигали и покачивались, словно ракеты на парашютиках. Бакукин понял, что проспал весь день. Теперь он уже не шел, а брел, пошатываясь. Кружилась голова. Сосущая пустота под ложечкой набухала. Часто тошнило. Куда брели, поминутно спотыкаясь, его ноги, он уже не знал. Но какая-то неведомая сила тянула его к серому особнячку с колоннами. У него было такое чувство, что он обязательно погибнет, если не найдет особняк, и только там его спасение. Самостоятельно ему никогда не выйти из этого лабиринта развалин, он просто подохнет от голода и жажды. Но сколько он ни бродил, выбиваясь из сил, Гартенштрассе не было и в помине, ни одного знакомого предмета, ни одного ориентира.
Он уже отчаялся найти знакомую улицу в бесконечном нагромождении руин, как неожиданно к концу ночи услышал совсем рядом тоскующе-печальные вздохи скрипки, прерываемые пьяными голосами. Он двинулся осторожно на звуки и скоро вышел к слабо освещенному изнутри особнячку с колоннами.
– Крошка Дитте, Крошка Дитте, – шептал Бакукин, – я нашел тебя...
Сердце отчаянно колотилось. Он скрючился под стволом обгоревшего платана и стал наблюдать. Особнячок с колоннами не спал. Кое-где в щели маскировки просачивался жидкий свет. Слышались невнятные голоса. Взлетала нестройно и падала песня.
Бакукин несколько раз слышал эту бравурную солдатскую песенку. Окно на втором этаже, где всегда сидела Крошка Дитте, было черным. Всплыла луна, круглая, мясистолицая, озираясь, поплыла над руинами. «Странно, – подумал Бакукин, – вчера луны не было, сегодня – луна». Потом догадался, что вчера до восхода луны он был уже в подвале, потому и не видел ее. Значит, скоро утро.
Из парадного шумно вывалились шестеро мужчин, судя по всему, офицеры, и, пошатываясь, насвистывая «Донью Клару», заковыляли серединой узкой улицы. Скрипка умолкла. Голосов стало меньше. Скоро все утихло. Особняк окунулся в поздний хмельной сон.
На востоке начало сереть. Мягкий ветерок, резвясь, проскакал по улице. Предутренняя теплота сладко, вымученно дремала. В окне на втором этаже показался смутный силуэт. Оно распахнулось. На подоконник села женщина, закурила. Огонь зажигалки осветил на мгновение лицо.
– Крошка Дитте! – чуть слышно прошептал Бакукин и, боясь спугнуть ее, тихо вышел из укрытия.
Постояв немного и оглядевшись вокруг, медленно пошел через улицу к колоннам. Она услышала шаги, вздрогнула пугливо, спросила быстро:
– Кто это?
– Крошка Дитте, не бойтесь. Это я, «рябчик».
– Какой еще рябчик?
– Ну тот, беленький, что проходит по утрам под конвоем однорукой обезьяны. Помните, беленький «рябчик» и однорукая обезьяна, с которой вы всегда ругаетесь.
– Постойте, постойте, ах, да, да... Однорукая обезьяна и беленький «рябчик»...
Она соскользнула с подоконника. Окно закрылось, брызнув лунным сиянием. Бакукин перевел взгляд на низкую, повисшую над домом луну.
Скрипнула парадная дверь. Из нее бочком выскользнула высокая темная фигура; как сухие листья под ветром, прошуршали легкие, быстрые шажки; в лицо пахнуло тонким ароматом незнакомых духов. Приятный ласковый голос тихо прошелестел:
– Что вы хотите и как вы попали сюда?
– Крошка Дитте... – начал Сергей.
Она испуганно перебила:
– Тссс, тише. Голос-то у вас, как колокол. Я, кажется, начинаю кое-что понимать. Идемте отсюда. Здесь опасно. У фрау Пругель всевидящие глаза и всеслышащие уши. – Она схватила Бакукина за руку и быстро повлекла за собой. – Тут, совсем недалеко, есть заваленное убежище, я видела, как пожарники выносили из него трупы, совсем незаметная лазейка, идемте туда. Там вы будете в безопасности. Вы бежали?
Бакукин кивнул.
– Это что? Бравада? Смертельно рисковать жизнью и прийти показаться Крошке Дитте? Посмотрите, мол, какой я храбрый! Да?
– Нет, мне надо было бежать...
– Вы плохо говорите по-немецки. Вы немец?
– Нет.
– Вы славянин? Вы – поляк? – В глазах ее вспыхнуло нетерпение.
– Вы можете либо сдать меня в руки полиции, и меня завтра повесят, либо помочь мне. Не знаю почему, но я рассчитываю на вашу помощь. Только на вашу, иначе я погибну. Меня ищут. Куда я сунусь в этой полосатой форме с бритой наполовину головой каторжника? Я – русский.
Бакукин выпалил все это сразу и ждал, искоса посматривая на Крошку Дитте. Его слова, кажется, ошеломили ее. При слове «русский» она вздрогнула, даже приостановилась, пристально всматриваясь в Бакукина. По ее красивому лицу судорожно метнулось изумление:
– Русский? Первый раз вижу живого русского.
– До этого видели только неживых?
– Да нет, – усмехнулась она, – не видела никаких.
Они шли по густому сумрачному саду, разбрызгивая ногами лунные лужи. Узкая аллея петляла. Из темных зарослей тянуло предутренней сыростью и сладковатым запахом гниющей древесины.
– Сад фрау Пругель, – пояснила она. – Здесь я гуляю по вечерам, иногда днем. Чем же я смогу помочь вам? Никогда не думала, что я еще могу кому-то пригодиться.
– Мне нужна машинка для стрижки волос и любая одежда. Можно остричь ножницами. Больше ничего.
– Вы сегодня ели?
– Нет. Кругом развалины, и я ничего не нашел.
– А вчера?
– И вчера тоже.
– Бедненький, как вас зовут?
– Вообще-то Сергеем, Сережей, но здесь все звали Иваном, Ваней.
– Хорошо, Ваня, я постараюсь помочь вам. Я ведь тоже не немка. Я полька. А зовут меня, точнее звали, Богуслава. – Она улыбнулась. – Я обо всем расскажу. Потом, позднее, в подвале. Вот он. Это совсем рядом, и я буду приходить к вам. Лезьте и не выходите. Ждите меня.
Она показала Бакукину на небольшую полузасыпанную щебнем щель в нагромождении руин. Он опустил ноги. Крошка Дитте схватила его за руки, и скоро носки ее лакированных туфель тускло сверкнули у него перед носом.
– Я приду, – прозвучал над головой ее голос.
Стало тихо. Лунные пятна вверху погасли – девушка заслонила чем-то щель.
– Ну вот, – сказал сам себе Бакукин, – ты либо в безопасности, либо в западне...
В подвале воняло гнилью и мышами. Воздух был густой, но сухой. Он шел ощупью, постоянно натыкаясь на невидимые столбы и перегородки. В одной из ниш под ногами зашуршала солома. Прощупав ее, он лег и задумался, а потом уснул.
И приснилось ему, будто он дома, в сибирском селе, лежит на запашистом луговом сене, застланном овчинным тулупом. В щелястые двери заглядывает нераннее уже солнце. За дверями лениво кудахтают куры, крик петуха долго и неподвижно висит в сонной тишине. Он ни о чем не думает, ничем не озабочен, просто хорошо выспался и лежит, нежится, наслаждается теплом и покоем. Он только вчера приехал в отпуск, впереди месяц отдыха в родном доме. Двери сарая осторожно открываются, входит мать с кринкой в руках. На матери полинялый цветной халатик, а в цветах – солнце и капельки росы. Он смотрит на мать с восхищением и радостью: такая она еще молодая и красивая, только горькая складка в губах притаилась и глаза печальные. Любуясь мамой, он пьет густое душистое молоко. Пахнет оно луговыми травами и спелым летом. «Спасибо, мамуля, – говорит он ей и бережно обнимает за тонкую талию, – пойдем в дом». И они выходят в зной и тишину. На дворе – медовое лето. В небе неподвижно висит жаркое полуденное солнце. Сергей любовно смотрит на мать, а ее уже нет. Перед ним стоит, улыбаясь, Богуслава. Она берет его за руки и тянет вниз, к реке. Буйно разросшаяся огородина скрывает от них тропинку, но он знает ее с раннего детства и найдет с закрытыми глазами. По селу, поднимая копытами ленивую уличную пыль и бодая воздух, бредет на обеденную дойку стадо коров. Теплые запахи хлева, парного молока долго висят в неподвижном воздухе. «Ваня, пойдем в Яю, – шепчет ему Богуслава и тянет его к реке, – пойдем, милый». Машут метелками и перешептываются прибрежные камыши, заливаются звонкие пичуги камышницы, вспыхивают радугами росинки. Богуслава раздевается. Вот она, натягивая на голову платье, уже оголила красивые длинные ноги; платье поднимается выше, выше; ему неловко подглядывать за ней, и он отворачивается. Солнце брызжет ему в глаза, слепит...
Открыв глаза, он увидел Богуславу. Обхватив голыми руками колени, она сидела на соломе и в упор смотрела на Бакукина. Чуть поодаль, на фруктовом ящике, горела толстая сальная свеча. С минуту они молча смотрели друг на друга. Богуслава была еще совсем молода и очень красива. Изумрудно-золотистые глаза ее показались Бакукину серьезными и немного печальными. Густые пепельно-русые волосы пышно рассыпались по плечам. Именно такой он видел ее всегда на подоконнике, когда проходил по утрам с командой смертников мимо особнячка с колоннами.
– Выспались? – ласково спросила она по-немецки. – Вы так тихо спите, что я перепугалась. Видели что-нибудь во сие?
– Вас видел.
– Правда?
– Да. Сначала была мама, а потом вместо мамы стали вы.
– Интересно, какая же я была?
– Молодая, веселая и красивая. Вы звали меня купаться в реку со странным названием. У нас в России таких названий нет.
– Как же называется река?
– Забыл.
– А вы припомните, это очень интересно...
– Нет, не вспомню.
– Я была голой?
– Не совсем.
– Этот сон к несчастью. Мне будет очень, очень плохо. Ну ладно. Вот поешьте, я кое-что принесла, правда, все сухое и холодное.
Пока Сергей ел вареные картофелины и бутерброды с сырам и фруктовым повидлом, Богуслава рассказывала:
– Утром, как всегда, прошли они. Их было десять. Я спросила у однорукой обезьяны: «А где же беленький «рябчик»? Он огрызнулся таким страшным ругательством, что мое окно закрылось само собою. Конвойных было уже не трое, а шестеро. И все мрачные, злые. А мне стало весело. Я хохотала им вслед. Я-то знаю, однорукая горилла, где беленький «рябчик». Ха-ха-ха.
Она засмеялась мило, непринужденно, совсем по-детски.
– Десять, говорите, было? А ведь должно быть одиннадцать. Значит, старик Карл поплатился за меня...
Волнение Бакукина передалось Богуславе. Лицо ее стало печальным, нахмуренным.
– Да, да, того старичка, что шел всегда справа от вас, тоже не было. Это Карл? Он немец?
– Да, это Карл. Ему я обязан жизнью. Если бы я не убежал, меня среди них тоже не было бы. Карл помог мне.
Бакукин рассказал, что произошло у воронки. Она задумалась. Долго молчала. Дотронулась осторожно до его руки, взяла кончики пальцев, крепко пожала их.
– Да, немец и спас русского. Как все сложно в мире. Вы не бойтесь меня. Я никогда вас не предам, даже под пытками. – Она грустно улыбнулась. – Я вижу, душой чувствую, что вы хороший, добрый парень. А вы не из простых людей, нет-нет, простые голодные люди не едят так, как вы. Скажите, что я не права? Если хотите узнать человека, посмотрите, как он ест, и вы узнаете его. У вас мягкое, нежное сердце и широкая душа. Я весь день сегодня думала о вас. Вы разбудили во мне Богуславу, которая давно умерла.
– Как мне звать вас?
– Для вас я Богуслава. Только для вас. Для остальных – Крошка Дитте. Так нарекла меня фрау Пругель. «Как звать тебя, крошка? – спросила она, когда меня привезли сюда с рынка невольниц. – Ты прелестна!» – «Богуслава, – ответила я. – Богуслава». – «Мой бог! – воскликнула она, в ужасе всплеснув руками, – какое варварское, какое кощунственное имя! Богу слава! Боже мой! Какое кощунство! Отныне, крошка, ты будешь Дитте. Крошка Дитте. Запомни».
Она говорила тихо. Слова были похожи на вздохи, исходящие из глубины души. Ее темные, золотисто сверкающие глаза то озарялись мгновенными вспышками, то угасали, и тогда в их глубине тихо светилась щемящая печаль обиженного ребенка.
– Так я стала Крошкой Дитте. Вы не презирайте меня.
– Ну что ты, Богуслава.
– Раньше мне всегда казалось, что все окружающие меня – и в самом деле люди. И только теперь я поняла, как мало их вокруг, как они редки, настоящие люди, и сколько вокруг злых, эгоистичных, подлых, мелочных и просто жалких существ, облекшихся в личину людей. Что-то случилось со мной, Ваня... нет! Сережа, после встречи с вами... Сама не пойму – что, но случилось. Вы пробудили во мне воспоминания...
Пламя свечи колебалось, странно меняя черты ее лица. Вдруг она приблизилась к Бакукину, спросила быстро:
– А вы боитесь смерти?
– Боюсь, – не раздумывая, ответил он.
Она посмотрела недоверчиво, испытующе.
– Неправда. Вы же откапывали бомбы. Я знаю. Вы могли каждую минуту умереть. Когда вы бежали, вас тоже могли убить.
– Когда я бежал, я думал о жизни, а не о смерти, да и бежал-то я потому, что хотел жить, а не умирать.
– Жить, – задумчиво произнесла она, – жить... А как вы думаете, надо бояться смерти, если не хочется жить?
– Жить всем и всегда хочется. Смерть в нашем возрасте просто как-то не мыслится, не представляется, в нашем возрасте она противоестественна и противозаконна. И я не верю тем, кому не хочется жить. Они лгут и себе и другим. Человек приходит на землю только один раз, и, конечно же, ему хочется побыть на ней подольше.
Она взглянула на Бакукина удивленно. Глаза ее погасли. Лицо стало строгим и совсем печальным. Он поспешил успокоить ее:
– Муки, страдания и слезы, Богуслава, – это тоже жизнь. Видеть солнце – это великая радость, великое счастье, особенно в неволе. Пусть даже в грязи и пошлости. Там, в вечном мраке и вечной тишине, ничего этого не будет. А какой будет новая жизнь удивительной, когда окончится война!
– Новая жизнь... – В ее голосе дрожали слезы. – Ваня, нет, Сережа, я засиделась. Меня будут искать. Давайте остригу вас, я прихватила машинку.
Она бережно, как ребенка, остригла Бакукина, долго держала в руках грязные, свалявшиеся волосы.
– Мама всегда говорила: «Мягкие волосы – добрый характер». У вас мама жива?
– Не знаю. Не видел маму четыре года.
Она опять вздохнула. Пламя свечи колыхнулось. На низком грязном потолке причудливо заплясали тени.
– Вы чудная, нежная, у вас такие добрые руки и очень нежные...
Она перебила:
– Была, вероятно, и доброй и нежной. Они убили во мне это. Я зла и жестока. Да, да, зла. Я пойду. Фрау Пругель не любит вольностей, у нее все по секундам. Даже любовь. – Она горько улыбнулась. – Отдыхайте. Я приду. Возможно, даже ночью. Как тут воняет мышами. Очень боюсь мышей...
Он проводил ее до дыры. Помог вскарабкаться. Пока она закрывала отверстие, он видел лоскут дымно-голубого неба. Послеполуденное солнце щедро поливало землю теплом. Постоял, прислушался. В саду беззаботно щебетали птицы. Многозвучно и тревожно гудел вдали большой город.
Прошло шесть бесконечно долгих дней и ночей. Если бы не Богуслава, для Бакукина длилась бы беспросветная ночь. Но девушка приходила ежедневно и просиживала с ним подолгу. «В вашем саду так уютно, так божественно, фрау Пругель, что я позволила себе погулять дольше положенного», – смеялась она, передавая свой разговор с фрау, передразнивая ее. «Гуляйте, милая Крошка Дитте, ничто так не облагораживает и не очищает душу, как сближение с природой, кажется, что ты приобщаешься к божественному и тайному», – строго отвечала фрау. Богуслава, передав этот разговор, грустно смеялась: – Фрау права, я приобщилась к тайному. За эти шесть дней они многое узнали друг о друге. Богуслава часами рассказывала о своей деревне под Краковом, о тиховодной Яе, кишащей раками, о своем детстве. Рассказывая, она преображалась, глаза вдохновенно горели и сыпали золотистые искры. Красивые руки не покоились, как обычно, на коленях, а были в движении.








