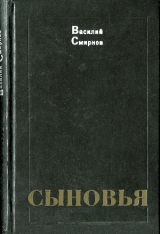
Текст книги "Сыновья"
Автор книги: Василий Смирнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– А боязно, так и не подступайтесь… без вас обойдемся, – отрезала Анна Михайловна, решительно подходя к колесам.
– Да ведь и нам охота попробовать, – застенчиво сказала Катерина, проталкиваясь к Анне Михайловне и осторожно трогая острые, как ножи, ребра трепал. Она оглянулась на подруг и стала поспешно засучивать рукава кофты.
Анна Михайловна покосилась на полные смуглые локти Катерины.
– А ты не суй руки далеко… отшибет, – сказала она.
– Кончай базар! Отходи, которые лишние… пускаем! – скомандовал Елисеев, появляясь в дверях сарая. – Ольга, стукни гвоздь в крайнем колесе, никак раскачался, – приказал он жене, подавая топор.
– Тут скоро все мы закачаемся, – огрызнулась Ольга, но топор приняла и послушно забила обухом высунувшуюся шляпку гвоздя. – Навыдумывали, изобретатели… чтоб вам сдохнуть!
Она швырнула топор в угол.
– Давай, что ли!.. Надоело ждать.
И, как вчера, засвистели в неуемном беге колеса, крупным колючим дождем брызнула из-под трепал костра. И по-вчерашнему екнуло сердце у Анны Михайловны.
Но страшновато и, главное, неловко было только первые минуты. Трудно было поднять руки, казалось, трепала сейчас же ударят по пальцам. Почему-то скользили ноги. И даже свист мешал, унылый, словно ветер в трубе. Однако стоило забыть о трепалах, и повесмо само поворачивалось в руке, и ноги стояли твердо, и сердце переставало стучать. К свисту тоже можно было привыкнуть, благо этот ветер сдувал с лица костру.
Надвинув пониже платок, чтобы меньше засорялись глаза, Анна Михайловна заметила, что костра отделяется легко, волокно не рвется и трепала словно не бьют, а гладят серебряные нити. «Привыкну, – решила она, – легче, чем самой день-деньской руками махать… и, пожалуй… спорее».
Она видела, как медленно прошел трепальным отделением Николай Семенов. Белесая костра торчала в его лохматых волосах, как седина. Он постоял около Анны Михайловны, подобрал у нее из-под ног омялье и молча двинулся дальше, прижимаясь к стене, чтобы не мешать работающим бабам. «Этот на своем настоит… упрямый, – подумала Анна Михайловна одобрительно. – Да и то сказать, без упрямства наш народ не возьмешь… Тяжелы мы на подъем… боимся нового, как черт ладана. Молодым, знамо, сподручнее, старое-то не виснет, назад не тянет…»
Ворочая повесмо, она мельком покосилась на Катерину. Голый смуглый локоть проворно взлетал, словно Катерина нетерпеливо отмахивалась от наседавших тучей комаров.
– Береги-ись! – крикнул Гущин, проходя мимо с вязанкой волокна.
Анна Михайловна, забывшись, потеснилась к трепалам, и тут словно кто толкнул ее под колесо.
– Убило… Бабушку убило! – испуганно ахнула Катерина.
«Какая я тебе бабушка!» – хотела сказать сердито Анна Михайловна и упала. Что-то горячее обожгло ей руки и часто и больно заколотило по голове. «Сахару-то наколола, а из комода не вынула… ребята придут чай пить – и не найдут», – почему-то мелькнуло у Анны Михайловны.
– Остановите… сволочи… трактор остановите! – визжал Савелий Федорович.
– A-а! Убило… Родимые… Убило! – страшно кричали бабы.
Кто-то тащил Анну Михайловну за ноги и все бил и бил по рукам и по голове. Стало темно, холодно и очень тихо. Дивясь, Анна Михайловна раскрыла глаза, увидела заплаканное лицо Дарьи, множество ног в обсоюженных валенках и полусапожках, склоненного Семенова, который что-то торопливо делал с ее, Анны Михайловны, руками. Последней запомнилась Ольга. Она разъяренно рубила топором белые длинные трепала…
XVI
Первый раз Анна Михайловна пришла в себя от боли. Опять кто-то бил ее по голове. Она застонала, хотела защитить голову ладонями, но рук у нее не было. Она испугалась, вытаращила глаза и долго непонимающе глядела на Семенова. Он сидел около нее, завернутый в простыню, и все вокруг него было светлое.
– Ты чего… такой? – со страхом спросила Анна Михайловна. – Зачем?
– Сейчас уйду, – шепнул Семенов.
– Куда? – удивилась Анна Михайловна и вдруг все вспомнила. – Ребята?.. – заикнулась она, морщась от боли.
– Дарья с ними… Спи, отдыхай.
– В больнице, что ли, я?
– В больнице.
Анна Михайловна повела глазами на две горы бинтов, белевших на одеяле по краям кровати.
– Руки-то… у меня… целы?
Семенов вздрогнул, наклонился и зашикал:
– Нельзя тебе разговаривать, Михайловна. Ш-ш-ш… Доктор запретил.
Она немножко подумала.
– Сломали… бабы… колеса-то?
– Молчи.
Анне Михайловне хотелось пошевелить пальцами, но сил не было, она закрыла глаза, потерпела, пока затихла ломота в голове, и уснула.
Во сне она видела старичка, маленького, беленького и страсть сердитого. Старичок кричал на нее, топал ногами, гнал прочь от бельгийских колес, а ей нельзя было уйти, она только что принесла вязанку мятой тресты и беспокоилась: «Остынет – и не отреплешь… И что он ко мне привязался?» Она притворилась, будто не видит и не слышит старичка, хватала по два повесма, совала их к трепалам, а они, как назло, еле поворачивались, и костра гвоздями торчала из волокна, хоть клещами вытаскивай. «На печке тебе сидеть… Марш на печку!» – кричал старичок тонким злым голосом, стучал ей в спину кулаком и зачем-то требовал, чтобы Анна Михайловна не дышала. «Сумасшедший… терпенья моего больше нет… позову Семенова», – решила Анна Михайловна, оглядываясь кругом. Но в сарае были какие-то чужие люди, добела осыпанные кострой, и Семенова она не нашла. А старичок, распахнув белый халат, запел песню и стал ломать Анне Михайловне руки.
Она вырвалась, убежала в избу. Ребята сидели за столом и хлебали молоко вприкуску с сахаром. «Это еще что за мода? – рассердилась мать. – И так каждый день колю к чаю по целой сахарнице… Не сметь у меня баловаться!» – «Да мы не балуемся, – сказал Ленька, – это нам дала тетя Ольга, она к тебе в гости пришла». И действительно, на лавке сидела Ольга Елисеева, в новом светлом платье, простоволосая, а с ней рядом Катерина с голыми смуглыми локтями и еще кто-то из баб. И все они шепотом уговаривали Анну Михайловну полежать и не разговаривать, а она все допытывалась у Ольги, куда та девала топор…
Потом бабы пропали, Анна Михайловна очнулась одна в чужой полутемной избе. Слабо горела под потолком лампа, в желтом пятнышке света тихо кружилась мохнатая бабочка, Анна Михайловна подняла голову с подушки и огляделась. Смутно белели кровати, слышно было дыхание спящих. Кто-то застонал во сне. Она все вспомнила и тихонько заплакала. Но лежать ей было удобно, ничто не болело, и только руками нельзя пошевелить.
– И за что ты меня наказал, господи?!
Скрипнул пол, подошла сиделка, поправила одеяло, подушку и строго сказала:
– Спите, больная, спите.
А уж какой тут сон! До утра не сомкнула глаз Анна Михайловна и столько всего передумала тревожного, нехорошего о ребятах, о колхозе, о бабах… Наверное, дуры, с перепугу все поломали в сарае. Вот тебе и льнозавод… А Дарья поди ребятам и обед сварит, не поленится, и корову подоит… Не минешь трепать лен вручную, а ведь пошло дело, смотри-ка, даже девки стали к колесам. Кабы не грех этот, живо бы управились и за молотьбу принялись… Попутал лукавый, попутал… Не тронься она с места, и не было бы ничего. Сама виновата. Проход еще вот мал сделали… Да ведь ходили же люди, не кричали в самое ухо… Ах, словно нарочно все вышло! Сожрут теперь бабы Николая, замутят колхоз… Ну и кашу она заварила – не расхлебаешь.
Было еще одно, самое страшное, о чем Анна Михайловна старалась не думать. Она неотрывно смотрела на бабочку, которая кружилась над лампой, а видела белые пухлые горы бинтов под одеялом, там, где должны были лежать ее, Анны Михайловны, руки.
Когда утром ей ставили градусник, она заглянула под одеяло и тотчас зажмурилась: ей показалось, что руки стали короткие, словно обрубленные. Но боли не чувствовалось, и это ее немножко успокоило.
Принесли чай и завтрак. Анна Михайловна с помощью сиделки, рябой, молоденькой и строгой девчонки, с удовольствием выпила кружку теплого сладкого чаю, съела половину булки и ломтик колбасы. Она выпила бы и поела еще, да постеснялась попросить.
В палату вбежал старичок, точь-в-точь такой, как она видела во сне.
Больные, которых Анна Михайловна успела разглядеть, как-то ожили, повеселели. Мурлыкая и ворча, старичок присаживался на кровати, тоненько кричал, и смеялся, и топал, и полы его незастегнутого халата так и разлетались гусиными крыльями.
– На печку… на печку, старуха, посажу! – сердито погрозил он Анне Михайловне еще издали.
Подбежал к кровати, уставился пучеглазо и всплеснул руками.
– Хороша-а, красавица! – тоненько закричал он, вцепившись себе в седые всклокоченные волосы. – Посмотри, матушка, на кого ты стала похожа. Срам! Срам!
Похолодев, Анна Михайловна лежала ни жива ни мертва. «Батюшки, – тоскливо подумалось ей, – видать, плохи мои дела, коли он так ругается».
Не спуская с нее злых, острых глаз, фыркая и ворча, старичок принялся снимать повязку с головы. Пальцы его неприятно щекотали лицо Анны Михайловны, ее бросило в дрожь.
– Больно? – обрадовался старичок и запел себе под нос: – «Ай, люли, ай, люли… Как у наших у ворот комар музыку ведет…» Так тебе и надо, – сердито ворчал он. – Не суйся, старая, не в свое корыто. Я вот тебе сейчас еще больнее сделаю, – злорадно пообещал он, хватая ее голову и вертя из стороны в сторону, точно желая оторвать напрочь.
Но боли Анна Михайловна так и не почувствовала. Длинный мятый бинт неслышно очутился в руках старичка. Он понюхал бинт, помахал им и рассмеялся.
– Напугал?.. Люблю… Скорее выздоравливают… Ну-с, все пустяки, старуха. Царапины твои живо залечим. Молись богу, отделалась счастливо.
– А руки… хоть один остался… пальчик? – замирая, спросила шепотом Анна Михайловна.
– Какой пальчик? Что ты там выдумала? – Старичок затопал и опять закричал. – «Па-альчик»… – тоненько передразнил он. – Смотреть не хочу на твои пальчики. Завтра перевязку сделаем, в неделю мясом обрастут, и проваливай… Надоела ты мне.
– Ох, а уж как ты мне надоел… – призналась, вздыхая и усмехаясь, Анна Михайловна.
– Две недели в больнице проморю! – пригрозил старичок, убегая из палаты.
Ночью, когда в палате все уснули, сиделка вымыла пол, привернула лампу и вышла в коридор, Анна Михайловна, не утерпев, схватилась зубами за тонкую, пропахшую спиртом марлю и, ворочая правой, тяжелой и непослушной рукой, принялась разматывать бинт. Ее трясло, как в ознобе. И зубы и сердце так стучали, что она боялась разбудить больных. Она часто выпускала из зубов марлю и, тая дыхание, пугливо прислушивалась. Потом снова принималась за дело.
От напряжения у нее сводило судорогой челюсти, слюна замочила подушку, пот выступил на лбу. Она запуталась в марле, – кажется, бинту конца не было.
«Нету пальцев… нету…» – страшно подумалось ей и с ужасом ясно представилось, как идут галдящей оравой на работу бабы, а она, Анна Михайловна, торчит в избе, культяпки болтаются у нее в широких рукавах кофты и за обедом сыновья по очереди кормят ее, мать, и кусок встает ей поперек горла… Она рванула бинт и застонала от боли, неожиданно охватившей ее.
Сквозь пятнистую, запачканную кровью и йодом марлю она увидела бугорчатые очертания пальцев. В глазах у Анны Михайловны качнулись и поплыли стены, кровать, лампа, и она не могла сразу сосчитать – сколько же там, под жесткой марлей, пальцев: четыре или пять. Она поднесла руку ближе, несмело вгляделась, сосчитала и долго лежала неподвижно, подняв брови, пристально и удивленно рассматривая опухшую, словно чужую кисть руки.
Она попробовала согнуть пальцы, это вызвало режущую боль, и Анна Михайловна усмехнулась.
Отдохнув, она тихонько размотала бинт на левой руке и теперь уже сразу сосчитала пальцы.
Все это ее так утомило, что она заснула, не успев забинтовать руки, и после ей страсть как попало от сердитого старичка, она прямо не знала, куда деться от стыда.
Дни пошли скучные, до смерти длинные. От безделья все время хотелось есть. Кормили в больнице часто, но помаленьку, и Анна Михайловна, поборов стеснение, стала подпрашивать прибавки. Она перезнакомилась со всеми больными по палате и, когда ей разрешили ходить, высмотрела всю больницу, забрела на кухню, вызвалась помогать кухарке, но ей не позволили.
Однажды ее позвали к окну, она подошла и увидела на улице, за палисадником, Леньку, Мишку и Дарью. Ребята, как только приметили ее, вскочили на тесовую изгородь и молча во все глаза уставились на мать в белом халате. Дарья высунула из-за палисада голову, заплакала, потом засмеялась, все хотела влезть на палисад и не могла.
День был неприемный, и, как ни просила Анна Михайловна, сыновей и Дарью не пустили в палату и не разрешили выйти на улицу. Ей передали узелок с домашними гостинцами и записочку.
«Мама, поправляйся, – писал Ленька знакомыми крупными палочками, по-печатному, чтобы она могла разобрать, – мы живы и здоровы, кланяемся тебе, и тетя Дарья тоже кланяется. Мама, напиши ответ, когда тебя выпустят, мы приедем на лошади».
Рукой Мишки криво и мелко была приписка: «Пиши поскорей, а то Буян не стоит».
Рябая молоденькая сиделка написала на обороте лоскутка, что больную Стукову выпишут, наверное, в среду, а лучше, если они приедут в четверг, надежнее, и больная хочет знать – треплют ли в колхозе лен.
Толкаясь, ребята прочитали записку, перебивая друг друга, прокричали что-то в ответ. Рамы окон были двойные, слышно плохо, и Анна Михайловна ничего не разобрала. Она постояла, посмотрела на ребят и Дарью, показала им свои забинтованные руки. Дарья снова заутиралась платком, и Анна Михайловна махнула, чтобы уезжали. За вечерним чаем она угощала знакомых по палате Дарьиным пирогом, ватрушками и сдобниками. Все хвалили Дарьино печение и еще раз охотно выслушали историю Анны Михайловны: как она попала на льнозаводе под колесо и какие хорошие растут у нее сыновья.
Дежурный врач выписал ее в среду. Анна Михайловна совсем собралась, переоделась, попрощалась с больными, но тут прибежал старичок, главный врач, затопал, закричал, что не отпустит до завтра, и она с ним поругалась. Она опять закуталась в надоевший халат, но одежду свою не вернула, спрятала под кровать и после обеда, в так называемый мертвый час, пошла будто в уборную, торопливо накинула на себя рубашку, юбку, кофту, башмаков надеть не успела, повесила в коридоре халат и, босая, на цыпочках, пробралась к выходной двери и сияла цепочку.
День был погожий, теплый, хотя и ветреный. То набегали облака, светлые тени скользили по земле, и она становилась рябая, прохладная, то выглядывало солнце и пригревало дорогу. Все вокруг еще зеленело и желтело, только лес вдали начинал там и сям пылать осенними кострами. В полях дожинали овсы, рыли картошку. По овинам и ригам, мимо которых проходила Анна Михайловна, стучали молотилки, цепы и сортировки. Приятно пахло сухой свежей соломой и духовитой мякиной.
– Труд на пользу! – говорила, кланяясь, Анна Михайловна работавшим.
– Спасибо, спасибо, – добро и весело откликался кто-нибудь из мужиков или баб, мельком оглядывая ее.
Иногда она останавливалась и спрашивала, как управляются миром-то, хороши ли хлеба, – и в ответ слышала, что обижаться не приходится, всего уродилось вволю, вот только бы убраться с добром вовремя. В деревнях она присаживалась на завалинки к старухам, нянчившим ребят, просила напиться, разговаривала обо всем, что приходило в голову, и, отдохнув, шла дальше, споро и легко перебирая босыми ногами, и не заметила, как отмахала восемнадцать верст.
Гумнами, не заходя домой, она пробралась к льнозаводу. Трактор глухо урчал, как ни в чем не бывало.
– Ну, слава тебе… – Анна Михайловна перекрестилась и тихонько толкнула дверь в сарай.
Скоро забылись и больница, и седенький строгий старичок, и даже та страшная ночь, когда Анна Михайловна зубами снимала бинты с тяжелых, непослушных рук. Она застала в колхозе самую горячку и приловчилась, хотя и не сразу, трепать лен по-новому.
В мяльном отделении чугунные зубчатые валы жадно глотали теплую, пряно пахнущую тресту. Из-под валов треста выходила разжеванной, с колючками костры и рыжевато-курчавыми завитушками волокна. Мужики бережно принимали мятые, еще не остывшие повесма и несли их в трепальный цех.
Здесь в воздухе неоседающей пылью висела костра, плавали белые прозрачные тенета, как пух одуванчика. В стремительном порыве крутились деревянные трепала, сливаясь в белесые круги. Анна Михайловна хватала мятую тресту, веером разворачивала ее перед свистящим бельгийским колесом, и отделившаяся костра взлетала облаком. Мягкое волокно нежно ластилось к пальцам; гибким, почти невидимым движением они выворачивали волокно, как чулок, и легко, словно играя, опять приближали к трепалам, пока не сменяли взлетающую костру чуть заметные, тончайшие паутинки и бесформенный мочалистый пук не превращался в длинное, тугое, скользящее в руках, серебряное повесмо.
Девушки относили под навес готовое волокно и пели песню. Бабы за трепалами подхватывали ее звенящие переливы, и песня кружилась над льнозаводом, как птица.
Слабым, дребезжащим голосом Анна Михайловна подтягивала, как умела, и, вспоминая разговоры Семенова, явственно видела, как горы волокна идут на фабрики и чудесные руки ткачей, словно по волшебству, превращают волокно в белоснежное хрустящее полотно.
И вот он, ее голубоглазый лен, снова вернулся к Анне Михайловне браными скатертями, кофтами, широкими простынями, вышитыми рубашками для сыновей. Лен пошел в магазины по городам и селам, и кто знает, может быть, покупая платок или полотенце, люди, не зная ее по имени, но видя и понимая ее труд, помянут Анну Михайловну добрым словом. А Семенов еще говорит, что лен пойдет в Красную Армию парусиной, брезентом, палатками, будто подарит он смелые крылья аэропланам, которые летают по небу, как стрижи, и он же, лен Анны Михайловны, будет досылать безотказно патроны в пулемет пограничника…
«Хвастает… – не поверила Анна Михайловна. – Да что ж, такую прорву льна своротили – и прихвастнуть не грех… А может, и в самом деле… Сталин, Калинин… или там кто… мою рубаху наденет», – пришло ей вдруг в голову. Она усмехнулась. Ей стало приятно и в то же время грустно, потому что она невольно вспомнила о муже.
XVII
За полдень из-за гумен выполз обоз, груженный мешками. Впереди шел с непокрытой головой Николай Семенов с гармонистом, за ними – ударники и запевалы. С грохотом и песнями прокатил обоз по шоссейке, мимо правления колхоза, и свернул в переулок.
Прислушиваясь к нарастающей песне, Анна Михайловна, ладившая во дворе загородку для поросенка, глянула за ворота. «Куда это? – гадала она, всматриваясь в приближающийся обоз. – Кажись, поставки выполнили, страховые и семенные фонды засыпали… Должно, на мельницу. Что же это они как на свадьбу?»
Песня и, главное, колхозники, выглядывавшие с первой подводы, ее взволновали. Показалось, что машут руками именно ей, Анне Михайловне. И правили Буяном невесть откуда взявшиеся ее сыновья.
Гремящий, распевающий обоз круто повернул прямо на Анну Михайловну. Прислонясь к калитке, она окаменела. Она не поверила тому, что подсказало сердце.
– Тпр-ру… приехали с орехами! – Мишка натянул вожжи, хитро и весело поглядывая на мать.
Жарко всхрапывая, Буян рвался ко двору, не слушая Мишкиного приказания. Комья грязи летели из-под копыт. Ленька выхватил у брата вожжи, по-мужицки намотал их на обе руки и, блаженно хмурясь, остановил жеребца. Стали и задние подводы.
– Принимай добро, хозяйка! – закричал дед Панкрат, молодецки соскакивая с телеги. – Тут тебе хлеб и всяческая штуковина за лен… Куда валить прикажешь?
– Что молчишь? Али язык откусила? – шутливо спрашивали колхозники, обступая Анну Михайловну со всех сторон. – Уж не колесом ли тебя опять по голове стукнуло?
– Она соображает, хватит ли избы под продукцию, – сказал Петр Елисеев, раздвигая в улыбке усы. – Как бы не пришлось самой жить на улице.
– Ха-ха! Похоже!
Анна Михайловна знала, что она заработала в колхозе немало. По ночам не раз принималась подсчитывать… Но то, что увидела она сейчас, превзошло все ее самые смелые расчеты.
Немигающими, точно застывшими глазами уставилась Анна Михайловна на ближнюю подводу. Верхний мешок был неполный и худой, в дыру проглядывала янтарная россыпь пшеницы. Ей показалось – пшеница сейчас вывалится в грязь. Она шагнула к телеге, хотела снять прохудившийся мешок. Но у телеги раньше ее очутился Ленька, он взвалил мешок на, спину и пошатнулся под этой тяжестью.
– Надорвешься… пусти… я сама… – прошептала мать, отнимая мешок.
– Не замай!.. говорят тебе… Два таких стащу, – сердито ответил Ленька, медленно двигаясь к крыльцу. Придерживая мешок, мать семенила рядом.
Так, вместе, они отнесли пшеницу в сени. Анна Михайловна указала мужикам, куда класть остальные мешки, и вернулась на улицу. Здесь она столкнулась лицом к лицу с Николаем Семеновым. И тотчас же в памяти ее почему-то встало весеннее утро, она увидела брошенное на землю лукошко с красным кушаком, услышала свой гневный, сдавленный хрип: «Не буду! Земля не принимает… Голодными нас оставите». «Неужели это я говорила? – подумала она, краснея. – Да не может быть!» Но в строгих, как ей показалось, глазах председателя она прочла, что это было именно так, – и, низко опустив голову, ждала укоряющих слов. Она понимала, что заслужила их, как бы они ни были позорны. Сейчас все колхозники будут знать, какая она старая набитая дура.
Но жесткие пальцы Семенова отыскали ее ладонь, крепко сжали, и она услышала совсем другое:
– Поздравляю, Михайловна, как лучшую ударницу… Спасибо тебе от колхоза за честный труд!
Она подняла голову, горячо и удивленно взглянула на Семенова, хотела что-то сказать и не могла. Судорога сдавила ей горло. Анна Михайловна не сдержалась и заплакала.
Ей было немножко стыдно, что она, взрослая, плачет, как дитя. Но бабы сочувственно засморкались в платки и, главное, – слезы были сладкие, каких она давно не знала, и она не скрывала их.
– Ну, завела патефон наша Михайловна… Терпеть не могу, – сказал Мишка, отворачиваясь и пронзительно свистя.
– Пошли на реку, – угрюмо предложил Ленька.
– В самом деле, пойдем на реку… Нам здесь больше делать нечего, – согласился Мишка.
– Качать, качать! – кричали мужики и бабы и подняли на руки смущенную, отбивающуюся Анну Михайловну.
Потом качали Елисеева, Дарью Семенову, Никодима и других хороших людей.
– Прежде так питерщиков качали, – рассказывал Ваня Яблоков парням и девкам, прислонясь к телеге и неторопливо скручивая цигарку. – Отвезут какого ни взять сопляка в город, а он, стервец, лет через пять, глядишь, и прикатит с бубенцами на побывку али жениться… молодец молодцом. Мужики и бабы тут как тут. Качать его, величать… «Кто у нас умен, кто у нас разумен? Иван Степаныч, слышь, умен, свет-князь наш разумен…» Ну там: «Розан мой, розан, виноград, зеленый…» и всякое такое. А парень, стало быть, за честь благодарит, вынимает кошелек. Пожалуйста-с! На ведро вина отвадит и глазом не моргнет. Богач! На закуску – особо… Пир… дым коромыслом!
– Неужели, дядя Ваня, и ты на тройке из Питера приезжал? – спросил Костя Шаров, подмигивая девчатам.
– А как же? Обязательно, – небрежно ответил Яблоков, покуривая и сплевывая. Он важно и независимо оглядел молодежь, отставил ногу в сером разъехавшемся валенке, сонные глаза его лукаво блеснули. – Приедешь эдак на тройке черт чертом, – живо сказал он, усмехаясь, – шляпа соломенная, крахмале во всю грудь… трость с золотым набалдашником… все как полагается. Первые делом ребятне орехов да конфет… горстями прямо оделяешь, не жалко. Ямщик сундуки в избу таскает. Матка коровой ревет от радости… А ты стоишь барином, тросточку в руках вертишь да папироску жуешь… Ну, сбежится народ глядеть… все село сбежится. И пошло как по-писаному…
– А говорили – ты, дядя Ваня, любил из Питера… пешочком ходить, правда? – вкрадчиво спросил Костя.
Девки прыснули смехом.
– Вранье, – пробурчал Яблоков, сразу становясь сонным и вялым.
– Ну? И про баню вранье… что тебя никто мыться не пускал?
– Это почему же? – Ваня закашлялся табаком и полез боком от телеги прочь.
– Да, говорят, насекомых на тебе было видимо-невидимо…
– Питерских!
– Такая вошь, что бросало в дрожь! – хохотали парни, загораживая дорогу Яблокову.
Лохматый и грязный, он топал своими валенками с калошами, лениво отругивался.
Выручил Яблокова Савелий Федорович. Он сердито растолкал парней и девок.
– Нашли над кем зубы скалить, комсомолы сознательные! Постарше вас, можно и помолчать.
– Прикажете к вам в молчуны записаться? – насмешливо поклонившись, спросил Костя. – Ты, дядя Савелий, шуток не стал понимать.
– Али тоже… по тройке соскучился? – зло ввернула словечко Катерина.
Гущин хмуро отмолчался, устало, по-стариковски волоча ноги, побрел было вслед за Яблоковым, потом обернулся.
– По тройкам? Фу-у, старь какая!.. Автомобиля душа просит. Авось на свадьбу на машине прикачу… коли позовешь.
– Дожидайся, черт косой… позову я тебя на свадьбу, – тихо отозвалась Катерина.
Улучив минутку, Анна Михайловна тронула Семенова за рукав, отвела в сторону.
– Коля, забудь то самое… весной. Сделай милость.
– О чем ты, Михайловна! – удивился Семенов. – Я ничего не помню.
Но по смеющимся светлым глазам было видно, что он помнил.
– Ну, спасибо, Коля… от души!
– Да хватит об этом… Скажи лучше, как ты богатством решила распорядиться?
Не дожидаясь ответа, он задумчиво обошел вокруг избы. Кривобокая, почерневшая, она врастала в землю крохотными оконцами. Тонкая березка качалась на крыше в гнилой соломе. Под карнизом свисали зеленые сосули ползучего мха.
Накрапывал дождь. Непокрытая голова председателя смокла и потемнела. Он достал из кармана пиджака мятый картуз. Потом, чуть приподняв руки, сорвал с карниза моховую сосулю, ткнул плечом в трухлявый угол избы и негромко, но так, что все слышали, сказал:
– Урони… а не то я сам уроню.
– Да уж, видно, к тому дело идет… Придется ронять, – согласилась Анна Михайловна.
Вечером, подоив корову и накормив ребят, она ушла из дому. Дождь перестал, но тучи не расходились, и темнело быстро. Лиловые теплые сумерки мягко кутали избы, сараи, овины. От пруда вразвалку пробирались на ночлег гуси. Они не уступили Анне Михайловне дороги и гогочущей белой рекой медленно проплыли мимо нее.
Подождав, она прошла на площадь. Палисада под липами не оказалось. Железная ограда окружала могилу. И вместо дубового креста за оградой поднялся белый остроконечный камень.
Это ее удивило. «И не сказал…» – подумала она про Семенова.
Анна Михайловна прошла за ограду и потрогала мокрый гладкий камень. Ладонь ее нащупала выпуклую звезду. Она выступала как метина зажившей, но незабываемой раны.
Внизу, под памятником, словно пышная лесная кочка, буйно зеленела озимью могила. «И когда успели?» – подосадовала Анна Михайловна. Все-таки она достала из-за пазухи платок, зубами развязала тугой узел. Собрала в гость пшеницу и дрогнувшей рукой посыпала зернами озимь.
«Пташки склюют… помянут».
Долго и бездумно сидела она на лавочке. Было слышно, как падали с лип на землю редкие капли.
Когда совсем стемнело, Анна Михайловна поднялась и молча низко поклонилась могиле, всему, что было для нее дорого.
XVIII
Еще года за три до колхоза, осенью Анна Михайловна посадила около своей избы тополь. Петр Елисеев, должно быть, подчищая в палисаде разросшиеся липы и тополя, навалил целую кучу сучьев на дорогу, Анна Михайловна шла из капустника мимо палисада. Один сук, валявшийся в грязи, ей чем-то приглянулся. Голубоватый, толщиной в руку, он был прямой, как свеча. Она подняла сук, голый конец его обтесала топором, как вострят колья, и вбила в землю около огорода.
«Авось отрастет, – подумала она, – огурцам тень будет». И тут же, в хлопотах по хозяйству, забыла про тополь.
Никто тополь не поливал, никто за ним не ухаживал. Стоял тополь осень и зиму серым омертвелым колом. И даже весной тонкие рогатки прошлогодних отростышей не подавали признаков жизни. Ветер качал мертвый ствол, сучья со звоном ломались, падая на луговину.
«Подсохло… не отросло… – решила Анна Михайловна, заметив однажды тополь, и пожалела свой попусту потраченный труд. – Убрать, пока не иструхлявился вовсе, – подумала она, – в изгородь пойдет али на дрова – все польза».
Анна Михайловна не успела этого тотчас сделать и только в мае, когда кругом все зеленело, она, идя с гумна с поскребышами сена в плетюхе, снова вспомнила о тополе. Отнесла на двор корзину, взяла топор и опять пожалела напрасные свои труды.
Попробовала выдернуть тополь руками – он не поддавался. Подняв топор, Анна Михайловна ухватилась свободной рукой за колючий отростыш, чтобы удобно было рубить. Вдруг сучок вырвался из ее руки и гибким прутом больно хлестнул по лицу.
– Ишь ты! – удивленно проговорила Анна Михайловна и, потирая щеку, отнесла топор в сени.
Несколько дней она наблюдала за тополем, видела, как слезала с деревца, точно чешуя, мертвая кора и на матово-голубых сучках появились почки; вначале такие же, как сучья, голубые, сухие, потом они стали бурыми и липкими. На знакомом колючем отростыше, который ударил Анну Михайловну по лицу, она насчитала шестнадцать почек. Она сковырнула одну и, пачкая пальцы, раздавила. Из душистой шелухи вывалился желто-розовый сморщенный листочек.
Ночью прошел дождь. Лежа на печи, Анна Михайловна слышала, как стучались в окно дождевые капли. А утром тополь сиял ярко-зелеными иголками, на луговине валялась бурая, как от орехов, скорлупа. Горячее солнце сушило мокрую, словно крашенную поднебесным лаком, кору тополя.
Анна Михайловна полюбовалась на тополь и снова про него забыла.
А тополь рос себе да рос на свободе. Осенью он цвел багрянцем и позолотой, быстро роняя тяжелый лист. Зимой он то жалостно, то непокорно гнулся на ветру, все глубже и глубже уходя в снег, а весной одевался густой зеленью и шумел, пугая воробьев в огороде. С каждым годом тополь становился выше и кудрявее.
Обдумывая постройку дома и решив не торопиться, скопить денег побольше, чтобы не стыдно было за новую избу, Анна Михайловна как-то обходила свою старую одворину. Дом и двор, если их рубить просторно, по всему видать, не влезали в одворину – мешал огород. А занимать унавоженные, копанные десятками лет и перекопанные гряды было жалко.
«Такую загороду на новом месте не скоро разведешь. Огурцам и луку здесь вольготно… Опять же тополь придется рубить», – недовольно думала Анна Михайловна, подходя к огороду. Она взглянула на тополь и не узнала его.
Молодо и могуче высится тополь. Курчавая вершина его касалась крыши, и сучья раскинулись вокруг на добрую сажень. Невнятно лепетала глянцевитая листва.
– Вот так вытянулся… точно парень к свадьбе! – вслух подумала изумленная Анна Михайловна. – Поди ж ты! А я и не приметила.







